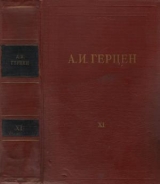
Текст книги "Том 11. Былое и думы. Часть 6-8"
Автор книги: Александр Герцен
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 58 страниц)
M. Бакунин и польское дело
В конце ноября мы получили от Бакунина следующее письмо:
«15 октября 1861. С.-Франсиско. Друзья, мне удалось бежать из Сибири, и, после долгого странствования по Амуру, по берегам Татарского пролива и через Японию, сегодня прибыл я в Сан-Франсиско.
Друзья, всем существом стремлюсь я к вам и, лишь только приеду, примусь за дело: буду у вас служить по польско-славянскому вопросу, который был моей idée fixe с 1846 и моей практической специальностью в 48 и 49 годах. Разрушение, полное разрушение Австрийской империи будет моим последним словом; не говорю – делом: это было бы слишком честолюбиво; для служения ему я готов идти в барабанщики или даже в прохвосты, и, если мне удастся хоть на волос подвинуть его вперед, я буду доволен. А за ним является славная вольная славянская федерация, единственный исход для России, Украйны, Польши и вообще для славянских народов…»
О его намерении уехать из Сибири мы знали несколько месяцев прежде.
К Новому году явилась и собственная пышная фигура Бакунина в наших объятиях.
В нашу работу, в наш замкнутый двойной союз взошел новый элемент, или, пожалуй, элемент старый, воскресшая тень сороковых годов и всего больше 1848 года. Бакунин был тот же, он состарился только телом, дух его был молод и восторжен, как в Москве во время «всенощных» споров с Хомяковым; он был так же предан одной идее, так же способен увлекаться, видеть во всем исполнение своих желаний и идеалов и еще больше готов на всякий опыт, на всякую жертву, чувствуя, что жизни вперед остается не так много и что, следственно, надобно торопиться и не пропускать ни одного случая. Он тяготился долгим изучением, взвешиванием pro и contra и рвался, доверчивый и отвлеченный, как прежде, к делу, лишь бы оно было среди бурь революций, среди разгрома и грозной обстановки[439]439
О Бакунине в IV «Былого и дум», в главе «Сазонов».
[Закрыть]. Он и теперь, как в статьях Жюль Элизара, повторял: «Die Lust der Zerstörung ist eine schaffende Lust»[440]440
«Страсть к разрушению – страсть созидающая» (нем.). – Ред.
[Закрыть]. Фантазии и идеалы, с которыми его заперли в Кенигштейне в 1849, он сберег и привез их через Японию и Калифорнию в 1861 году во всей целости. Даже язык его напоминал лучшие статьи «Реформы» и «Vraie République», резкие речи de la Constituante[441]441
Учредительного собрания (франц.). – Ред.
[Закрыть] и клуба Бланки. Тогдашний дух партий, их исключительность, их симпатии и антипатии к лицам и пуще всего их вера в близость второго пришествия революции – все было налицо.
Тюрьма и ссылка необыкновенно сохраняют сильных людей, если не тотчас их губят; они выходят из нее, как из обморока, продолжая то, на чем они лишились сознания. Декабристы возвратились из-под сибирского снега моложе потоптанной на корню молодежи, которая их встретила. В то время как два поколенья французов несколько раз менялись, краснели и бледнели, поднимаемые приливами и уносимые назад отливами, Барбес и Бланки остались бессменными маяками, напоминавшими из-за тюремных решеток, из-за чужой дали прежние идеалы во всей чистоте.
«Польско-славянский вопрос… разрушение Австрийской империи… вольная славянская и славная федерация…» И все это сейчас, как только он приедет в Лондон… и пишется из С.-Франсиско – одна нога в корабле!
Европейская реакция не существовала для Бакунина, не существовали и тяжелые годы от 1848 до 1858 – они ему были известны вкратце, издалека, слегка. Он их прочел в Сибири – так, как читал в Кайданове о Пунических войнах и о падении Римской империи. Как человек, возвратившийся после мора, он слышал, кто умер, и вздохнул об них обо всех; но он не сидел у изголовья умирающих, не надеялся на их спасение, не шел за их гробом. Совсем напротив, события 1848 были возле, близки к сердцу, подробные и живые… разговоры с Косидьером, речи славян на Пражском съезде, споры с Араго или Руге – все это было для Бакунина вчера, звенело в ушах, мелькало перед глазами.
Впрочем, оно и, сверх тюрьмы, немудрено.
Первые дни после Февральской революции были лучшими днями жизни Бакунина. Возвратившись из Бельгии, куда его вытурил Гизо за его речь на польской годовщине 29 ноября 1847, он с головой нырнул во все тяжкие революционного моря. Он не выходил из казарм монтаньяров, ночевал у них, ел с ними… и проповедовал… все проповедовал: коммунизм et l’égalité du salaire[442]442
и равенство заработной платы (франц.). – Ред.
[Закрыть], нивелирование во имя равенства, освобождение всех славян, уничтожение всех Австрий, революцию en permanence[443]443
непрерывную (франц.). – Ред.
[Закрыть], войну до избиения последнего врага. Префект с баррикад, делавший «порядок из беспорядка», Косидьер не знал, как выжить дорогого проповедника, и придумал с Флоконом отправить его в самом деле к славянамс братской акколадой[444]444
объятием (франц. accolade). – Ред.
[Закрыть] и уверенностью, что он там себе сломит шею и мешать не будет. «Quel homme! Quel homme![445]445
«Что за человек! Что за человек!» (франц.). – Ред.
[Закрыть], – говорил Косидьер о Бакунине. – В первый день революции это просто клад, а на другой день надобно расстрелять»[446]446
– Скажите Косидьеру, – говорил я шутя его приятелям, – что тем-то Бакунин и отличается от него, что и Косидьер славный человек, но что его лучше бы расстрелять накануне революции. Впоследствии, в Лондоне в 1854 году, я ему помянул об этом. Префект в изгнании только ударял огромным кулаком своим в молодецкую грудь с той силой, с которой вбивают сваи в землю, и говорил: «Здесь ношу Бакунина… здесь!»
[Закрыть].
Когда я приехал в Париж из Рима, в начале мая 1848, Бакунин уже витийствовал в Богемии, окруженный староверческими монахами, чехами, кроатами, демократами, и витийствовал до тех пор, пока князь Виндишгрец не положил пушками предел красноречия (и не воспользовался хорошим случаем, чтоб по сей верной оказии не подстрелить невзначай своей жены). Исчезнув из Праги, Бакунин является военным начальником Дрездена; бывший артиллерийский офицер учит военному делу поднявших оружие профессоров, музыкантов и фармацевтов… советует им «Мадонну» Рафаэля и картины Мурильо поставить на городские стены и ими защищаться от пруссаков, которые zu klassisch gebildet[447]447
образованы в слишком классическом духе (нем.). – Ред.
[Закрыть], чтоб осмелились стрелять по Рафаэлю.
Артиллерия ему вообще помогала. По дороге из Парижа в Прагу он наткнулся где-то в Германии на возмущение крестьян, – они шумели и кричали перед замком, не умея ничего сделать. Бакунин вышел из повозки и, не имея времени узнать, в чем дело, построил крестьян и так ловко научил их, что, когда пошел садиться в повозку, чтоб продолжать путь, замок пылал с четырех сторон.
Бакунин когда-нибудь переломит свою лень и сдержит обещание: он когда-нибудь расскажет длинный мартиролог, начавшийся для него после взятия Дрездена. Напомню здесь главные черты. Бакунин был приговорен к эшафоту. Король саксонский заменил топор вечной тюрьмой, потом, без всякого основания, передал его в Австрию. Австрийская полиция думала от него узнать что-нибудь о славянских замыслах. Бакунина посадили в Градчин и, ничего не добившись, отослали его в Ольмюц. Бакунина, скованного, везли под сильным конвоем драгун; офицер, который <сел> с ним в повозку, зарядил при нем пистолет.
– Это для чего же? – спросил Бакунин. – Неужели вы думаете, что я могу бежать при этих условиях?
– Нет, но вас могут отбить ваши друзья; правительство имело насчет этого слухи, и в таком случае…
– Что же?
– Мне приказано посадить вам пулю в лоб.
И товарищи поскакали.
В Ольмюце Бакунина приковали к стене и в этом положении он пробыл полгода. Австрии наконец наскучило даром кормить чужого преступника; она предложила России его выдать; Николаю вовсе не нужно было Бакунина, но отказаться он не имел сил. На русской границе с Бакунина сняли цепи – об этом акте милосердия я слышал много раз; действительно, цепи с него сняли, но рассказчики забыли прибавить, что зато надели другие, гораздо тяжеле. Офицер австрийский, сдавши арестанта, потребовал цепи как казенную к.-к.[448]448
императорско-королевскую (нем. kaiserlich-königliche). – Ред.
[Закрыть] собственность.
Николай похвалил храброе поведение Бакунина в Дрездене и посадил его в Алексеевский равелин. Туда он прислал к нему Орлова и велел ему сказать, что он желает от него записку о немецком и славянском движении (монарх не знал, что все подробности его были напечатаны в газетах). Записку эту он требовал «не как царь, а как духовник». Бакунин спросил Орлова, как понимает государь слово «духовник»: в том ли смысле, что все сказанное на духу должно быть святой тайной? Орлов не знал, что сказать, – эти люди вообще больше привыкли спрашивать, чем отвечать. Бакунин написал журнальный leading article[449]449
передовую статью. – Ред.
[Закрыть]. Николай и этим был доволен. «Он умный и хороший малый, но опасный человек, его надобно держать назаперти», и три целых года после этого высочайшего одобрения Бакунин был схоронен в Алексеевском равелине. Содержание, должно быть, было хорошо, когда и этот гигант изнемогал до того, что хотел лишить себя жизни. В 1854 Бакунина перевели в Шлюссельбург. Николай боялся, что Чарльз Непир его освободит, но Чарльз Непир и C-nie освободили не Бакунина от равелина, а Россию от Николая. Александр II, несмотря на припадок милостей и великодуший, оставил Бакунина в крепости до 1857, потом послал его на житье в Восточную Сибирь. В Иркутске он очутился на воле после девятилетнего заключения. Начальником края был там, на его счастье, оригинальный человек, демократ и татарин, либерал и деспот, родственник Михайлы Бакунина и Михайлы Муравьева и сам Муравьев, тогда еще не Амурский. Он дал Бакунину вздохнуть, возможность человечески жить, читать журналы и газеты, и сам мечтал с ним… о будущих переворотах и войнах. В благодарность Муравьеву Бакунин в голове назначил его главнокомандующим будущей земской армией, назначаемой им, в свою очередь, на уничтожение Австрии и учреждение славянского союзничества.
В 1860 году мать Бакунина просила государя о возвращении сына в Россию; государь сказал, что «при жизни его Бакунина из Сибири не переведут», но, чтоб и она не осталась без утешенья и царской милости, он разрешил ему вступить в службу писцом.
Тогда Бакунин, взяв в расчет красные щеки и сорокалетний возраст императора, решился бежать; я его в этом совершенно оправдываю. Последние годы лучше всего доказывают, что ему нечего в Сибири было ждать. Девяти лет каземата и нескольких лет ссылки было за глаза довольно. Не от его побега, как говорили, стало хуже политическим сосланным, а от того, что времена стали хуже, люди стали хуже. Какое влияние имел побег Бакунина на гнусное преследование, добивание Михайлова? А что какой-нибудь Корсаков получил выговор… об этом не стоит и говорить. Жаль, что не два.
Бегство Бакунина замечательно пространствами, это самое длинное бегство в географическом смысле. Пробравшись на Амур под предлогом торговых дел, он уговорил какого-то американского шкипера взять его с собой к японскому берегу. В Гакодади (?) другой американский капитан взялся его довезти до С.-Франсиско. Бакунин отправился к нему на корабль и застал моряка, сильно хлопотавшего об обеде; он ждал какого-то почетного гостя и пригласил Бакунина. Бакунин принял приглашение и, только когда гость приехал, узнал, что это генеральный русский консул.
Скрываться было поздно, опасно, смешно… он прямо вступил с ним в разговор, сказал, что отпросился сделать прогулку. Небольшая русская эскадра, помнится, адмирала Попова, стояла в море и собиралась плыть к Николаеву.
– Вы не с нашими ли возвращаетесь? – спросил консул.
– Я только что приехал, – отвечал Бакунин, – и хочу еще посмотреть край. Вместе покушавши, они разошлись en bons amis[450]450
добрыми друзьями (франц.). – Ред.
[Закрыть]. Через день он проплыл на американском пароходе мимо русской эскадры… Кроме океана, опасности больше не было.
Как только Бакунин огляделся и учредился в Лондоне, т. е. перезнакомился со всеми поляками и русскими, которые были налицо, он принялся за дело. С страстью проповедования, агитации… пожалуй, демагогии, с беспрерывными усилиями учреждать, устроивать комплоты, переговоры, заводить сношения и придавать им огромное значение у Бакунина прибавляется готовность первому идти на исполнение, готовность погибнуть, отвага принять все последствия. Это натура героическая, оставленная историей не у дел. Он тратил свои силы иногда на вздор, так, как лев тратит шаги в клетке, все думая, что выйдет из нее. Но он не ритор, боящийся исполнения своих слов или уклоняющийся от осуществления своих общих теорий…
Бакунин имел много недостатков. Но недостатки его были мелки, а сильные качества – крупны. Разве это одно не великое дело, что, брошенный судьбою куда б то ни было и схватив две-три черты окружающей среды, он отделял революционную струю и тотчас принимался вести ее далее, раздувать, делая ее страстным вопросом жизни?
Говорят, будто И. Тургенев хотел нарисовать портрет Бакунина в Рудине… но Рудин едва напоминает некоторые черты Бакунина. Тургенев, увлекаясь библейской привычкой бога, создал Рудина по своему образу и подобию; Рудин – Тургенев 2-й, наслушавшийся философского жаргона молодого Бакунина.
В Лондоне он, во-первых, стал революционировать «Колокол» и говорил в 1862 против нас почти то, что говорил в 1847 про Белинского. Мало было пропаганды, надобно было неминуемое приложение, надобно было устроить центры, комитеты; мало было близких и дальних людей, надобны были «посвященные и полупосвященные братья», организация в крае, – славянская организация, польская организация. Бакунин находил нас умеренными, не умеющими пользоваться тогдашним положением, недостаточно любящими решительные средства. Он, впрочем, не унывал и верил, что в скором времени поставит нас на путь истинный. В ожидании нашего обращения Бакунин сгруппировал около себя целый круг славян. Тут были чехи, от литератора Фрича до музыканта, называвшегося Наперстком, сербы, которые просто величались по батюшке – Иоанович, Данилович, Петрович; были валахи, состоявшие в должности славян, с своим вечным еско на конце; наконец, был болгар, лекарь в турецкой армии, и поляки всех епархий… бонапартовской, мерославской, чарторижской… демократы без социальных идей, но с офицерским оттенком; социалисты-католики, анархисты-аристократы и просто солдаты, хотевшие где-нибудь подраться, в Северной или Южной Америке… и преимущественно в Польше.
Отдохнул с ними Бакунин за девятилетнее молчание и одиночество. Он спорил, проповедовал, распоряжался, кричал, решал, направлял, организовывал и ободрял целый день, целую ночь, целые сутки. В короткие минуты, остававшиеся у него свободными, он бросался за свой письменный стол, расчищал небольшое место от золы и принимался писать – пять, десять, пятнадцать писем в Семипалатинск и Арад, в Белград и Царьград, в Бессарабию, Молдавию и Белокриницу. Середь письма он бросал перо и приводил в порядок какого-нибудь отсталого далмата… и, не кончивши своей речи, схватывал перо и продолжал писать, что, впрочем, для него было облегчено тем, что он писал и говорил об одном и том же. Деятельность его, праздность, аппетит и все остальное, как гигантский рост и вечный пот, – все было не по человеческим размерам, как он сам; а сам он – исполин с львиной головой, с всклокоченной гривой.
В пятьдесят лет он был решительно тот же кочующий студент с Маросейки, тот же бездомный bohème с rue de Bourgogne[451]451
богема с Бургундской улицы (франц.). – Ред.
[Закрыть]; без заботы о завтрашнем дне, пренебрегая деньгами, бросая их, когда есть, занимая их без разбора направо и налево, когда их нет, с той простотой, с которой дети берут у родителей – без заботы об уплате, с той простотой, с которой он сам <готов> отдать всякому последние деньги, отделив от них что следует на сигареты и чай. Его этот образ жизни не теснил; он родился быть великим бродягой, великим бездомовником. Если б его кто-нибудь спросил окончательно, что он думает о праве собственности, он мог бы сказать то, что отвечал Лаланд Наполеону о боге: «Sire, в моих занятьях я не встречал никакой необходимости в этом праве!»
В нем было что-то детское, беззлобное и простое, и это придавало ему необычайную прелесть и влекло к нему слабых и сильных, отталкивая одних чопорных мещан[452]452
Когда в споре Бакунин, увлекаясь, с громом и треском обрушивал на голову противника облаву брани, которой бы никому не простили, Бакунину прощали, и я первый. Мартьянов, бывало, говаривал: «Это, Олександр Иванович, – большая Лиза, как же на нее сердиться – дитя!».
[Закрыть].
Как он дошел до женитьбы, я могу только объяснить сибирской скукой. Он свято сохранил все привычки и обычаи родины, т. е. студентской жизни в Москве, – груды табаку лежали на столе вроде приготовленного фуража, зола сигар под бумагами и недопитыми стаканами чая… с утра дым столбом ходил по комнате от целого хора курильщиков, куривших точно взапуски, торопясь, задыхаясь, затягиваясь, словом, так, как курят одни русские и славяне. Много раз наслаждался я удивлением, сопровождавшимся некоторым ужасом и замешательством, хозяйской горничной Гресс, когда она глубокой ночью приносила пятую сахарницу сахару и горячую воду в эту готовальню славянского освобождения.
Долго после отъезда Бакунина из Лондона – № 10 Paddington green – рассказывали об его житье-бытье, ниспровергнувшем все упроченные английскими мещанами понятия и религиозно принятые ими размеры и формы. Заметьте при этом, что горничная и хозяйка без ума любили его.
– Вчера, – говорит Бакунину один из его друзей, – приехал такой-то из России; прекраснейший человек, бывший офицер…
– Я слыхал об нем, его очень хвалили.
– Можно его привести?
– Непременно, да что привести! Где он? Сейчас!
– Он, кажется, несколько конституционалист.
– Может быть, но…
– Но, я знаю, рыцарски отважный и благородный человек.
– И верный?
– Его очень уважают в Orsett House’e.
– Идем.
– Куда же? Ведь он хотел к вам прийти, мы так сговорились – я его приведу.
Бакунин бросается писать; пишет, кой-что перемарывает, переписывает и надписывает в Яссы, запечатывает пакет и в беспокойстве ожидания начинает ходить по комнате ступней, от которой и весь дом 10 № Paddington green ходит ходнем с ним вместе.
Является офицер – скромно и тихо. Бакунин le met à l’aise[453]453
усаживает его поудобнее (франц.). – Ред.
[Закрыть], говорит, как товарищ, как молодой человек, увлекает, журит за конституционализм и вдруг спрашивает:
– Вы, наверно, не откажетесь сделать что-нибудь для общего дела?..
– Без сомнения…
– Вас здесь ничего не удерживает?..
– Ничего; я только что приехал… я…
– Можете вы ехать завтра, послезавтра с этим письмом в Яссы?
Этого не случалось с офицером ни в действующей армии во время войны, ни в генеральном штабе во время мира, однако, привыкнувший к военному послушанию, он, помолчавши, говорит не совсем своим голосом:
– О, да!
– Я так и знал. Вот письмо совсем готовое.
– Да я хоть сейчас… только… – офицер конфузится, – …я никак не рассчитывал на эту поездку.
– Что? Денег нет? Ну, так и говорите. Это ничего не значит. Я возьму для вас у Герцена – вы ему потом отдадите. Что тут… всего… всего какие-нибудь 20 liv. Я сейчас напишу ему. В Яссах вы деньги найдете. Оттуда проберитесь на Кавказ. Там нам особенно нужен верный человек…
Пораженный, удивленный офицер и его сопутник, пораженный и удивленный, как и он, уходят. Маленькая девочка, бывшая у Бакунина на больших дипломатических посылках, летит ко мне по дождю и слякоти с запиской. Я для нее нарочно завел шоколад en losange[454]454
в ромбиках (франц.). – Ред.
[Закрыть], чтоб чем-нибудь утешить ее в климате ее отечества, а потому даю ей большую горсть и прибавляю:
– Скажите высокому gentleman’y, что я лично с ним переговорю.
Действительно, переписка оказывается излишней: к обеду, т. е. через час, является Бакунин.
– Зачем двадцать фунтов для **?
– Не для него, для дела… а что, брат, ** – прекраснейший человек!
– Я его знаю несколько лет – он бывал прежде в Лондоне.
– Это такой случай… пропустить его грешно, я его посылаю в Яссы. Да потом он осмотрит Кавказ!
– В Яссы?.. И оттуда на Кавказ?
– Ты пойдешь сейчас острить… Каламбурами ничего не докажешь…
– Да ведь тебе ничего не нужно в Яссах.
– Ты почем знаешь?
– Знаю потому, во-первых, что никому ничего не нужно в Яссах, а во-вторых, если б нужно было, ты неделю бы постоянно мне говорил об этом. Тебе попался человек… молодой, застенчивый, хотящий доказать свою преданность, – ты и придумал послать его в Яссы. Он хочет видеть выставку – а ты ему покажешь Молдовалахию. Ну, скажи-ка, зачем?
– Какой любопытный. Ты в эти дела со мной не входишь – какое же ты имеешь право спрашивать?
– Это правда, я даже думаю, что этот секрет ты скроешь ото всех… ну, а только денег давать на гонцов в Яссы и Букарест я нисколько не намерен.
– Ведь он отдаст – у него деньги будут.
– Так пусть умнее употребит их; полно, полно – письмо пошлешь с каким-нибудь Петреско-Манон-Леско, а теперь пойдем есть.
И Бакунин, сам смеясь и качая головой, которая его все-таки перетягивала, внимательно и усердно принимался за труд обеда, после которого всякий раз говорил: «Теперь настала счастливая минута» – и закуривал папироску.
Бакунин принимал всех, всегда, во всякое время. Часто он еще, как Онегин, спал или ворочался на постели, которая хрустела, а уж два-три славянина с отчаянной торопливостью курили в его комнате; он тяжело вставал, обливался водой и в ту же минуту принимался их поучать; никогда не скучал он, не тяготился ими; он мог не уставая говорить со свежей головой с самым умным и самым глупым человеком. От этой неразборчивости выходили иногда пресмешные вещи.
Бакунин вставал поздно – нельзя было иначе и сделать, употребляя ночь на беседу и чай.
Раз, часу в одиннадцатом, слышит он, кто-то копошится в его комнате. Постель его стояла в большом алькове, задернутом занавесью.
– Кто там? – кричит Бакунин, просыпаясь.
– Русский.
– Ваша фамилия?
– Такой-то.
– Очень рад.
– Что вы это так поздно встаете – а еще демократ….
…Молчание… слышен плеск воды… каскады.
– Михаил Александрович!
– Что?
– Я вас хотел спросить: вы венчались в церкви?
– Да.
– Нехорошо сделали. Что за образец непоследовательности – вот и Тургенев свою дочь прочит замуж. Вы, старики, должны нас учить… примером.
– Что вы за вздор несете…
– Да вы скажите, по любви женились?
– Вам что за дело?
– У нас был слух, что вы женились оттого, что невеста ваша была богата[455]455
Бакунин ничего не взял за невестой.
[Закрыть].
– Что вы это – допрашивать меня пришли. Ступайте к черту!
– Ну, вот вы и рассердились – а я, право, от чистой души. Прощайте. А я все-таки зайду.
– Хорошо, хорошо – только будьте умнее.
…Между тем польская гроза приближалась больше и больше. Осенью 1862 явился на несколько дней в Лондоне Потебня. Грустный, чистый, беззаветно отдавшийся урагану, он приезжал поговорить с нами от себя и от товарищей и – все-таки идти своей дорогой. Чаще и чаще являлись поляки из края: их язык был определеннее и резче, они шли к взрыву – прямо и сознательно. Мне с ужасом мерещилось, что они идут в неминуемую гибель.
– Смертельно жаль Потебню и его товарищей, – говорил я Бакунину, – и тем больше, что вряд по дороге ли им с поляками…
– По дороге, по дороге, – возражал Бакунин. – Не сидеть же нам вечно сложа руки и рефлектируя. Историю надобно принимать как представляется, не то всякий раз будешь зауряд то позади, то впереди.
Бакунин помолодел – он был в своем элементе. Он любил не только рев восстания и шум клуба, площадь и баррикады – он любил также и приготовительную агитацию, эту возбужденную и вместе с тем задержанную жизнь конспираций, консультаций, неспаных ночей, переговоров, договоров, ректификаций[456]456
исправлений (франц. rectification). – Ред.
[Закрыть], шифров, химических чернил и условных знаков. Кто из участников не знает, что репетиции к домашнему спектаклю и приготовление елки составляют одну из лучших и изящных частей. Но как он ни увлекался приготовлениями елки, у меня на сердце скреблись кошки – я постоянно спорил с ним и нехотя делал не то, что хотел.
Здесь я останавливаюсь на грустном вопросе. Каким образом, откуда взялась во мне эта уступчивость с ропотом, эта слабость с мятежом и протестом? С одной стороны, достоверность, что поступать надобно так; с другой – готовность поступать совсем иначе. Эта шаткость, эта неспетость, dieses Zögernde[457]457
эта нерешительность (нем.). – Ред.
[Закрыть] наделали в моей жизни бездну вреда и не оставили даже слабую утеху в сознании ошибки невольной, несознанной; я делал промахи à contre-cœur[458]458
поневоле (франц.). – Ред.
[Закрыть] – вся отрицательная сторона была у меня перед глазами. Я рассказывал в одной из предыдущих частей мое участие в 13 июне 1849. Это тип того, о чем я говорю. Ни на одну минуту я не верил в успех 13 июня, я видел нелепость движенья и его бессилие, народное равнодушие, освирепелость реакции и мелкий уровень революционеров; я писал об этом и все же пошел на площадь, смеясь над людьми, которые шли.
Сколькими несчастиями было бы меньше в моей жизни… сколькими ударами, если б я имел во всех важных случаях силу слушаться самого себя… Меня упрекали в увлекающемся характере… Увлекался и я, но это не составляет главного. Отдаваясь по удобовпечатлительности, я тотчас останавливался – мысль, рефлекция и наблюдательность всегда почти брали верх в теории, но не в практике. Тут и лежит вся трудность задачи, почему я давал себя вести nolens-volens[459]459
волей-неволей (лат.). – Ред.
[Закрыть]…Причиной быстрой сговорчивости был ложный стыд, а иногда и лучшие побуждения – любви, дружбы, снисхождения… но почему же все это побеждало логику?..
…После похорон Ворцеля, 5 февраля 1857, когда все провожавшие разбрелись по домам, и я, воротившись в свою комнату, сел грустно за свой письменный стол, мне пришел в голову печальный вопрос: не опустили ли мы в землю вместе с этим праведником и не схоронили ли с ним все наши отношения с польской эмиграцией?
Кроткая личность старика, являвшаяся примиряющим началом при беспрерывно возникавших недоразумениях, исчезла, а недоразумения остались. Частно, лично мы могли любить того, другого из поляков, быть с ними близкими, но вообще одинакового пониманья между нами было мало, и оттого отношения наши были натянуты, добросовестно неоткровенны, мы делали друг другу уступки, т. е. ослабляли сами себя, уменьшали друг в друге чуть ли не лучшие силы.
Договориться до одинакого пониманья было невозможно. Мы шли с разных точек – и пути наши только пересекались в общей ненависти к петербургскому самовластью. Идеал поляков был за ними: они шли к своему прошедшему, насильственно срезанному, и только оттуда могли продолжать свой путь. У них была бездна мощей, а у нас – пустые колыбели. Во всех их действиях и во всей поэзии столько же отчаяния, сколько яркой веры.
Они ищут воскресения мертвых – мы хотим поскорее схоронить своих. Формы нашего мышления, упованья не те, весь гений наш, весь склад не имеет ничего сходного. Наше соединение с ними казалось им то mésalliance’ом, то рассудочным браком. С нашей стороны было больше искренности, но не больше глубины – мы сознавали свою косвенную вину, мы любили их отвагу и уважали их несокрушимый протест. Что они могли в нас любить? что уважать? Они переламывали себя, сближаясь с нами, они делали для нескольких русских почетное исключение.
В острожной темноте николаевского царствования, сидя назаперти тюремными товарищами, мы больше сочувствовали друг другу, чем знали. Но когда окно немного приотворилось, мы догадались, что нас привели по разным дорогам и что мы разойдемся по разным. После Крымской кампании мы радостно вздохнули – а их наша радость оскорбила: новый воздух в России им напомнил их утраты, а не надежды. У нас новое время началось с заносчивых требований, мы рвались вперед, готовые все ломать… у них – с панихид и упокойных молитв.
Но правительство второй раз нас спаяло с ними. Перед выстрелами по попам и детям, по распятьям и детям, перед выстрелами по гимнам и молитвам замолкли все вопросы, стерлись все разницы… Со слезами и плачем написал я тогда ряд статей, глубоко тронувших поляков.
Старик Адам Чарторижский со смертного одра прислал мне с сыном теплое слово, в Париже депутация поляков поднесла мне адрес, подписанный четырьмястами изгнанников, к которому присылались подписи отовсюду, даже от польских выходцев, живших в Алжире и Америке. Казалось, во многом мы были близки, но шаг глубже – и рознь, резкая рознь бросалась в глаза.
…Раз у меня сидели Ксаверий Браницкий, Хоецкий и еще кто-то из поляков – все они были проездом в Лондоне и заехали пожать мне руку за статьи. Зашла речь о выстреле в Константина.
– Выстрел этот, – сказал я, – страшно повредит вам. Может, правительство и уступило бы кое-что – теперь оно ничего не уступит и сделается вдвое свирепее.
– Да мы только этого и хотим! – заметил с жаром Ш.-Э. – Для нас нет хуже несчастья, как уступки… мы хотим разрыва… открытой борьбы.
– Желаю от души, чтоб вы не раскаялись.
Ш.-Э. иронически улыбнулся, и никто не прибавил ни слова. Это было летом 1861. А через полтора года говорил то же Падлевский, отправляясь через Петербург в Польшу.
Кости были брошены!..
Бакунин верил в возможность военно-крестьянского восстания в России, верили отчасти и мы, да верило и само правительство – как оказалось впоследствии рядом мер, статей по казенному заказу и казней по казенному приказу. Напряжение умов, брожение умов было неоспоримо, и никто не предвидел тогда, что его свернут на свирепый патриотизм.
Бакунин, не слишком останавливаясь на взвешивании всех обстоятельств, смотрел на одну дальнюю цель и принял второй месяц беременности за девятый. Он увлекал не доводами, а желанием. Он хотел верить и верил, что Жмудь и Волга, Дон и Украйна восстанут, как один человек, услышав о Варшаве; он верил, что наш старовер воспользуется католическим движением, чтоб узаконить раскол.
В том, что между офицерами войск, расположенных в Польше и Литве, общество, к которому принадлежал Потебня, росло и крепло, – в этом сомнения не могло быть; но оно далеко не имело той силы, которую ему преднамеренно придавали поляки и наивно Бакунин…
Как-то в конце сентября пришел ко мне Бакунин особенно озабоченный и несколько торжественный.
– Варшавский Центральный комитет, – сказал он, – прислал двух членов, чтоб переговорить с нами. Одного из них ты знаешь – это Падлевский; другой – Гиллер, закаленный боец, – он из Польши прогулялся в кандалах до рудников и, только что возвратился, снова принялся за дело. Сегодня вечером я их приведу к вам, а завтра соберемся у меня – надобно окончательно определить наши отношения.
Тогда набирался мой ответ офицерам[460]460
«Колокол», 1862.
[Закрыть].
– Моя программа готова – я им прочту мое письмо.
– Я согласен с твоим письмом, ты это знаешь… но не знаю, все ли понравится им; во всяком случае, я думаю, что этого им будет мало.
Вечером Бакунин пришел с тремя гостями вместо двух. Я прочел мое письмо. Во время разговора и чтения Бакунин сидел встревоженный, как бывает с родственниками на экзамене или с адвокатами, трепещущими, чтоб их клиент не проврался бы и не испортил бы всей игры защиты, хорошо налаженной если не по всей правде, то к успешному концу.
Я видел по лицам, что Бакунин угадал и что чтение не то чтоб особенно понравилось.
– Прежде всего, – заметил Гиллер, – мы прочтем письмо к вам от Центрального комитета.
Читал М<илович>; документ этот, известный читателям «Колокола», был написан по-русски – не совсем правильным языком, но ясно. Говорили, что я его перевел с французского и переиначил, – это неправда. Все трое говорили хорошо по-русски.
Смысл акта состоял в том, чтоб через нас сказать русским, что слагающееся польское правительство согласно с нами и кладет в основание своих действий «признание <права> крестьян на землю, обработываемую ими, и полную самоправность всякого народа располагать своей судьбой». Это заявление, говорил М., обязывало меня смягчить вопросительную и «сомневающуюся» форму в моем письме. Я согласился на некоторые перемены и предложил им с своей стороны посильнее оттенить и яснее высказать мысль об самозаконности провинций – они согласились. Этот спор из-за слов показывал, что сочувствие наше к одним и тем же вопросам не было одинаково.








