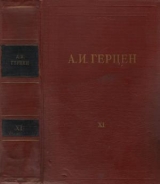
Текст книги "Том 11. Былое и думы. Часть 6-8"
Автор книги: Александр Герцен
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 58 страниц)
То же должно сказать о жерсейской партии Виктора Гюго. Виктор Гюго никогда не был в настоящем смысле слова политическим деятелем. Он слишком поэт, слишком под влиянием своей фантазии, чтоб быть им. И, конечно, я это говорю не в порицание ему. Социалист-художник, он вместе с тем был поклонник военной славы, республиканского разгрома, средневекового романтизма и белых лилий, – виконт и гражданин, пэр орлеанской Франции и агитатор 2 декабря; это пышная, великая личность, но не глава партии, несмотря на решительное влияние, которое он имел на два поколенья. Кого не заставил задуматься над вопросом смертной казни «Последний день осужденного» и в ком не возбуждали чего-то вроде угрызения совести резкие, страшно и странно освещенные, на манер Турнера, картины общественных язв, бедности и рокового порока?
Февральская революция застала Гюго врасплох; он не понял ее, удивился, отстал, наделал бездну ошибок и был до тех пор реакционером, пока реакция в свою очередь не опередила его. Приведенный в негодование ценсурой театральных пьес и римскими делами, он явился на трибуне конституирующего Собрания с речами, раздавшимися по всей Франции. Успех и рукоплескания увлекли его дальше и дальше. Наконец, 2 декабря 1851 он стал во весь рост. Он в виду штыков и заряженных ружей звал народ к восстанию, под пулями протестовал против соuр d’Etat и удалился из Франции, когда нечего было в ней делать. Раздраженным львом отступил он в Жерсей; оттуда, едва переводя дух, он бросил в императора своего «Napoléon le Petit», потом свои «Châtiments». Как ни старались бонапартистские агенты примирить старого поэта с новым двором – не могли. «Если останутся хоть десять французов в изгнании – я останусь с ними; если три – я буду в их числе; если останется один, то этот изгнанник буду я. Я не возвращусь иначе, как в свободную Францию».
Отъезд Гюго из Жерсея в Гернсей, кажется, убедил еще больше его друзей и его самого в политическом значении, в то время как отъезд этот мог только убедить в противном. Дело было так. Когда Ф. Пиа написал свое письмо к королеве Виктории, после ее посещения к Наполеону, он, прочитав его на митинге, отослал его в редакцию «L’Homme». Свентославский, печатавший «L’Homme» на свой счет в Жерсее, был тогда в Лондоне. Он вместе с Ф. Пиа приезжал ко мне и, уходя, отвел меня в сторону и сказал, что ему знакомый его lawyer[51]51
юрист (англ.). – Ред.
[Закрыть] сообщил, что за это письмо легко можно преследовать журнал в Жерсее, состоящем на положении колонии, а Пиа хочет непременно в «L’Homme». Свентославский сомневался и хотел знать мое мнение.
– Не печатайте.
– Да я и сам думаю так, только вот что скверно: он подумает, что я испугался.
– Как же не бояться при теперешних обстоятельствах потерять несколько тысяч франков?
– Вы правы – этого я не могу, не должен делать.
Свентославский, так премудро рассуждавший, уехал в Жерсей и письмо напечатал.
Слухи носились, что министерство хотело что-то сделать. Англичане были обижены за тон, с которым Пиа обращался к квине[52]52
королеве (англ. queen). – Ред.
[Закрыть]. Первым результатом этих слухов было то, что Ф. Пиа перестал ночевать у себя дома: он боялся в Англии visite domiciliaire[53]53
домашнего обыска (франц.). – Ред.
[Закрыть] и ночного ареста за напечатанную статью! Преследовать судом правительство и не думало; министры подмигнули жерсейскому губернатору, или как там он у них называется, и тот, пользуясь беззаконными правами, которые существуют в колониях, велел Свентославскому выехать с острова. Свентославский протестовал, и с ним человек десять французов, в том числе В. Гюго. Тогда полицейский Наполеон Жерсея велел выехать всем протестовавшим. Им следовало не слушаться донельзя; пусть бы полиция схватила кого-нибудь за шиворот и выбросила бы с острова; тогда можно было бы поставить вопрос о высылке перед суд. Это и предлагали французам англичане. Процессы в Англии безобразно дороги, но издатели «Daily News» и других либеральных листов обещали собрать какую надобно сумму, найти способных защитников. Французам путь легальности показался скучен и долог, противен, и они с гордостью оставили Жерсей, увлекая с собой Свентославского и С. Телеки.
Объявление полицейского приказа В. Гюго особенно торжественно. Когда полицейский чиновник взошел к нему, чтоб прочесть приказ, Гюго позвал своих сыновей, сел, указал на стул чиновнику и, когда все уселись, – как в России перед отъездом, – он встал и сказал: «Г. комиссар, мы делаем теперь страницу истории (Nous faisons maintenant une page de l’histoire). Читайте вашу бумагу». Полицейский, ожидавший, что его выбросят за двери, был удивлен легостью победы, обязал Гюго подпиской, что он едет, и ушел, отдавая справедливость учтивости французов, давших даже ему стул. Гюго уехал, и другие с ним вместе оставили Жерсей. Большая часть поехали не дальше Гернсея; другие отправились в Лондон; дело было проиграно, и право высылать осталось непочатым.
Серьезных партий, как мы сказали, было только две, т. е. партия формальной республики и насильственного социализма – Ледрю-Роллена и Луи Блана. Об нем я еще не говорил, а знал его почти больше, чем всех французских изгнанников.
Нельзя сказать, чтоб воззрение Луи Блана было неопределенно, – оно во все стороны обрезано, как ножом. Луи Блан в изгнании приобрел много фактических сведений (по своей части, т. е. по части изучения первой французской революции), несколько устоялся и успокоился, но в сущности своего воззрения не подвинулся ни на один шаг с того времени, как писал «Историю десяти лет» и «Организацию труда». Осевшее и устоявшееся было то же самое, что бродило смолоду.
В маленьком тельце Луи Блана живет бодрый и круто сложившийся дух, très éveillé[54]54
всегда оживленный (франц.). – Ред.
[Закрыть], с сильным характером, с своей определенно вываянной особностью, и притом совершенно французской. Быстрые глаза, скорые движения придают ему какой-то вместе подвижный и точеный вид, не лишенный грации. Он похож на сосредоточенного человека, сведенного на наименьшую величину, в то время как колоссальность его противника Ледрю-Роллена похожа на разбухнувшего ребенка, на карлу в огромных размерах или под увеличительным стеклом. Они оба могли бы чудесно играть в Гулливеровом путешествии.
Луи Блан – и это большая сила и очень редкое свойство – мастерски владеет собой, в нем много выдержки, и он в самом пылу разговора, не только публично, но и в приятельской беседе, никогда не забывает самые сложные отношения, никогда не выходит из себя в споре, не перестает весело улыбаться… и никогда не соглашается с противником. Он мастер рассказывать и, несмотря на то, что много говорит как француз, никогда не скажет лишнего слова как корсиканец.
Он занимается только Францией, знает только Францию и ничего не знает «разве ее». События мира, открытия науки, землетрясения и наводнения занимают его по той мере, по которой они касаются Франции. Говоря с ним, слушая его тонкие замечания, его занимательные рассказы, легко изучить характер французского ума, и тем легче, что мягкие, образованные формы его не имеют в себе ничего, вызывающего раздражительную колкость или ироническое молчание тем самодовольным, иногда простодушным, нахальством, которое делает так несносным сношения с современными французами.
Когда я ближе познакомился с Луи Бланом, меня поразил внутренний невозмутимый покой его. В его разумении все было в порядке и решено; там не возникало вопросов, кроме второстепенных, прикладных. Свои счеты он свел: er war im Klaren mit sich[55]55
он все уяснил для себя (нем.). – Ред.
[Закрыть]; ему было нравственно свободно, как человеку, который знает, что он прав. В частных ошибках своих, в промахах друзей он сознавался добродушно; теоретических угрызений совести у него не было. Он был доволен собой после разрушения республики 1848, как Моисеев бог после создания мира. Подвижной ум его в ежедневных делах и подробностях был японски неподвижен во всем общем. Эта незыблемая уверенность в основах, однажды принятых, слегка проветриваемая холодным рациональным ветерком, прочно держалась на нравственных подпорочках, силу которых он никогда не испытывал, потому что верил в нее. Мозговая религиозность и отсутствие скептического сосания под ложкой обводили его китайской стеной, за которую нельзя было забросить ни одной новой мысли, ни одного сомнения[56]56
Все это, за исключением некоторых добавок и поправок, писано лет десять тому назад. Я должен признаться, что последние события заставили меня отчасти изменить мое мнение о Луи Блане. Он действительно сделал шаг вперед – и, как следовало ждать от якобинских старообрядцев, он ему не прошел даром.
– Что делать, – говорил еще мне в разгар мехиканской войны Луи Блан, – честь нашего знамени компрометирована.
Мнение чисто французское и совершенно противучеловеческое. Видно, оно сильно мучило Луи Блана. Через год, за обедом, который давали в Брюсселе В. Гюго после издания «Les Misérables», Луи Блан в своей речи сказал: «Горе народу, когда его понятие о чести вообще не совпадает с понятием военной чести». Тут был целый переворот. Он-то и обличился при начале последней войны. Энергические, полные меткости и истины статьи Луи Блана, помещаемые в «Le Temps», возбудили грозу «Siècle’я» и «Opinion National»; они чуть не выдали Луи Блана за австрийского агента – и выдали бы совсем, если б он не пользовался действительно заслуженной репутацией чистоты.
Не даром достается французам прогресс.
[Закрыть].
Я иногда, шутя, останавливал его на общих местах, которые он, вероятно, повторял годы, не думая, чтоб можно было возражать на такие почтенные истины, и сам не возражая:
– Жизнь человека – великий социальный долг, человек должен постоянно приносить себя на жертву обществу…
– Зачем же? – спросил я вдруг.
– Как зачем? Помилуйте: вся цель, все назначение лица – благосостояние общества.
– Оно никогда не достигнется, если все будут жертвовать и никто не будет наслаждаться.
– Это игра слов.
– Варварская сбивчивость понятий, – говорил я, смеясь.
– Мне никак не дается материалистическое понятие о духе, – говорил он раз, – все же дух и материя разное, – тесно связанное, так тесно, что они и не являются врозь, но все же они не одно и то же… – И, видя, что как-то доказательство идет плохо, он вдруг прибавил: – Ну вот, я теперь закрываю глаза и воображаю моего брата, вижу его черты, слышу его голос – где же материальное существование этого образа?
Я сначала думал, что он шутит, но, видя, что он говорит совершенно серьезно, я заметил ему, что образ его брата на сию минуту в фотографическом заведении, называемом мозгом, и что вряд есть ли портрет Шарля Блана отдельно от фотографического снаряда…
– Это совсем другое дело, материально в моем мозгу нет изображения моего брата.
– Почем вы знаете?
– А вы почем?
– По наведению.
– Кстати – это напоминает мне преуморительный анекдот…
И тут, как всегда, рассказ о Дидро или M-me Tencin, очень милый, но вовсе не идущий к делу.
В качестве преемника Максимилиана Робеспьера Луи Блан – поклонник Руссо и в холодных отношениях с Вольтером. В своей «Истории» он по-библейски разделил всех деятелей на два стана. Одесную – агнцы братства; ошуйю – козлы ячности и эгоизма. Эгоистам вроде Монтеня пощады нет, и ему досталось порядком. Луи Блан в этой сортировке ни на чем не останавливается и, встретив финансиста Лау, смело зачислил его по братству, чего, конечно, отважный шотландец никогда не ожидал.
В 1856 году приезжал в Лондон из Гааги Барбес. Луи Блан привел его ко мне. С умилением смотрел я на страдальца, который провел почти всю жизнь в тюрьме. Я прежде видел его один раз – и где? В окне Hôtel de Ville 15 мая 1848, за несколько минут перед тем, как ворвавшаяся Национальная гвардия схватила его[57]57
До чего доходило остервенение хранителей порядка в этот день, можно измерить тем, что Национальная гвардия схватила на бульваре Луи Блана, которого вовсе не следовало арестовать и которого полиция тотчас велела освободить. Видя это, национальный гвардеец, державший его, схватил его за палец, врезал в него свои ногти и повернул последний сустав.
[Закрыть].
Я звал их на другой день обедать; они пришли, и мы просидели до поздней ночи.
Они просидели до поздней ночи, вспоминая о 1848 годе; когда я проводил их на улицу и возвратился один в мою комнату, мною овладела бесконечная грусть; я сел за свой письменный стол и готов был плакать…
Я чувствовал то, что должен ощущать сын, возвращаясь после долгой разлуки в родительский дом. Он видит, как в нем все почернело, покривилось, отец его постарел, не замечая того; сын очень замечает, и ему тесно, он чувствует близость гроба, скрывает это, но свиданье не оживляет его, не радует, а утомляет.
Барбес, Луи Блан! Ведь это всё старые друзья, почетные друзья кипучей юности. «Histoire de Dix ans», процесс Барбеса перед Камерой пэров – все это так давно обжилось в голове, в сердце, со всем с этим мы так сроднились – и вот они налицо.
Самые злые враги их никогда не осмеливались заподозреть неподкупную честность Луи Блана или набросить тень на рыцарскую доблесть Барбеса. Обоих все видели, знали во всех положениях, у них не было частной жизни, не было закрытых дверей. Одного из них мы видели членом правительства, другого за полчаса до гильотины. В ночь перед казнию Барбес не спал, а спросил бумаги и стал писать; строки эти сохранились, я их читал. В них есть французский идеализм, религиозные мечты, но ни тени слабости; его дух не смутился, не уныл; с ясным сознанием приготовлялся он положить голову на плаху и покойно писал, когда рука тюремщика сильно стукнула в дверь. «Это было на рассвете, я (и это он мне рассказывал сам) ждал исполнителей», – но вместо палачей взошла его сестра и бросилась к нему на шею. Она выпросила, без его ведома, у Людвика-Филиппа перемену наказания и скакала на почтовых всю ночь, чтоб успеть.
Колодник Людвика-Филиппа через несколько лет является наверху цивического[58]58
гражданского, от civique (франц.). – Ред.
[Закрыть] торжества: цепи сняты ликующим народом, его везут в триумфе по Парижу. Но прямое сердце Барбеса не смутилось; он явился первым обвинителем Временного правительства за руанские убийства. Реакция росла около него, спасти республику можно было только дерзкой отвагой, и Барбес 15 мая сделал то, чего не делали ни Ледрю-Роллен, ни Луи Блан, чего испугался Косидьер! Coup d’Etat не удался, и Барбес, колодник республики, снова перед судом. Он в Бурже так же, как в Камере пэров, говорит законникам мещанского мира, как говорил грешному старцу Пакье: «Я вас не признаю за судей, вы враги мои, я ваш военнопленный, делайте со мною что хотите, но судьями я вас не признаю». И снова тяжелая дверь пожизненной тюрьмы затворилась за ним.
Случайно, против своей воли, вышел он из тюрьмы; Наполеон его вытолкнул из нее почти в насмешку, прочитав во время Крымской войны письмо Барбеса, в котором он, в припадке галльского шовинизма, говорит о военной славе Франции. Барбес удалился было в Испанию; перепуганное и тупое правительство выслало его. Он уехал в Голландию и там нашел покойное, глухое убежище.
И вот этот-то герой и мученик вместе с одним из главных деятелей Февральской республики, с первым государственным человеком социализма вспоминали и обсуживали прошедшие дни славы и невзгодья!
А меня давила тяжелая тоска; я с несчастной ясностью видел, что они тоже принадлежат истории другого десятилетия, которая окончена до последнего листа, до переплета!
Окончена не для них лично, а для всей эмиграции и для всех теперичных политических партий. Живые и шумные десять, даже пять лет тому назад, они вышли из русла и теряются в песке, воображая, что всё текут в океан. У них нет больше ни тех слов, которые, как слово «республика», пробуждали целые народы, ни тех песен, как «Марсельеза», которые заставляли содрогаться каждое сердце. У них и враги не той же величины и не той же пробы; нет ни седых феодальных привилегий короны, с которыми бы было трудно сражаться, ни королевской головы, которая бы, скатываясь с эшафота, уносила с собой целую государственную организацию. Казните Наполеона – из этого не будет 21 января; разберите по камням Мазас – из этого не выйдет взятия Бастилии! Тогда, в этих громах и молниях, раскрывалось новое откровение – откровение государства, основанного на разуме, новое искупление из средневекового мрачного рабства. С тех пор искупление революцией обличилось несостоятельным, на разуме государство не устроилось. Политическая реформация выродилась, как и религиозная, в риторическое пустословие, охраняемое слабостью одних и лицемерием других. «Марсельеза» остается святым гимном, но гимном прошедшего, как «Gottes feste Burg», звуки той и другой песни вызывают и теперь ряд величественных образов, как в макбетовском процессе теней – всё цари, но всё мертвые.
Последний едва еще виден в спину, а об новом только слухи. Мы в междуцарствии; пока, до наследника, полиция все захватила во имя наружного порядка. Тут не может быть и речи о правах, это временные необходимости, это Lynch law[59]59
закон Линча (англ.). – Ред.
[Закрыть] в истории, экзекуция, оцепление, карантинная мера. Новый порядок, совместивший все тяжкое монархии и все свирепое якобинизма, огражден не идеями, не предрассудками, а страхами и неизвестностями. Пока одни боялись, другие ставили штыки и занимали места. Первый, кто прорвет их цепь, пожалуй, и займет главное место, занятое полицией, – только он и сам сделается сейчас квартальным.
Это напоминает нам, как Косидьер вечером 24 февраля пришел в префектуру с ружьем в руке, сел в кресла только что бежавшего Делессера, позвал секретаря, сказал ему, что он назначен префектом, и велел подать бумаги. Секретарь так же почтительно улыбнулся, как Делессеру, так же почтительно поклонился и пошел за бумагами, и бумаги пошли своим чередом; ничего не переменилось, только ужин Делессера съел Косидьер.
Многие узнали пароль префектуры, но лозунга истории не знают. Они, когда было время, поступили точно так, как Александр I: они хотели, чтоб старому порядку был нанесен удар, но не смертельный; а Бенигсена или Зубова у них не было.
И вот почему, если они снова сойдут на арену, они ужаснутся людской неблагодарности, и пусть останутся при этой мысли, пусть думают, что это одна неблагодарность. Мысль эта мрачна, но легче многих других. А еще лучше им вовсе не ходить туда; пусть они нам и нашим детям повествуют о своих великих делах. Сердиться за этот совет нечего: живое меняется, неизменное становится памятником. Они оставили свою бразду так, как свою оставят за ними идущие, и их обгонит в свою очередь свежая волна, а потом все – бразды… живое и памятники – все покроется всеобщей амнистией вечного забвения!
На меня сердятся многие за то, что я высказываю эти вещи. «В ваших словах, – говорил мне очень почтенный человек, – так и слышится посторонний зритель».
А ведь я не посторонним пришел в Европу. Посторонним я сделался. Я очень вынослив, но выбился, наконец, из сил.
Я пять лет не видал светлого лица, не слыхал простого смеха, понимающего взгляда. Всё фельдшеры были возле да прозекторы. Фельдшеры всё пробовали лечить, прозекторы всё указывали им по трупу, что они ошиблись, – ну, и я, наконец, схватил скальпель; может, резнул слишком глубоко с непривычки.
Говорил я не как посторонний, не для упрека, – говорил оттого, что сердце было полно, оттого, что общее непониманье выводило из терпения. Что я раньше отрезвел – это мне ничего не облегчило. Это и из фельдшеров только самые плохие самодовольно улыбаются, глядя на умирающего. «Вот, мол, я сказал, что он к вечеру протянет ноги, он и протянул».
Так зачем же я вынес?
В 1856 году лучший из всей немецкой эмиграции человек, Карл Шурц, приезжал из Висконсина в Европу. Возвращаясь из Германии, он говорил мне, что его поразило нравственное запустение материка. Я перевел ему, читая, мои «Западные арабески», он оборонялся от моих заключений, как от привидения, в которое человек не хочет верить, но которого боится.
– Человек, – сказал он мне, – который так понимает современную Европу, как вы, должен бросить ее.
– Вы так и поступили, – заметил я.
– Отчего же вы этого не делаете?
– Очень просто: я могу вам сказать так, как один честный немец прежде меня отвечал в гордом припадке самобытности – «у меня в Швабии есть свой король», – у меня в России есть свой народ!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Сходя с вершин в средние слои эмиграции, мы увидим, что большая часть была увлечена в изгнание благородным порывом и риторикой. Люди эти жертвовали собой за слова, т. е. за их музыку, не давая себе никогда ясного отчета в смысле их. Они их любили горячо и верили в них, как католики любили и верили в латинские молитвы, не зная по-латыни. «La fraternité universelle comme base de la république universelle»[60]60
«Всемирное братство как основа всемирной республики» (франц.). – Ред.
[Закрыть] – это кончено и принято! «Point de salaries, et la solidarité des peuples!»[61]61
«Долой наемный труд, и да здравствует солидарность народов!» (франц.). – Ред.
[Закрыть] – и, покраснейте, этого иному достаточно, чтоб идти на баррикаду, а уж коли француз пойдет, он с нее не побежит.
«Pour moi, voyez-vous, la république n’est pas une forme gouvernementale, c’est une religion, et elle ne sera vraie que lorsqu’elle le sera»[62]62
«Для меня, видите ли, республика не форма правления, это религия, и она тогда только будет истинной республикой, когда будет религией» (франц.). – Ред.
[Закрыть], – говорил мне один участник всех восстаний со времени ламарковских похорон. «Et lorsque la religion sera une république»[63]63
«И когда религия станет республикой» (франц.). – Ред.
[Закрыть], – добавил я. – Précisément![64]64
Именно так! (франц.). – Ред.
[Закрыть] – отвечал он, очень довольный тем, что я вывернул наизнанку его фразу.
Массы эмиграции представляют своего рода вечно открытое угрызение совести перед глазами вождей. В них все их недостатки являются в том преувеличенном и смешном виде, в котором парижские моды являются где-нибудь в русском уездном городе.
И во всем этом есть бездна наивного. За декламацией на первом плане – la mise en scène[65]65
театральный эффект (франц.). – Ред.
[Закрыть].
Античные драпри и торжественная постановка Конвента так поразила французский ум своей грозной поэзией, что, например, с именем республики ее энтузиасты представляют не внутренную перемену, а праздник федерализации, барабанный бой и заунывные звуки tocsin[66]66
набата (франц.). – Ред.
[Закрыть]. Отечество возвещается в опасности, народ встает массой на его защиту в то время, как около деревьев свободы празднуется торжество цивизма; девушки в белых платьях пляшут под напев патриотических гимнов, и Франция в фригийской шапке посылает громадные армии для освобождения народов и низвержения царей!
Главный балласт всех эмиграций, особенно французской, принадлежит буржуазии; этим характер их уже обозначен. Марка или штемпель мещанства так же трудно стирается, как печать дара духа святого, которую прикладывают наши семинарии своим ученикам. Собственно купцов, лавочников, хозяев в эмиграции мало, и те попали в нее как-то невзначай, вытолкнутые большей частью из Франции после 2 декабря за то, что не догадались, что на них лежит священная обязанность изменить конституцию. Их тем больше жаль, что положение их совершенно комическое: они потеряны в красной обстановке, которой дома не знали, а только боялись; в силу национальной слабости им хочется себя выдавать за гораздо больших радикалов, чем они в самом деле; но, не привыкнув к революционному jargon, они, к ужасу новых товарищей, беспрестанно впадают в орлеанизм. Разумеется, они были бы все рады возвратиться, если б point d’honneur[67]67
вопрос чести (франц.). – Ред.
[Закрыть], единственная крепкая, нравственная сила современного француза, не воспрещал просить дозволения.
Над ними стоящий слой составляет лейб-компанейскую роту эмиграции: адвокаты, журналисты, литераторы и несколько военных.
Большая часть из них искали в революции общественного положения, но при быстром отливе они очутились на английской отмели. Другие бескорыстно увлеклись клубной жизнию и агитациями; риторика довела их до Лондона, сколько волею, а вдвое того неволею. В их числе много чистых и благородных людей, но мало способных; они попали в революцию по темпераменту, по отваге человека, который бросается, слыша крик, в реку, забывая об ее глубине и о своем неумении плавать.
За этими детьми, у которых, по несчастию, поседели узкие бородки и несколько очистился от волос остроконечный галльский череп, стояли разные кучки работников, гораздо более серьезных, не столько связанные в одно наружностию, сколько духом и общим интересом.
Их революционерами поставила сама судьба; нужда и развитие сделали их практическими социалистами; оттого-то их дума реальнее, решимость тверже. Эти люди вынесли много лишений, много унижений, и притом молча, – это дает большую крепость; они переплыли Ламанш не с фразами, а со страстями и ненавистями. Подавленное положение спасло их от буржуазного suffisance[68]68
самодовольства (франц.). – Ред.
[Закрыть], они знают, что им некогда было образоваться; они хотят учиться, в то время как буржуа не больше их учился, но совершенно доволен знанием.
Оскорбленные с детства, они ненавидят общественную неправду, которая их столько давила. Тлетворное влияние городской жизни и всеобщей страсти стяжания превратило у многих эту ненависть в зависть; они, не давая себе отчета, тянутся в буржуазию и терпеть ее не могут, так, как мы не можем терпеть счастливого соперника, страстно желая занять его место или отомстить ему его наслаждения.
Но ненависть ли или зависть, желание ли у одних блага, у других мести – и те и другие будут страшны в будущем западном движении. Они будут на первом плане. Перед их рабочими мышцами, мрачной отвагой и накипевшим желанием мести что сделают консерваторы и риторы? Да что сделают и прочие горожане, когда на зов работника поднимется саранча полей и деревень? Крестьянские войны забыты; последние эмигранты из земледельцев относятся ко временам ревокации Пантского эдикта; Вандея исчезла за пороховым дымом. Но мы обязаны 2 декабрю тем, что своими глазами вновь увидели эмигрантов в деревянных башмаках.
Сельское население на юге Франции, от Пиреней до Альп, приподняло голову после coup d’Etat, как бы спрашивая: «Не пришла ли наша пора?» Восстание было задавлено в самом начале массами солдат; за ними явились военно-судные комиссии; стая гончих жандармов и полицейских ищеек рассыпались по проселочным дорогам и деревушкам. Очаг крестьянина, его семья, эти святыни его, были обесчещены полициею; она требовала показания жены на мужа, сына на отца и по двусмысленному слову родственника, по одному доносу garde champêtre[69]69
сельского стражника (франц.). – Ред.
[Закрыть] вели в тюрьму отцов семейства, седых, как лунь, стариков, юношей, женщин; судили их кой-как, гуртом, и потом случайно кого выпустили, кого послали в Ламбессу, в Кайенну, другие сами бежали в Испанию, в Савойю, за Варский мост[70]70
Я был в Ницце во время варского и драгиньянского восстания. Двое крестьян, замешанных в дело, пробрались до реки Вара, составляющей границу. Тут они были настигнуты жандармом. Жандарм выстрелил в одного из них и ранил в ногу – тот свалился; в это время другой пустился бежать. Жандарм хотел раненого привязать к лошади, но, боясь упустить того, он выстрелил в голову à bout portant <в упор (франц.)> раненому; уверенный, что убил его, он поскакал за другим. Изуродованный крестьянин остался жив.
[Закрыть].
Крестьян я мало знаю. Видел я в Лондоне несколько человек, спасшихся на лодке из Кайенны; одна дерзость, безумие этого предприятия лучше целого тома характеризуют их. Они были почти все с Пиренеев. Совсем другая порода, широкоплечая, рослая, с крупными чертами, вовсе не шифонированными[71]71
помятыми, от chiffonner (франц.). – Ред.
[Закрыть], как у поджарых французских горожан с их скудной кровью и бедной бородкой. Разорение их домов и Кайенна воспитали их.
– Мы воротимся еще когда-нибудь, – говорил мне сорокалетний геркулес, большей частью молчавший (все они были не очень разговорчивы), – и посчитаемся!
На других эмигрантов, на их сходки и речи они что-то смотрели чужими… и недели через три они пришли ко мне проститься. «Не хотим даром жить, да и здесь скучно, едем в Испанию, в Сантандр, там обещают поместить нас дровосеками». Взглянул я еще раз на сурово мужественный вид и на мускулярную руку будущих дровосеков и подумал: «Хорошо, если топор их только будет рубить каштановые деревья и дубы». Дикую, разъедающую силу, накипевшую в груди городского работника, я видел ближе[72]72
В след<ующей> главе: два процесса работника Бартелеми.
[Закрыть].
Прежде чем мы перейдем к этой дикой, стихийной силе, которая мрачно содрогается, скованная людским насилием и собственным невежеством, и подчас прорывается в щели и трещины разрушительным огнем, наводящим ужас и смятение, – остановимся еще раз на последних тамплиерах и классиках французской революции – на ученой, образованной, изгнанной, республиканской, журнальной, адвокатской, медицинской, сорбоннской, демократической буржуазии, которая участвовала лет десять в борьбе с Людвигом-Филиппом, увлеклась событиями 1848 года и осталась им верной и дома и в изгнании.
В их рядах есть люди умные, острые, люди очень добрые, с горячей религией и с готовностью ей пожертвовать всем, – но понимающих людей, – людей, которые бы исследовали свое положение, свои вопросы так, как естествоиспытатель исследует явление или патолог – болезнь, почти вовсе нет. Скорее полное отчаяние, презрение к лицам и делу, скорее праздность упреков и попреков, стоицизм, героизм, все лишения, чем исследование… Или такая же полная вера в успех, без взвешивания средств, без уяснения практической цели. Вместо ее удовлетворялись знаменем, заголовком, общим местом… Право на работу… уничтожение пролетариата… Республика и порядок!.. братство и солидарность всех народов… Да как же все это устроить, осуществить? Это – последнее дело. Лишь бы быть во власти, остальное сделается декретами, плебисцитами. А не будут слушаться – «Grenadiers, en avant, aux armes! Pas de charge… baïonnettes»[73]73
«Гренадеры, вперед, к оружию! Быстрым шагом… в штыки!» (франц.). – Ред.
[Закрыть]. И религия террора, coup d’Etat, централизации, военного вмешательства сквозит в дыры карманьолы и блузы. Несмотря на доктринерский протест нескольких аттических умов орлеанской партии, пахнущих Англией на ружейный выстрел.
Террор был величествен в своей грозной неожиданности, в своей неприготовленной, колоссальной мести; но останавливаться на нем с любовью, но звать его без необходимости – странная ошибка, которой мы обязаны реакции. На меня Комитет общественного спасения производит постоянно то впечатление, которое я испытывал в магазине Charrière, rue de l’Ecole de Médecine[74]74
Шаррьера на улице Медицинской школы (франц.). – Ред.
[Закрыть]: со всех сторон блестят зловещим блеском стали кривые, прямые лезвия, ножницы, пилы… оружия вероятного спасения, но верной боли. Операции оправдываются успехом. Террор и этим похвастаться не может. Он всей своей хирургией не спас республики. К чему была сделана дантонотомия, к чему эбертотомия? Они ускорили лихорадку Термидора, – а в ней республика и зачахла; люди все так же и еще больше бредили спартанскими добродетелями, латинскими сентенциями и латиклавами à la David, бредили до того, что «Salus populi»[75]75
«Благо народа» (лат.). – Ред.
[Закрыть] одним добрым днем перевели на «Salvum fac imperatorem»[76]76
«Храни императора» (лат.). – Ред.
[Закрыть] и пропели его «соборне» во всем архиерейском орнате[77]77
полном облачении, от ornatum (лат.). – Ред.
[Закрыть], в нотрдамском соборе.
Террористы были люди недюжинные. Суровые, резкие образы их глубоко вываялись в пятом действии XVIII века и останутся в истории до тех пор, пока у рода человеческого не зашибет памяти; но нынешние французы-республиканцы на них смотрят не так, – они в них видят образцы и стараются быть кровожадными в теории и в надежде приложения.
Повторяя à la Saint-Just натянутые сентенции из хрестоматий и латинских классов, восхищаясь холодным, риторическим красноречием Робеспьера, они не допускают, чтоб их героев судили, как прочих смертных. Человек, который бы стал говорить о них, освобождаясь от обязательных титулов, которые стоят всех наших «в бозе почивших», был бы обвинен в ренегатстве, в измене, в шпионстве.
Изредка встречал я, впрочем, людей эксцентричных, сорвавшихся с своей торной, гуртовой дороги.
Зато уж французы в этих случаях, закусывая удила и усвоивая себе какую-нибудь мысль, не принадлежащую к сумме оборотных мыслей и идей, неслись до того через край, что человек, подавший им эту мысль, сам с ужасом отпрядывал от нее.
В 1854 доктор Cœurderoy, посылая мне из Испании свою брошюру, написал ко мне письмо.
Такого озлобленного крика против современной Франции и ее последних революционеров мне редко удавалось слышать. Это был ответ Франции на легко перенесенный coup d’Etat. Он сомневался в уме, в силе, в «крови» своей расы, он звал казаков для «поправления выродившегося народонаселения». Он писал ко мне, потому что нашел в моих статьях «то же воззрение». Я отвечал ему, что до исправительной трансфузии[78]78
переливания (франц. transfusion). – Ред.
[Закрыть] крови не иду, и послал ему «Du développement des idées révolutionnaires en Russie».
Cœurderoy не остался в долгу; он ответил мне, что возлагает всю надежду на войско Николая, долженствующее разрушить дотла, без пощады и сожаления, цивилизацию, обветшавшую, испорченную и которая не имеет сил ни обновиться, ни умереть своей смертью.
Одно уцелевшее письмо его прилагаю:








