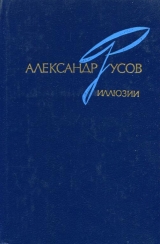
Текст книги "Иллюзии. 1968—1978"
Автор книги: Александр Русов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 26 страниц)
В этом мамином стремлении уничтожить сделанное я усматривал следствие ее нервозности и наблюдал за происходящим как бы со стороны, точно инспектор уже приехал и подтвердил, что авария произошла не по моей вине, все формальности позади, и мысль о том, что нужно теперь выправлять крыло или кузов, еще не стала главной. Важно, что никто не погиб и машина на ходу.
Мама последовательно, мазок за мазком по диагонали смывала краску, словно мыла окно, и за ним проступал умытый дождем мир, в котором все еще господствовал летний зеленый цвет, но уже проступал и желтый, главным образом, на земле. Когда все было кончено и мой набросок обрел новую жизнь, мама сказала:
– Вот видишь, совсем другое дело. Нужно мягче. Это же акварель.
– Мама, я хочу тебе что-то сказать.
Неторопливой походкой к нам приближался Николай Семенович Гривнин.
– Как хорошо! – воскликнула мама, искренне обрадовавшись его приходу.
– Все цветете, Машенька.
– Не издевайтесь.
– Немного похудели, вам идет.
– Кого это может интересовать теперь? – лукавит мама, передавая мне кисть. – Как скучно я живу, как неинтересно. Даже вы забыли меня.
– Скучно? Но ведь вы художница, дорогая. Если вам неинтересно жить здесь, придумайте себе что-нибудь еще. Придумайте мир, в котором бы вы хотели жить, и живите себе на здоровье. – Искушающая улыбка, пестрый пиджак букле, ворсистая шляпа с небольшими полями.
Он исподлобья взглянул на дело рук моих.
– Вы предатель, Андрей. Вместо того чтобы сесть за роман, беретесь за краски и карандаши.
– С этим покончено, – сказал я так же твердо, как когда-то говорил мой отец. – Окончательно и бесповоротно.
– Окончательно и бесповоротно? Ну что ж. Мы еще с вами сочтемся. А пока…
Он извлек из-за спины бутылку вина.
– Поставьте-ка в ледник. Будем отмечать день вашего рождения. Как видите, помню. И еще это, – сказал он, передавая второй подарок. – То, что обещал вам вчера. Прочтите вслух дарственную надпись.
19
На четвертый день после начала львовской конференции мы отправились на экскурсию в Карпаты и через несколько часов по плану должны были одолеть перевал. Я трясся на заднем сиденье старого драндулета, одной из тех машин, которые часто используют в качестве похоронного транспорта. После того как переехали по деревянному мосту мутный и быстрый Стрый, пошел мелкий дождь, а за окнами поплыли сырые низины, заросшие мелкими ирисами.
Вот тогда-то меня и стукнуло. Автобус, который нас обгонял, с глухим ударом рухнул в кювет, туда же свалился прицеп грузовика, шедшего навстречу. Чугунное кольцо, которым крепился прицеп, раскололось. Мне было нечем дышать. Ни вздохнуть, ни выдохнуть – будто что-то заклинило, но голова была ясная, и я мог еще двигаться на том запасе воздуха, который оставался в легких. Я выбрался на волю. Наш автобус почти не пострадал, только в задней части, как раз в том месте, где я сидел, зияла глубокая вмятина, обшивку покоробило, из-под нее сыпались древесные опилки. Меня обступили.
– Сильно ударило?
– Считайте, что повезло.
Несколько человек занялись шофером автобуса. К счастью, машина оказалась без пассажиров. Лицо шофера было в крови, он потерял сознание. С первой попуткой его отправили в больницу. Потом довольно долго ждали милицию и не расходились: думали, вот-вот поедем.
– Как это случилось?
– Очевидно, тот, кто обгонял нас, не заметил грузовика.
– Здесь плохая видимость. К тому же скользкое шоссе. Дождь.
– Ему лучше полежать или хотя бы посидеть где-нибудь, – кивнув в мою сторону, сказала девушка, чья забота тронула меня. Попытался вспомнить ее имя, похожее на «грех» и на «Гретхен» одновременно. Так же, кажется, что-то от слова «иволга» было еще в нем.
Да и сама она напоминала птичку. Маленький рот, мелкие черты лица, столь поразительная в птицах легкость тела – контраст между неподвижностью комочка, прилепившегося к электрическому проводу, и мельканием рассекающих воздух крыльев. И еще в день дорожной катастрофы мне показалась примечательной ее улыбка.
Готов поклясться, что когда-то однажды уже видел ее. Где? Когда? Что-то давно знакомое, трогательно-детское и будто испуганное – словно держал в руке трепещущего, случайно залетевшего в окно воробья.
Старался поймать ускользающую ниточку памяти, но то, что вспоминал, совсем не относилось к девушке со странным именем Инга. Это были дом, поселок, писательский парк, две нахохлившиеся, как курицы, туи – фрагменты видов Лукина моего детства. И почему-то: игра в казаков-разбойников, переговоры через забор между нашим и мягковским участками. Ну конечно – ее улыбка. Это была улыбка Саши Мягкова!
Мы добрались до перевала, и в томительном ожидании обеда жевали хлеб, принесенный официанткой.
Дождь перестал, и окна в ресторане запотели.
Так проходило наше первое путешествие в Карпаты. Второе состоялось через несколько дней. Тогда невероятной казалась даже мысль, что у нас с этой двадцатилетней на вид девочкой может быть что-то еще, кроме веселой и беспечной болтовни двух случайно встретившихся в дороге людей. С ней не нужно было вымучивать фразы ради поддержания пустого разговора, как это часто бывает с незнакомыми людьми, когда не о чем говорить. В любую минуту можно замолчать или запросто встать и уйти. И поэтому было хорошо сидеть в распаренном ресторане с запотевшими стеклами.
Чем-то она неуловимо напоминала мою маму. Может, своей непосредственностью? Или отрешенным лицом и выражением глаз, как бы начисто отрицающим всякую значимость материально-житейской стороны жизни?
Такой я вижу ее и сейчас, склонившей голову набок, улыбающейся исподлобья, победоносно и застенчиво. Ее полуоткрытый рот, потемневшие от курения зубы, сосредоточенную складку у переносицы (хочет что-то спросить или понять, или надеется услышать неслышимое?). Ее лицо в ореоле запотевших стекол аквариума, за которым зелеными водорослями прорастают отроги Карпат. Жаркий дух помещения и оглушительная тишина, как будто действие продолжается, а звук выключен, будто время остановилось.
Инга Гончарова рассказывала свою родословную Андрею Березкину. Он узнал, например, что ее отец – выпускник ИФЛИ – поэт, погибший в войну, имя и стихи которого были хорошо знакомы Березкину. Что в жилах более далеких ее предков текли те же взбалмошные крови писателей, художников, поэтов, дерзавших объять необъятное, назвать вещи своими именами, – тех, чья непомерная гордыня бросала вызов церкви, конкурируя с ней за право посредничества между людьми и вселенной.
Березкин слушал рассказ Инги с удивлением. Ее манера говорить сбивчиво и разрозненно в искренней попытке наиболее точно выразить трудную мысль каким-то образом была связана с далеким, призрачным, чуть ли не фантастическим миром, в котором будущий доцент кафедры органической химии дискутировал с воображаемым собеседником и старательно усваивал уроки лукинского писателя. Несмотря на отсутствие четких формулировок, Березкин каждый раз вполне верно понимал, что именно имела она в виду, а порой сам заражался этой свободой, впадая в благостное косноязычие. Точно ему представился случай с удивлением и невольным удовольствием отметить, что даже после девятилетнего перерыва он не разучился гонять по шоссе на велосипеде.
Они говорили легко и просто, не боялись слов, не хотели казаться друг другу сложнее или проще, глупее или умнее того, чем были на самом деле. Им не нужно было притворяться.
До сих пор Березкину казалось, что от решения некоторых проблем и вопросов он уже несколько лет как избавлен, освобожден, так сказать, по возрасту. Но его собеседница начисто опровергла это заблуждение, и, чтобы не ударить в грязь лицом, он отчаянно вступал в спор, бросался в атаку на стареньком своем Росинанте.
Стекла в ресторане начали отпотевать и потекли. Впрочем, довольно скоро мы ушли оттуда, и теперь я уже не помню, где именно происходил наш разговор с Ингой – в ресторане или на улице. Мы и впрямь должны были стать хорошими друзьями, чтобы по субботам собираться где-нибудь вчетвером – две супружеские пары, которым есть о чем поболтать. Но дьявол был начеку, змей успел обвить ствол яблони задолго до того, как мы открыли рты, чтобы сказать первые слова, а съеденное вдвоем яблоко было отравлено и того раньше.
Мы вышли из ресторана и теперь шли по сырому шоссе. Низины и склоны Карпат были густо утыканы крошечными мохнатыми деревцами, и справа, в котловине, лежала маленькая деревушка – наше будущее пристанище – как случайный мазок по загрунтованному холсту.
Инга ликовала:
– До чего славно здесь, до чего хорошо! Я так люблю дождь.
Ни одного однообразного участка местности не виднелось вокруг. Я подумал, что где-то в этих краях должно было сложиться представление европейцев о рае, и понял: счастье может носить имя местности. Воздух напитан дурманом, загадкой; насыщенность юга сочетается со среднерусским спокойствием лугов и перелесков. Временами такое чувство, что ты в Подмосковье, но где-то змеей прошуршит по камням горный ручей, соскользнет под ногами земля на склоне. И особенно деревья. Их гигантские размеры постоянно напоминают, что ты не дома.
Когда Инга Гончарова и Андрей Березкин возвращались к месту стоянки автобуса, она опустила лицо, и на тонкую ее шею упало несколько капель с дерева.
– Конечно, ты не ожидал, что мне двадцать восемь лет, что у меня муж и большой сын.
Потом она взяла его за руку, откинула волосы со лба и весело сказала:
– Вот и хорошо. По крайней мере, теперь мы знаем кое-что друг о друге.
– Побежали, – сказал он. – Это гудят нам.
20
– Прочтите-ка вслух, Андрей, – повторил Николай Семенович.
Я взглянул на портрет в книге, сравнил его с оригиналом и прочитал вслух краткую дарственную подпись:
«Единомышленнику, сподвижнику, преемнику А. Березкину. Н. Гривнин. II тысячелетие н. э., 31 августа».
– Не будем размениваться на годы, – сказал Николай Семенович. – В текущем тысячелетии жду от вас повесть или роман.
– А что, если я не верну долг?
Ни искушающая улыбка Николая Семеновича, ни его манера говорить не действовали более – как яд, к которому успел привыкнуть со временем.
– Полагаю, Андрей, – сказал Николай Семенович, не обращая внимания на мой тон, – надеюсь, что теперь вы захотите написать о своем приезде в Лукино. О вашем саде, об отце и райских кущах, о возвращении в страну детства.
– Хватит вам мучить мальчика, – сказала мама. – Пошли в дом.
Из комнаты на веранду вышла бабушка, смущенная и немного искусственная, как всегда, когда приходят гости, поскольку ей уже трудновато сразу, в одно мгновение, забыть ноющую боль в ноге, только что случившееся головокружение, тяжесть всех своих восьмидесяти пяти лет, быть легкой и приветливой, как пятьдесят пять лет назад в Баку, когда этот молодой человек в шляпе, корреспондент местной газеты, потом режиссер и драматург Рабочего театра приходил к ней в гости. Но и до сих пор по праву старшинства она, протягивая при встрече руку, чуть покровительственным тоном говорит ему:
– Здравствуй, Николай.
«Молодой человек» снимает шляпу, склоняется к ее руке, целует, и что-то робкое, покорное появляется в его лице.
– Как поживаешь, Сонюшка?
– Хорошо, Николай. Я всегда хорошо.
Мягкое выражение лица, несмотря на жесткий характер всей кочевой, неустроенной жизни, редкое выражение в таком возрасте, присущее только самым сильным, добрым, жизнелюбивым, и так трудно определить его словами, подыскать точный эквивалент.
Если же писать о детстве, как считает Николай Семенович, то бабушкин портрет должен занять в будущем повествовании центральное место. Вся сложность, своеобразие подобной задачи в том, что и мамино искусство, и лукинский писатель Н. С. Гривнин, и пишущий эти строки – весь мир, окружающий нас, как в фокусе, сходится в бабушке. Это отзвук ее талантов, страстей, привязанностей, противостояний, генетический кроссворд, который не так-то просто разгадать. Короче говоря, я еще не готов, не знаю, как за это следовало бы взяться. Что-то еще должно прийти ко мне, помочь найти нужные слова. Потребует ли это отречения от родственных чувств, которые сейчас заставляют меня смотреть на нее под определенным углом и видеть в постоянном ракурсе любви и привязанности? Тогда, может, я в самом деле нырну в эту тему, а пока думаю о подступах к ней и о частых наших непримиримых политических спорах.
Мой натиск она выдерживает обычно с достоинством мушкетера, а потом, взволнованная, не спит всю ночь. Я раскаиваюсь жестоко, ощущаю себя почти убийцей, и все-таки мы вновь возвращаемся на прежние орбиты, должно быть оттого, что если свойственно людям любить друг друга, то они непременно доводят свое чувство до исступления, безжалостно бередя раны свои и тех, кого любят. Они вкладывают в свое чувство всю горечь проблем и сомнений, которые составляют основной предмет их духовной жизни.
Именно наши споры убеждают меня в ее совершеннейших человеческих качествах: верности, постоянстве и цельности внутреннего мира, который загадочен для меня, далек от моего собственного, но который я не могу не уважать в ней.
Створки раскрытых окон веранды поскрипывали на ветру, дом временами наполняли влажные садовые запахи, и на какое-то мгновение казалось, что вернулся май, жаркие шары одуванчиков заполонили землю, и скоро придет настоящее лето с ярко-зелеными жирными папоротниками, паутиной и вечерними запахами июньских трав.
– Слышал, какие успехи у нашего Андрея? – спросила бабушка.
Мама потрепала меня по щеке. Жест получился искусственным. Не столько даже фальшивым, сколько совсем неуместным.
Я вышел в сад. Деревья нежились в лучах уже неяркого солнца, боясь шелохнуться. Сад замер. Только над шпалерой кустов возле калитки промелькнула вдруг черная кепка и послышалось монотонное шарканье ног по земле. Я почти догадался, кто это мог быть, когда она пересекла стволы сливовых деревьев, приближаясь к зарослям жасмина.
«Ангел-хранитель, – подумал я. – Старый ангел, исполняющий роль мужчины в этом женском раю».
– Дядя Захар пришел, – шепнула Маринка и добавила по секрету. – Пьяный.
Я долго ждал, когда, наконец, появится обладатель кепки в поле моего зрения, а он все не появлялся, словно бы затаился и тоже ждал. Лишь однообразные звуки, чем-то напоминающие звуки пилы, перепиливающей бревно, свидетельствовали о продолжающемся движении.
Несмотря на однообразный ритм, движение было многолико и возникало в памяти как рука с молотком, заколачивающая гвоздь, устало сложенные на коленях руки. И руки на веслах. Я вспомнил впервые увиденное с лодки озеро, белые лилии и кувшинки, прыжки рыб на засыпающей глади, заходящее солнце, выглядывающее из-за ладони облака, как лампа из-под абажура, скрип днища о камыши и мошкару, точно клубок дыма после выстрела. И рядом дядя Захар на веслах. Все это было каким-то непонятным образом связано теперь со звуком распиливаемого дерева. Отец, как всегда, возился в саду, и обещанное им путешествие по озеру так и не состоялось, если бы не случайный приход дяди Захара по поводу продажи досок, предложение сходить на озеро и неожиданное согласие мамы. И вот мы уже за пределами сада, провожаемые завистливым лаем Дика, которого впоследствии, уже при Голубкове, Захар сам и похоронил.
…Он появился из-за поворота неожиданно – согбенный старик с хитроватым лицом Саваофа, как неожиданно кончается монотонный тоннель и машина вырывается вдруг из темноты на волю со скоростью света при скорости семьдесят километров в час. Никогда не глаженные штаны, стоптанные ботинки, потертый, лоснящийся пиджак с оттопыренными карманами, кепка, которую я помню столько, сколько помню себя, сгорбленная фигура и тяжелая, заикающаяся походка. Словно само время вдавило его лицо внутрь, сморщило, избороздило, как топографическую карту, сетью морщин, окончательно отобрало некогда милостиво данное, но потом растраченное.
– Зачем убежала? – ворчливо сказал он, обращаясь к Марине, словно бранил дочку, а заодно и ко мне: – Здоро́во, Андрей, – точно последний раз мы виделись с ним вчера, и протянул свою грязную, вялую какую-то руку.
Он извлек из карманов маленькие яблочки, которые сорвал, должно быть, в писательском саду, и разложил на скамейке.
– Ешь.
– Запретный плод? – пошутил я.
– У-угощаю, ешь. Как поживаешь?
– Ну, – неопределенно сказал я.
– Все учишься?
– Отучился, Захар Степанович.
– Хочешь высоко на гору залезть, – продолжал он свое. – Учись-учись, большим человеком будешь.
Марина засмеялась. И он засмеялся, показывая обглоданные коричневые корешки зубов.
– Ты извини, я пьяный. Четверку с утра принял и у писателей еще стакан.
– Я так и понял.
– Один пи-исатель угостил. Я у них в ко-отельной работаю. Ше-эстьдесят рубликов в месяц.
Когда он заикался, его голосовые связки издавали ревущий звук, как сорвавшаяся с ноты труба.
– Еще на комбинате восемьдесят рубликов. Ну и кому что надо.
– Хватает?
– Хватает, – сказал он. – А ты?
– Мне тоже хватает.
– В Москве жизнь дорогая, – сказал он озабоченно. – А жилье?
– Кооператив.
– В рассрочку?
– На пятнадцать лет.
– Петля?
– Что?
– Сколько платишь?
– Сорок в месяц.
– Тьфу ты! Петля. Слушай, Андрей, что скажу. Бросай ты все это к черту!
– Мама, дядя Захар пришел… – Чирик-чирик-чирик! Марина бежала к дому.
– Это новое крыльцо вы делали? – спросил я.
– И крыльцо, и колодец. Я их еще у-уговариваю кухню расширить.
– Надо бы.
– Сорок рублей, – покачал он головой.
Захар взглянул на меня трезво и с издевкой, словно до сих пор только притворялся пьяным.
– За пристройку?
– Нет, в месяц.
– Вы все об этом…
– А если здесь жить? Дом есть. Еще, не соврать, лет двадцать пять простоит. Сад есть. Сорок рубликов платить не надо.
– Я уж и то думаю.
– Работу, что ли, себе не найдешь? Вон я тебя шофером к писателям устрою. Хочешь? Рубликов на сто тридцать. И яблоки можно продавать. С этого сада знаешь сколько взять можно? Ужас! Как жить будешь. Барином. Барином жить будешь! – выпалил он убежденно, будто надул резиновый шар, но несколько передул, и шар лопнул.
– Ладно, – сказал я, – подумаю.
– В свою Москву ведь уедешь.
– Не уеду.
– Правильно, Андрюша. Петля ведь?
– Петля.
– И мать с бабкой довольны будут. Верно говорю?
– Верно.
– Плохо одним. Конечно, я им тут помогаю. Но я, Андрей, деньги беру. А денег у них немного. Верно говорю?
21
– Ангел-хранитель нашего дома, – сказал я, представляя Н. С. Гривнину Захара Степановича.
– Я его знаю, – сказал Захар Степанович. – Он у писателей отдыхает. Здравствуйте, Николай Семенович.
– Работает, – поправил я. – Это Дом творчества, а не дом отдыха.
– Молчу, – проворчал дядя Захар, воровато озираясь. – Что со мной разговаривать?
Мне казалось, он чем-то смущен и поэтому заикается чаще обыкновенного. Плутоватое его лицо стало вдруг глупым и заискивающим, словно среди многих бессмысленных фраз он пытался отыскать ту, которая обеспечила бы ему независимость и свободу, но с отчаянием чувствовал, что его, как бабочку, прикололи к пробке. Пытался махать крыльями, но улететь не мог.
– Ну его к черту!.. – сказал, наконец, беззлобно. – Я читал. Ну его, – повторил он обиженно. – Слушай, Семеныч… Я, конечно, извиняюсь. Я молчу, ко-онечно. Зачем в таком виде изобразил?
– В каком? Ты же положительный герой у меня, – сказал Николай Семенович, двусмысленно улыбаясь. – И ты, и твой сын.
– Крутишь, Семеныч. У, крутишь…
Бедный Захар, подумал я, козел отпущения местных художников. Но старик уже снова хмельно посмеивался, сосал папироску, плевался изжеванной бумагой мундштука, точно выговорился человек, облегчился и вновь чувствовал себя хорошо.
– Послушай, Семеныч, ты за-ачем писателем работаешь?
– А что?
– Дюже не идет. Дюже. Старый ты, страшный.
– Такой уж страшный?
– Ужас какой. Верно говорю. Вот Андрею бы писателем – пошло. Да-а.
– И я ему об этом твержу, – сказал Николай Семенович.
– Правда, Андрей? – обратился ко мне Захар. – Приглашает? И не сомневайся даже – иди.
Он замолчал, подумал про себя, шевеля губами, словно вспоминая старую обиду. Наконец вспомнил:
– Нет, не ходи. Ну их! Лучше шофером.
Тут я услышал переполох в доме.
– Андрей, – крикнула мама. – Андрюшенька, дорогой, мы хлеб забыли купить. К обеду ни куска. Может, сходишь? Но ты, наверное, очень устал. Ладно, сынок, не нужно. Нет, не беспокойся, я сама схожу.
Это обычная мамина просьба. Просьба-альтернатива. Пожалуй, даже приказ. Вежливый ультиматум.
– И я пойду, – заявляет сестра.
– Никуда не пойдешь, – говорит мама почти автоматически, поскольку в той игре, в которую они постоянно играют, на пароль: «я пойду», – существует отзыв: «не пойдешь». И я вмешиваюсь не для того, чтобы разрушить мамину систему воспитания или как-то изменить ее, но лишь потому, что сегодня утром дал Марине слово пойти с ней гулять, и теперь представлялся единственный случай. Позже мы навряд ли выберемся, учитывая, что у нас гость.
– Может, отпустишь ее? – прошу я. – Мы быстро.
– Ладно, – соглашается мама великодушно, – только при условии, что она будет тебя слушаться.
– Обещаешь?
Сестра утвердительно мотнула головой.
Получив вместительную сумку для хлеба и, само собой разумеется, рубль («Бери и не пижонь. Тоже мне богач нашелся»), мы покидали пределы лукинских наших владений.
– На машине поедем? – спросила Марина.
– Здесь же рядом.
– Ну пожалуйста.
– Это не быстрее, чем пешком.
– Пусть.
– Мама будет ругать.
– Ничего.
– Что значит «ничего»?
– Она не узнает, – нашлась Марина.
– А ключ от ворот?
– Он на гвоздике, сейчас принесу.
Я запустил двигатель и, пока разогревался мотор, посмотрел, хорошо ли легла краска на крыло.
– Это твоя машина? – спросила Марина, вернувшись. – Вот ключ.
Вопрос был дипломатического или скорее риторического характера, не знаю уж, что имела она при этом в виду, потому как не первый раз приезжал я на своем «Москвиче» в Лукино.
– Ты уже спрашивала. Я отвечал.
– А кто ее купил?
– Сам и купил.
– Хорошая, – сказала Марина, опасливо поглаживая вздрагивающие лоснящиеся бока.
– Послушная, – сказал я. – В отличие от тебя.
– Подожди меня, – попросила она. – Только не уезжай, ладно?
Я решил, что ей нужно в маленький домик на краю участка, и обещал, что без нее не уеду, а потом смотрел вслед пятилетней, похожей на мою дочь, девочке со стройными ножками, затянутыми в серые колготки, в коротком платьице, с белым бантом в каштановых волосах. Девочке, у которой так мило и женственно двигалась правая рука при ходьбе, и так своенравно оттопыривался мизинец на левой. Должно быть, я даже ревновал ее к тому парню, с которым она будет встречаться лет через десять.
Ждал за воротами в машине, а когда она появилась, ахнул от удивления. На ней было красное вельветовое платье, а все остальное: колготки, туфли, бант, – было прежним. Но какое превращение! Она шла не спеша, исполненная достоинства и сознания собственной красоты, и, действительно, была невероятно хороша в новом наряде. Я подумал, что моя машина слишком скромна для нее. Когда она подошла, я открыл дверцу и не смог сдержать восторженного восклицания:
– Вот это да!
Она ответила смущенной полуулыбкой.
Я предложил:
– Раз уж мы на машине, поедем, пожалуй, на станцию. Там продают более свежий хлеб.
Остановились на обочине асфальтированного круга. У переезда с той и с другой сторон выстроились машины. Их почему-то не пропускали, хотя вот уже минут пять никаких поездов не было.
– Я с тобой, – сказала Марина.
Мы шли по привокзальной площади, взявшись за руки. Две толстухи с ополовиненными мешками семечек плевались шелухой, разлетавшейся по ветру, и, подталкивая друг друга, кивали в нашу сторону. Старичок железнодорожник оглянулся, и я долго чувствовал спиной его любопытный, пристальный взгляд. Яркое платье сестры и мой городской вид делали нас привлекательными для привокзальной публики.
Мы перешли через пути, в маленькой хлебной лавочке, примостившейся у обочины шоссе, купили три горячих, благоухающих хлеба и, довольные столь успешным исходом вылазки, отправились в обратный путь.
Машина успела нагреться на солнце. От нее пахло бензином и теплой резиной, а внутри было душно. Я открыл оба окна и спросил:
– Тебя не продует, когда мы поедем?
Она не ответила.
Тогда я предложил ей отщипнуть кусок от буханки, но она отказалась. В ее отказе почудилось мне что-то странное. Только что, когда мы были в булочной, она с таким нескрываемым вожделением вдыхала духовитый пшеничный запах, что во рту становилось сладко.
– Тебе не напекло голову?
Она лениво покачала головой и отвернулась к окну.
– Если не возражаешь, давай остановимся у почты. Мне надо позвонить. Подождешь?
Она покорно вылезла из машины и, пока мы шли к маленькому неказистому домику с рекламой сберкассы на фасаде, не проронила ни слова.
«Денег накопил – машину купил». Мужчина со стертым лицом жулика протягивал небу сберегательную книжку, как бы призывая его в свидетели защиты, которая попытается доказать, что машина куплена на трудовые доходы.
22
Я попросил соединить меня с Москвой и наблюдал, как телефонистка ковырялась с бесчисленными штырьками, то выдергивая их, то вставляя в гнезда.
– Симпатичная у вас дочка, – сказала телефонистка. – Москва? Москва говорит! Идите во вторую кабину. Москва? Говорите.
На том конце провода кричали:
– Алло! Плохо слышно. Валя, выключи мотор! Теперь хорошо. Андрей Александрович?
– Добрый день, – сказал я, не узнавая своего почему-то вдруг охрипшего голоса. – Как прошел опыт?
– Лучше, чем ожидали. Выход шестьдесят пять процентов. Но не это главное. Вчера получили два письма. Прекрасные результаты. Высокая эффективность при очень низкой концентрации.
– А как же то?
– Что?
– То письмо.
– Теперь уже неважно.
– Почему?
– Разные организации.
– Ясно.
– В общем, все в порядке.
– Пробовали комбинированный препарат?
– Да.
– С чем сравнивали?
– С фентиазинами. Наши имеют гораздо большую активность.
– Кто-нибудь был у них?
– Сережа.
– Когда?
– Сегодня утром.
– А шеф.
– Нейтрализован.
– В каком смысле?
– Потом объясню.
– Ладно.
– При встрече.
– Я понял.
– Главное, что они заинтересованы.
– Теперь, наверно, нужно связаться со смежниками.
– Все сделаем. Отдыхайте спокойно. Как погода?
– Солнце, жара. Сейчас немного легче.
– А у нас с утра дождь.
– Видно, сюда не дошел.
– Вам звонила днем женщина… Алло! Фу! Что за черт? Вы меня слышите?
– Да-да.
– Звонила женщина. Какое-то странное у нее имя. У меня записано…
– Не нужно, – сказал я поспешно. – Нет-нет, потом.
– Еще главный инженер завода звонил. У них с сырьем не ладится.
– Что именно?
– Он хотел говорить с вами.
– Хорошо, я приеду.
– Отдыхайте спокойно. Вы же в отпуске.
– Я приеду, – сказал я.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
После кабины в помещении почты казалось прохладно. И даже сыро. Я взмок с головы до ног и теперь остывал.
Поворот дороги отвлек меня. На шоссе у водокачки валялся велосипед, рядом лежала перевернутая корзина с грибами, несколько из них было раздавлено и оставило скользкий след на шоссе. Чуть в стороне, в кювете, лежал мотоцикл. Человек пять толпились у места аварии, и я испугался, что Марина может увидеть страшные следы дорожной катастрофы. К счастью, жертв не было. На всякий случай я притормозил, чтобы, если нужно, подвезти пострадавших к больнице, но мне махнули рукой: проезжай!
Слава богу, сказал я, повинуясь обычаю благодарить небо за всех спасенных на дорогах. Казалось, дорожный эпизод не произвел на сестру впечатления, она не задавала вопросов и ничего не сказала, а также молча продолжала смотреть на плывущую за окном линию убаюканного движением далекого леса.
Через пять минут, когда подъехали к дому, я вышел из машины и открыл ворота, а она продолжала сидеть неподвижно и очнулась лишь после того, как я завел машину во двор, в тень естественного гаража между лиственницей и липой.
– Царевна, проснитесь! Приехали. Забирай хлеб, и поживее. Нас ждут.
Она сползла с сиденья, забрала сумку с хлебом и, остановив на мне взгляд, как-то жалко улыбнувшись, сказала:
– Тебя все принимали за моего папу.
– Кто это все?
– Ну все.
– Почему ты решила?
– Я видела.
– Фантазерка, – сказал я и запер машину на ключ.
Она побежала, а я пошел следом за белым бантом, мелькающим среди тщедушных кустов смородины.
23
Со своего места за обеденным столом я вижу домик, вырезанный бабушкой из куска ватмана: двери, крышу и даже балкон, на котором стоит человечек в красном тюрбане. Марина сказала, что это продавец ковров. Всего несколько прорезей, два-три карандашных штриха, но белый двухэтажный дом – как настоящий. Не просто дом, а далекой давности, тысяча восемьсот какого-то года дом на одной из улиц восточного городка, терпкий аромат которого он излучал.
«Вот откуда у мамы художническое умение так просто и верно передавать характер предметов, – подумал я. – Она не приобрела его вместе с профессиональными навыками, а унаследовала от бабушки Софьи». Не только у Марины этот дом, но и у меня в детстве был прекрасный кукольный театр с куклами из папье-маше, целиком сделанный бабушкиными руками, и вереницы зверей и детей: взявшись за руки, они водили хороводы вокруг елки. Дети, звери и елка были вырезаны из бумаги. Бабушка не любила наводить лоск, пользоваться клеем, и если приходилось соединять две крайние фигурки, чтобы получился хоровод, сшивала их ниткой на скорую руку. То, что нитки были видны, не портило впечатления от всей композиции в целом – напротив, подчеркивало ее безыскусную, непритязательную прелесть.
Мы сидели за непривычно малолюдным обеденным столом на веранде.
– Где Захар Степанович? – спросил я.
– Ушел, – сказала бабушка. – Ни за что не захотел остаться обедать с нами. Он стал нелюдим. Ведь у него, Андрей, большое горе. Несколько месяцев назад сын на мотоцикле разбился. Мастер-краснодеревщик, единственный сын, отцовская гордость…
Где-то колесили сейчас его пыльные, стоптанные башмаки, где-то прикладывался он к «четверке» – столь обычная, будничная для нашей местности картина: пьяный Захар. А может, и не пьяный. Может, у него просто походка такая – тяжелая и заикающаяся.
Это была вторая смерть, о которой я узнал после приезда в Лукино, – причем случайно, за столом, между первым и вторым блюдами. Она почти не произвела на меня впечатления, ибо я никогда раньше не видел погибшего, но от этого стало еще более горько и стыдно: ведь бабушка сказала, что у Захара Степановича Дворина погибла его гордость. Некоторое время все молчали, как бы испытывая чувство всеобщей вины, хотя никто из нас, собственно, не был виноват в том, что произошло. Пока он незримо присутствовал среди нас, я вновь видел его как бы вдавленное лицо и представлял этот последний взмах крыльями бабочки, которая не может улететь. На сей раз кредитор пришел в образе ангела-хранителя, и поначалу я не узнал его.








