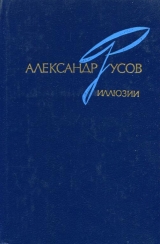
Текст книги "Иллюзии. 1968—1978"
Автор книги: Александр Русов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 26 страниц)
Работа кочевала из ведомства в ведомство, умирала и воскресала благодаря усилиям энтузиастов. О ней забывали и вспоминали тогда, когда она требовала новых источников финансирования. Последний всплеск интереса к «Рафиниту» совпал с началом кампании по охране окружающей среды. Именно на этот период приходятся основные затраты (примерно в пятьдесят раз большие, чем на все базановские работы), ибо Нитшулер, добравшись с обновленным ватманским листом до самых верхов, убедил их в том, что решение может быть найдено лишь путем строительства крупной промышленной дорогостоящей установки и доведения отдельных узлов по мере необходимости.
Система «Рафинит» занимала на заводе огромные производственные площади, но так и не работала.
На ученом совете проблема рассматривалась впервые, не обсуждаться научной общественностью она уже не могла – пришел срок платить по выданным много лет назад векселям.
Оказалось, что даже при доведении установки до идеального уровня, о котором пока не приходилось мечтать, ее работа будет не прибыльна, как полагали когда-то, а убыточна. За эти годы на руководимом тов. Филоненко заводе были поставлены другие установки, дававшие не менее высокое качество очистки, чем ожидалось от «Рафинита». Но прибыли считают люди. Убытки – тоже. И если человек в чем-то заинтересован, он может посчитать чуть иначе, чем незаинтересованный, ибо арифметику, арифмометры и счетные машины придумали тоже люди. Они придумали методики, по которым производят расчет эффективности. И премии. И авторские вознаграждения.
Итак, установки не было. Как и денег, на нее потраченных. Походило на мистику, кошмарный сон. Установки «Рафинит» не существовало даже как ошибки, что и подтвердил ученый совет. Ведь если «Рафинит» ошибка, то должен же был ее кто-то допустить, а виновных быть не могло. Если виновны соавторы, то куда смотрели те, кто разрешил и финансировал эту работу? А если виноваты финансисты, то на чьи верховные головы должен опуститься меч правосудия? И можно ли поручиться, что прежде не полетят головы тех, кто пожелает разыскать виновных? Как говорится, чего вернуть нельзя, о том и горевать стыдно. А людей жалко. Себя жалко. Председатель совета предложил дать авторам время закончить экспериментальную проверку установки «Рафинит» и сам голосовал за это предложение. Профессор Базанов тоже голосовал «за». Дело спускали на тормозах.
В один из тех дней Базанов вернулся с работы домой, лег на диван, отвернулся лицом к стене и пролежал без малого месяц. Это был его первый микроинфаркт.
XXI
В последние наши с Виктором совместные посещения капустинской мастерской их споры носили особенно ожесточенный характер. Базанов возбуждался до крайности и даже по дороге домой все никак не мог успокоиться. Шумел, размахивал руками, орал на всю улицу.
– Все мы рвемся куда-то, требуем для себя привилегий, предъявляем непомерные претензии. А чего нам на самом деле не хватает? Культуры. Натащили кусков, устроили свалку. Каждый в свой карман тянет. Цельной культуры нет. Нет ее! Словно забыли о пройденном человечеством пути. Равняемся друг на друга, вместо того чтобы тянуться к вершинам. Не деньги, не должности нам нужны – элементарная культура.
И это Базанов! Если ему недоставало культуры, то что говорить об остальных? О Январеве, Гарышеве, Меткине, Валееве, Крепышеве – о том новом поколении институтских руководителей, которое так решительно заявило о себе в последнее время и о котором старик Романовский сказал как-то в сердцах: «воинствующая недокультура». Рыбочкин держал свою линию: «Хорошо рассуждать на сытый желудок». Виктора эта фраза приводила в бешенство.
– Грубо чувствуем. Примитивно мыслим. Забыли, что такое добро. Ведем себя, как дикари. Когда-нибудь за все это придется дорого заплатить. Уже платим. Знаете, кто мы? Рыбы, выброшенные на берег.
Как легко догадаться, это продолжение базановского монолога. Его категорический стиль периода войны с Френовским. Позже он не сказал бы так. Вообще в последнее время Базанов сделался молчалив, мягок, лоялен, точно поддерживал себя исключительно с помощью успокоительных средств. В черные времена он напоминал ретивого бычка, ловко отражающего удары и всегда готового к нападению, но когда жизнь отпустила его, даровала свободу, деньги, власть, он все чаще выглядел вялым, покорным, словно придушенным. Какая-то обесцвеченность появилась в лице и в глазах. Сорокалетний мужчина выглядел обессилевшим, измученным болезнями старцем, с трудом несущим бремя прожитых лет.
Иногда, по давней памяти, он вдруг взбрыкивал, говорил что-нибудь резкое, принимался ухаживать за женщинами, но это был уже не тот Базанов, совсем не тот. Микроинфаркт, связанные с ним осложнения, головокружения, обмороки, спутанность мыслей. Ему требовался основательный, длительный отдых. Один раз в году он ездил лечиться в санаторий – необходимая, но, видимо, недостаточная мера.
Когда 29-ю лабораторию М. Б. Френовского преобразовали в 21-ю лабораторию поисковых исследований, значительно увеличив ее за счет сокращения числа лабораторий в отделе с девяти до семи (Калабина и Вектурова проводили на пенсию под предлогом укрупнения подразделений), Базанов вместо радости испытал полную растерянность, будто ждал совсем иного. Будто затраченные усилия и конечные результаты столь не соответствовали друг другу, что он не мог даже уловить между ними реальной связи.
Сдавливавшее шею ярмо, к которому он долго, мучительно привыкал, сначала воспитало, а затем поддерживало в нем упорство и ненависть – главные источники силы той поры. Теперь ему некого было ненавидеть. Он пытался расслабиться и рухнул, не выдержал релаксации. Наверняка все его болезни были от этого.
Пример Базанова лишний раз подтверждает, что коренным образом менять свой образ жизни в сорок лет так же опасно, как в восемьдесят пять переселяться из одной части света в другую, как в любом возрасте стремительно погружаться на большую глубину, а потом резко всплывать на поверхность. Не выдерживают барабанные перепонки, вскипает кровь, наступает паралич, глухота, гибель.
Возможно, в сложившихся обстоятельствах имелся только один способ уцелеть, остаться сильным и уверенным в себе – это путь Френовского. Но не Виктора.
Я прокручиваю ленту времени лет на десять назад. Большой компанией мы являемся в его дом и застаем родителей – Елену Викторовну и Алексея Степановича, а также младшего брата Володю. День рождения, судя по всему, хотя Базанов тщательно конспирируется.
– Какой там повод! Не выдумывайте. Просто хорошая погода – вот и весь повод. Всегда приятно видеть старых друзей.
Наверно, и близким строго-настрого повелел: никаких упоминаний о дне рождения. Сама мысль, что люди в поисках подарка станут, высунув язык, носиться по магазинам или почувствуют себя неловко теперь, явившись с пустыми руками, была ему неприятна.
Все-таки постепенно прорывается, обнаруживается. Правда, по-прежнему никто не произносит нежелательных для Базанова слов, никто не поздравляет, но все чего-то желают.
Елена Викторовна – счастья:
– Тебе, сынок, твоей семье: Ларисе, Павлику.
Володя, как всегда, бесцветно:
– Старик! Будь здоров!
Алексей Степанович:
– Присоединяюсь. Мой отец, твой дед, говаривал, что счастлив может быть только тот, кто в своем деле первый.
Лариса:
– Желаю, Витенька, победить. Знаешь, что я имею в виду. – (Это знал не только Виктор, но и все сидящие за столом.) – Ты победишь, я верю.
Кто-то пропел:
– Чтоб со скорою побе-е-дой…
Кто-то, уже изрядно набравшись:
– Виктор – значит «победитель».
Игорь Рыбочкин, с присущим ему лаконизмом:
– Виктор Алексеевич!
Базанов:
– За нас!
Звон рюмок, несмолкающий шум голосов. Пили за победу, желали победы, ждали ее, и вот она наконец пришла. Явилась во всем своем блеске.
– Знаешь, Алик, иногда мне кажется, что я прожил не одну, а несколько жизней.
Насчет н е с к о л ь к и х жизней он явно преувеличивал. Всего две. Одну до победы, другую после. И обе лежали теперь передо мной на столе. Жизнь в фотографиях.
Не только его. Моя – тоже.
Фотографии разных людей – это и ты сам, отраженный в чьих-то глазах, улыбках, нахмуренных бровях, неестественных позах. Разные люди по-разному смотрят на тебя, нажимающего кнопку затвора. И потом в невидимом фокусе, в вынесенной за пределы фотографии точке сопересечений разнообразных взглядов различаешь собственное изображение, точно интерференционную картину, возникшую благодаря множеству световых наложений, или как подвешенный к дирижаблю портрет, вспыхивающий чудесным ночным видением в послевоенном праздничном небе, пронизанном острыми спицами прожекторов.
Придя ко мне за фотографиями, Павлик попросил помочь ему разобрать бумаги отца. Кажется, его мучила совесть.
– Я пытался сам, но есть записи, связанные с работой. Отец, очевидно, собирался что-то сделать и не успел.
– Хорошо, Павлик. Если чем-нибудь смогу помочь. Как Ирочка?
– Ужасно. Она так пережила. Не желает больше видеть меня. Говорит, что больше не любит.
– Возможно, ей только кажется.
– Нет, дядя Алик. Пакс не обманывает. Я вижу по глазам. Ведь я не настаивал. Мы думали, так лучше.
– Наверно, вы оба правы.
– Тогда почему?
– Успокойся, все уладится.
Он чуть не плакал. Господи, – подумал я, – неужели в наше время еще встречаются такие нежные, чувствительные дети?
– Извините. Мне не с кем поделиться. Я рассказал только вам.
– Алик, Павлик, ужинать! – донесся голос Светланы.
Гремели тарелки. Пахло жареным.
– Мне пора. Я не хочу есть.
– Пошли.
Мы вышли на кухню.
– А вот и мы.
– Давайте, давайте.
– Садись.
– Сюда, Павлик. Здесь Алик сидит.
– Стареем, – подмигнул я Базанову-младшему. – Свое место, своя чашка. Мы с Павликом, пожалуй, выпьем. За его поступление в университет.
Светлана открыла дверцу холодильника. Павлик покосился на ее живот, вскочил, почти с испугом, покраснел, засуетился, уступая место.
– Вот еще табуретка, – сказал я. – Ты что-то стал по-профессорски рассеян.
– Будущий профессор истории, – сказала Светлана.
Павлик вежливо оглядел нас. Я поставил ему большую рюмку, открыл бутылку и стал наливать.
– Хватит, – сказал он, едва водка плеснулась о дно.
– Ты что, совсем не пьешь?
Уже в дверях, прощаясь, я обещал позвонить, как только немного освобожусь, чтобы помочь разобрать бумаги отца. Потом замотался и позвонил только через три недели.
Жизнь удивительным образом продолжала сводить нас с Базановым. Я становился теперь не только интерпретатором его судьбы, духовником сына, но и хранителем личных бумаг, чем-то вроде биографа и душеприказчика. Ко мне приставал Ваня Брутян с просьбой помочь организовать Базановские чтения, терзали напористые корреспонденты газет, журналов и тихие авторы диссертаций.
Заметки, в которых, по словам Павлика, «ничего нельзя было понять», перемежались записями дневникового характера, сделанными Виктором в санатории. Неожиданным оказалось не столько это свободное чередование житейского с узкоспециальным, сколько сам факт ведения дневника. Базанов, записывающий свои санаторские впечатления, был так не похож на того Базанова, которого я знал, что если бы не почерк и не следы «термодинамической химии», удостоверявшие его авторство более надежно, чем любая подпись, мои сомнения обратились бы в непоколебимую уверенность: нет, это не Виктор – кто-то другой.
Павлик передал мне четыре ученические тетради в косую линейку, которые могли принадлежать кому угодно: аккуратисту, отличнику, тихому шизофренику – но уж никак не размашистому, рассеянному, безалаберному профессору. Я увидел чистые обложки, перевернул несколько глянцевых страниц с полями, отделенными тонкой розовой линией, заполненных ровными, мелкими строчками словно бы тщательно переписанного текста, и что-то больно стеснило грудь. Представил себе, как Базанов заходит в местный магазин, тянет руку к первым попавшимся на глаза тетрадям для второго класса. Ему просто в голову не пришло спросить другие. И потом, будто запряженная в повозку старая лошадь, покорно плетется по колее, соблюдая наклон букв, предписанный школьными правилами правописания.
В манере письма чувствовался какой-то надлом, подчиненность внешним обстоятельствам, тогда как содержание записок, напротив, оставляло впечатление внутренней уравновешенности. Но и здесь настораживало отсутствие знакомых имен, как бы полная отрезанность от предыдущей жизни.
Из различия интенсивности цвета чернил и почерка следовало, что записи велись в течение нескольких дней, возможно, недель, однако никаких дат и перерывов в тексте я не обнаружил. Почему у Виктора возникло желание описывать свое пребывание в сердечно-сосудистом санатории?
Мы договорились с Павлом, что я возьму тетради с собой, просмотрю их и выпишу все н е п о н я т н о е. Потом покажу это сотрудникам лаборатории, которой заведовал его отец.
XXII
Из записей В. А. Базанова.
«…Как они могли рассчитать среднестатистические характеристики ансамблей коротких несамопересекающихся цепей… машинные эксперименты проводили методом Монте-Карло с помощью техники «скользящей змеи», предусматривающей случайные смещения для звеньев, находящихся вблизи «головы» цепи… При самопересечениях «голова» и «хвост» меняются местами. Это повторяется со мной в последнее время все чаще. И здесь, в санатории, тоже. Мучительно пытаешься дотянуться до какого-то предмета и не можешь. Пальцы не слушаются, скользят… В блоке полимерные цепи все-таки можно моделировать блужданиями второго порядка…
Мой новый сосед по комнате спрашивает:
– Неужели вас по-прежнему интересуют те абстрактные вещи, которыми вы занимались там?
Он приехал вчера, поздно вечером. Поведение вновь прибывающих больных в какой-то мере отражает истинное состояние их здоровья. Но тут важно именно первое впечатление.
– Тридцать книг, которые я написал и опубликовал, – все, что сделал, кажется сейчас таким пустым, мелким и незначительным, что…
– Неплохой вид, – перебил я его, глядя в окно.
– А? Да. Море видно.
– Вам понравится.
– Мне недолго осталось любоваться морским пейзажем. Вы-то, в вашем возрасте, как сюда попали?
– На общих основаниях.
– На общих основаниях в этот санаторий не попадают. – Сосед заметил на тумбочке монографию Дюльмажа. – Имеете какое-то отношение к технике?
– Я научный работник.
Он окинул меня быстрым взглядом.
– Директор института?
– Заведующий лабораторией.
– Моя фамилия Иванов. Она вам, конечно, ни о чем не говорит. – Он на мгновение замолк в робкой надежде, что я его опровергну. – Бенедикт Яковлевич Иванов.
Мы пожали друг другу руки. Иванов взял со стола переводную монографию Дюльмажа, раскрыл наугад и прочитал по складам вслух:
– «Термодинамическая пертурбационная теория разделения фаз». Слишком сложно! – Он решительно захлопнул книгу. – Когда попадаешь в этот водоворот, начинаешь понимать, что в сравнении с жизнью все остальное – ничто. У вас какой диагноз?
– Маленький инфаркт.
– Вы молодец.
– Мне здесь хорошо, – сказал я. – Оборудовать бы маленькую лабораторию и работать в свое удовольствие.
– Это возможно?
– Вряд ли. Акты экспертизы некому оформлять.
Писатель не оценил шутку.
– В школе физика наводила на меня ужас и смертельную тоску.
Я охотно верил.
– Представляете, меня здесь узнали, – радостно сообщил Иванов. – Правда странно, когда тебя узнают незнакомые люди? За завтраком молодой человек попросил автограф. Примерно вашего возраста. Журналист-международник.
– Бунцев?
– Вы его знаете?
– Бунцева знают все.
Удивительная личность. Первый набрасывается на приезжающего, утоляет минутный интерес, тотчас охладевает и отправляется на поиски свежих впечатлений. Единственное исключение – моя бывшая соседка по столу Эльвира.
– Кто ваш лечащий врач?
– Доктор Земскова.
– У меня тоже. Милая женщина.
Кажется, мы обменялись всей необходимой информацией.
– Пойду погуляю. Вы остаетесь?
– Да, хочу написать письмо. Скажите, почта далеко?
– Рядом. Почта, магазин, море – все рядом. Если уйдете, оставьте ключ у дежурной.
Это желание писать письма, столь острое в первое время, скоро проходит. Неделя-другая – и уже никаких писем. Мы решительно отделены от находящихся вне стен этого солидного сердечно-сосудистого учреждения. Кто верит в выздоровление, кто не верит, но те и другие навсегда расстались с прошлым, получив взамен место в комфортабельном санатории и надежду на новую жизнь. Возможно, причина – не только болезнь. Возможно, причина и следствие, как «голова» и «хвост» молекулярной цепи в случае самопересечений, поменялись местами. Вопрос в том, сколько потребуется энергии, чтобы выжить. И хватит ли ее?
Я спустился по ковровой дорожке лестницы в нижний холл, весь зеленый от растений, и по боковому застекленному коридору, тянущемуся вдоль западной стены главного корпуса, направился к выходу в сторону моря. До обеда оставалось минут сорок.
Странные мысли, навеянные чтением третьей главы монографии Дюльмажа, появлением писателя Иванова, моделью свободносочлененной цепи с распределением конфигураций в пространстве, отвечающим условию Кирквуда, и впечатлением от ярко освещенной солнцем пористой поверхности стен, роились в голове. В рамках подхода Перрена, времена ослабления анизотропных свойств для жесткого эллипсоида могли быть представлены суммой времен релаксации, связанных, в свою очередь, с коэффициентами вращательной диффузии и временами вращательной релаксации, обусловленными…
Цепь скользила, скользила, и сердце замирало в груди.
– Виктор Алексеевич, добрый день.
– Добрый день, доктор.
– Как себя чувствуете?
– Прекрасно. Когда разрешите купаться?
– В следующем году.
– Не раньше?
– Вряд ли.
– Зачем тогда построили санаторий у моря?
– Не ожидали, что в нем будете лечиться вы.
– А остальным можно?
– Кому можно, тот купается.
– Например, моему новому соседу, писателю Иванову?
– Тоже нельзя.
– Утешили.
– Зайдите ко мне завтра утром. До завтрака, пожалуйста.
– Хорошо.
– Гимнастику не пропускаете?
– Что вы! Я ведь служащий, дисциплинированный человек.
Поговорили. Расстались. Исчезла в глубине коридора фигура доктора Земсковой.
Я прошел по теневой стороне парковой аллеи почти до конца и никого не встретил. Море было беззвучно. Голубел его лоскуток в просвете между деревьями.
Если интегрировать уравнение Перрена, то для различных аксиальных отношений можно получить выражения… можно получить…
Сердце стучало с сумасшедшей скоростью, как мотор перевернувшейся кверху колесами машины. Совершенно впустую, понапрасну крутились колеса.
Не могу, разучился, ни на что больше не годен. Вот уже скоро два года. Самое большое, на что способны врачи, это составить выписку из истории болезни, нашпигованную латинскими названиями, одного количества которых вполне достаточно, чтобы убить слона.
Убить слона, продлить время релаксации, свести к нулю потенциал взаимодействия Леннарда-Джонса, от которого теперь никакого толка, никакой пользы…
Я почувствовал сильное жжение в груди, головокружение и слабость. Испугался, что опять потеряю сознание. Последний раз это случилось перед отъездом. Даже не понял тогда, что произошло. Открыл глаза и обнаружил, что лежу на полу. Не хватает свалиться на дорожке парка.
Добрел до лавочки, сел. Лоб покрылся холодной испариной. Между этим и тем стала ощутима граница – туго натянутая пленка. Потерял точку опоры, навалился всей тяжестью. Стоило ей порваться, и я бы рухнул туда. Но пленка выдержала. Ветерок холодил тело.
Я боялся пошевелиться, испытывая теперь только слабость, страх и жалкое состояние беспомощности.
Просидел на скамейке, наверное, полчаса. Никого вокруг. Гнусная тусклость садовых ваз, клумб, цветов, пирамидальных тополей постепенно переплавлялась в тихое очарованье южной природы, в волнующе строгую геометрию парковой архитектуры. Будто кто-то тер пальцем по мокрой рыхлой бумаге, снимал слой за слоем, пока под грязными катышками не обнаружилась яркая переводная картинка. Голубело море, краснели цветы, желтел песок под ногами.
Отпустило. Стало легче дышать. Лоб высох. Подсохла рубашка. В воздухе вновь потеплело.
Я поднялся и медленно побрел к столовой.
За нашим столом пустовало только мое место. Полоса солнечного света, обычно лежавшая на скатерти, пока мы ждали официантку, и по диагонали разделявшая ее как бы на две половины – женскую и мужскую, теперь сползла на пол.
– Что-то вы сегодня опаздываете.
Старая большевичка Клавдия Николаевна Ярлыкова, соседка слева, укоризненно качала головой.
Место уехавшей вчера Эльвиры напротив меня заняла новая девушка. Ее прямые рыжеватые волосы были заплетены в толстую короткую косу, огромные, как у косули, глаза тонко обведены тушью. Потупившись, она ела совершенно бесшумно, точно боялась обратить на себя внимание.
Клавдия Николаевна поджимала губы, глядя на ее туго обтянутую кофточкой грудь, а мой сосед справа, ответственный работник министерства Серафим Гаврилович Хвостик, оживленно болтал, чего с ним обычно не случалось.
– Мы тут на ваш компот покушались, – дежурно шутил и посмеивался он.
Я удивился, не обнаружив Бунцева рядом. Но не только Бунцева – в столовой вообще, кроме нас, никого не осталось.
Точно в пламени пожара, светились за окнами осенние деревья парка. Раскалялась земля, полыхало небо, и только двойные стекла, казалось, мешали услышать шорох опаляемых листьев, потрескивание сгорающих сучьев.
– У нас новая соседка.
Серафим Гаврилович поерзал на стуле.
– Ее зовут Оля.
Заместительница Эльвиры подняла глаза от тарелки, взглянула на меня, едва заметно улыбнулась, не размыкая губ.
– А это, – продолжал он знакомить нас, – Виктор Алексеевич, доктор наук, профессор.
Последние слова Серафим Гаврилович произнес с особым удовольствием, будто они и ему придавали дополнительный вес.
– Так что за нашим столом находится теперь самый юный пациент санатория.
– И самый старый, – добавила Клавдия Николаевна, с трудом вставая со стула. – Эх, что-то засиделись мы нынче.
Серафим Гаврилович тоже поднялся.
– Приятного аппетита! Правда, компот сегодня невкусный. Иначе бы я съел и свой и ваш. По рассеянности. Ха-ха!
– Так и видишь его в большом кабинете за огромным письменным столом, – сказал я, когда Клавдия Николаевна и Серафим Гаврилович отошли.
Оля снова подняла на меня свои огромные глаза.
– Серафим Гаврилович – ответственный работник министерства.
– Бывший, – заметила Эльвирина заместительница.
У нее оказался приятный, чистый голос.
– То есть как?
– Он на пенсии.
– С чего вы взяли?
Оля не ответила. Только теперь я увидел на безымянном пальце ее правой руки массивное, старинное кольцо, похожее на обручальное.
Компот действительно оказался водянистым. Мы поднялись из-за стола. Джинсы плотно обтягивали ее маленький зад, облегали узкие бедра и далее свободно спадали вдоль стройных, длинных ног. У нее была фигура богини.
– Как это вы умудрились, милая Ольга, попасть в сию печальную обитель? – задал я вопрос, который должен был задавать ей каждый.
– Почти случайно. Мое сердце в порядке.
Мы вышли на свежий воздух. Касаясь разогретых каменных плит, солнечные лучи вскипали, точно масло бросали на раскаленную сковородку или разогретый утюг касался влажной материи.
– Где же вас поселили?
– Там. – Она указала на главный корпус.
– Значит, мы живем рядом. Я на третьем этаже. А вы?
– Тоже.
– Приятная неожиданность. С какой-нибудь древней старушкой?
– Одна.
Она недоуменно пожала плечами.
Чья-нибудь дочка, – подумал я. – Этого достаточно, чтобы в девятнадцать лет ездить по санаториям со здоровым сердцем и жить в отдельной комнате.
– Да, – сказала Ольга с улыбкой, точно читая мои мысли. – Вы угадали. Мой отец занимает ответственный пост. Но, в отличие от нашего соседа по столу, он – реальная, действующая фигура.
– Почему вы решили, что Серафим Гаврилович – не действующая фигура?
– Здесь все такие.
– Как вы легко судите о людях!..
– Не волнуйтесь. Вам нельзя. Хотите повторения приступа?
– Все-то вы знаете, – буркнул я.
Девушка опустила глаза. Мне показалось, что она смущена.
– Думаете, зачем пыжится наш сосед, изображая из себя большого начальника? – спросила она. – Почему так уверена в себе Клавдия Николаевна? Чем они живут и почему так долго?
Я смотрел на нее с недоумением и растерянностью.
– Единственное, что может защитить человека от болезней и смерти, это способность радоваться жизни и не требовать от нее слишком много.
– Я вижу, вы решили научить меня уму-разуму.
– По-моему, вы в этом нуждаетесь.
Я рассмеялся.
– Ах, какая мудрая, многоопытная женщина! Интересно, сколько вам лет?
– Нетактичный вопрос.
– Да вы мне в дочки годитесь. Я вот не скрываю свой возраст.
– Вам еще рано.
– И не собираюсь…
– Мужчине это не нужно.
– Знаете, о чем я сейчас подумал? Вы совсем не та, за кого себя выдаете.
Она взглянула насмешливо.
– Вы переодетый врач. Или медсестра из фантастического рассказа о самоубийцах, которых отправляют в лучший мир самым что ни на есть комфортабельным образом. Ну, не сердитесь… Вы слишком молоды и красивы, чтобы обижаться на глупые шутки старика.
Слово «старик» развеселило Ольгу. Она дурашливо покачала головой, и хвостик ее рыжей косы метнулся из-за плеча.
– Ох уж, старик… Вы просто перетрудились, перенапряглись и потому оказались здесь. Нельзя опережать самого себя.
Есть нечто жутковатое в том, когда юное существо начинает читать твою жизнь точно по книге. Я уже давно отвык, что меня можно экзаменовать, изучать, учить.
– И пожалуйста, имейте в виду, – сказала Ольга, как бы продолжая ход мыслей, – мне безразлично, что вы профессор. Это не самое интересное.
– Ясно! – воскликнул я. – Вы не врач, а переодетая небожительница. Не признаете земной иерархии.
Ее лицо и правда напоминало одно древнее изображение, которое я видел в берлинском музее.
– У вас есть что-то общее с Кибелой.
Она метнула в мою сторону настороженный взгляд и ничего не ответила.
Нам навстречу по дорожке шел озабоченный Бунцев. Он даже споткнулся, заметив нас.
– Привет!
Бунцев во все глаза рассматривал мою спутницу.
– Познакомьтесь, – сказал я без всякого энтузиазма. – Алексей Бунцев. А это Оля.
Бунцев поклонился преувеличенно вежливо.
– Ну и умеешь ты устраиваться! – Его глаза восхищенно сияли. – Во время моей последней поездки на Мадагаскар…
– Учти, Оле это не интересно.
– Откуда ты знаешь?
– Она повидала весь мир.
– Такая очаровательная женщина… – Бунцев рвался с привязи, как истомившийся королевский дог. – Где-то я вас уже встречал. Вы не с телевидения? Постойте. Ну да. Два года назад, когда нас, представителей прессы, сажали в «боинг»…
– Что слышно об Эльвире? – вновь перебил я его. – Прислала она тебе телеграмму?
Бунцев понял, что от него хотят избавиться.
– Пока нет. Ну ладно, привет, пойду мерить температуру.
– До вечера.
Бунцев стремительно направился к корпусу. Постоянная спешка была образом его жизни. Запрети ему врачи спешить, он бы просто умер от сердечной недостаточности.
– Я тоже пойду, – сказала Ольга.
– Какой ваш номер?
– Встретимся за ужином.
Я вернулся в парк, по которому там и здесь прогуливались после обеда больные. Ходили по трое, парами, в одиночку, прислушиваясь к работе своего сердца. Каждый его удар был выигран ими у жизни. Кто знает, сколько инфарктов, инсультов, стенокардии было связано с непосильным трудом в лаборатории, за письменным столом и сколько сердец надорвали – как конверты с деловыми письмами – походя, между прочим, в спешке, или как режут автогеном металлический лист – медленно, равномерно и почти незаметно до тех пор, пока кусок металла под силой собственной тяжести не рухнет с грохотом на асфальт.
Парк и главный корпус, построенный недавно, содержались в безукоризненном порядке. Подстриженные газоны, кусты, не прекращающееся цветение роз, ровные дорожки. Нигде, даже на задворках, не валялось ржавых водопроводных труб, железобетонных блоков, рассыпанных кирпичей. И хотя все радовало глаз, успокаивало, вселяло уверенность, излюбленной темой Серафима Гавриловича Хвостика была критика нашего санатория. Неисправимый брюзга, он отыскивал массу мелких неудобств и недостатков, противопоставляя им достоинства санатория, в котором лечился прежде, пытался доказать, что лучшее – враг хорошего, что можно и должно стремиться к лучшему и в следующем году надо бы постараться попасть именно в тот, еще более комфортабельный санаторий.
Клавдия Николаевна возражала Серафиму Гавриловичу, каждый раз вспоминая бытовые условия времен гражданской и Великой Отечественной, подчеркивая собственную неприхотливость, непритязательность и необязательность даже тех удобств, которые ей были предоставлены здесь.
Санаторский клуб в это время дня пустовал. На зеленом сукне бильярда лежали беспорядочно рассыпанные шары. Одиноко горел глазок игрального автомата. Я вытащил из кармана пригоршню монет, нашел пятнадцатикопеечную и опустил в щель. Экран засветился. По левой стороне шоссе проплыл силуэт легкового автомобиля. Нужно было нажать на педаль и поворачивать руль то вправо, то влево, чтобы, обгоняя попутные машины, не столкнуться со встречными. Левостороннее движение – и никакого обзора. Я был не приспособлен к этой игре, или игра была не приспособлена ко мне. Бег барабана, имитирующего бесконечный путь с пунктирной разделительной полосой, прекратился, свет померк, шум мотора замолк. Жалкая, плоская тень автомобиля прилепилась к воображаемому шоссе, точно мокрый окурок к асфальту.
Вернувшись в палату, я застал соседа за письменным столом.
– Где пропадали? – поднял он голову.
– Гулял.
– А я все с письмом мучаюсь. Проклятые профессиональные навыки. Легче рассказ написать, чем простое письмо.
Я лег поверх одеяла. Кровь загудела в кончиках пальцев.
– Напишете здесь свою тридцать первую книгу.
– Нет, – замотал головой Иванов. – Повторяться не хочется, а нового не могу. Исписался. Беда в том, что я ничего, кроме этого, не умею.
Сосед в раздражении скомкал лист и бросил в корзину.
– Так не хотелось ехать. Домашние настояли.
Иванов перехватил мой взгляд. На тумбочке рядом с его кроватью лежали две книги.
– Хотите почитать? Не советую. Лучше – классику. То, что успело стать классикой.
Время близилось к полднику. Я не заметил, как заснул, а когда проснулся, Иванова в комнате не было. Смеркалось. Лоскут далекого моря за окном серебрился у горизонта. Часы показывали без четверти семь. Организм жил как заведенный – от обеда до ужина. Проспать невозможно. Всякий раз срабатывает внутренний будильник. Девять утра, два часа дня, семь вечера.
Я вошел в ванну, пахнущую аптекой, открутил два зеркально сверкающих крана, умылся под сильной струей, стекавшей в стерильной белизны раковину, и уже через пять минут шагал привычным путем по дорожке, которая была началом маршрута № 2, отмеченного колышками с голубыми указателями.








