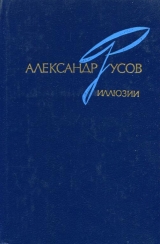
Текст книги "Иллюзии. 1968—1978"
Автор книги: Александр Русов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 26 страниц)
Базанов был щедрым источником идей, которые мало кого волновали, неожиданных решений, для осуществления которых не хватало рабочих рук, и не оказалось рядом другого, соизмеримого с базановским, источника энергии, способного в нужный момент восстановить, восполнить иссякший запас. «Он был лишен нужной ему среды», – утверждал Романовский. Видимо, в этих словах заключена немалая доля истины, ибо Витя Базанов постоянно тосковал о людях, которые могли бы его понять, часто принимал миражи за настоящие озера, а когда находил наконец реальный источник и пил из него, то никогда не задумывался о возможных последствиях.
Меня не удивляет, что Базанов и Капустин так быстро сошлись. Внешняя сдержанность их отношений не могла меня обмануть. Они нуждались друг в друге, мучили и любили друг друга, пытаясь утолить ту духовную жажду, которую испытывал каждый. Однако три пленки настораживающе однообразных снимков заставляют задуматься теперь и о том, чем обернулась их дружба. Не знаю как Капустин, но Базанов находился под сильным его влиянием. Пути подхода, которыми пользовался при решении своих проблем скульптор, удивительным образом совпадали с теми путями, на которых будущий «отец термодинамической химии» уже получил первые необыкновенные результаты. Могло ли это не поразить, не подкупить такого легко увлекающегося человека, как Виктор Базанов? Каждый говорил о своем, переводя непонятное на доступный, близкий обоим язык ассоциаций. Капустин весьма успешно развил эту «переводческую способность», если учесть его стремительный рост, признаваемый всеми. Базанов же был неуправляем, ни в чем не знал меры. И в этом тоже. Он распалил свою фантазию настолько, что потерял всякий контроль над ней. Земля больше не интересовала его. Разумная пропорция логического и ассоциативного была со временем нарушена, и Базанова стремительно, с угрожающей скоростью понесло к опасной черте. Те кризисы, которые он время от времени переживал и из которых Ларисе с трудом удавалось его вытаскивать, были опасным симптомом.
Впрочем, он был опьянен, окрылен своими открытиями, сделанными, пожалуй, не без подспудного влияния встреч, разговоров, полуночных чаепитий в капустинской мастерской. Он верил в свой метод, ибо тот давал наглядные, ощутимые практические результаты.
Почти убежден, однако, что самую дорогую цену Базанов заплатил именно за практические результаты. Все подвластное логике тысячелетиями накопленного опыта культуры, бытия оказалось подавлено, угнетено в нем тем сулящим великолепные успехи интуитивным, случайным, против которого он восставал, боролся, но которому в конце концов, точно Фауст черту, уступил свою душу.
Его кризисы, обмороки, сердечная болезнь – не являлись ли они результатом предельного истощения нервной системы? Ничуть не иронизируя над «эффектом Базанова», я бы назвал их «вторым» или «побочным эффектом Базанова», следствием сложного комплекса воздействий, которые, хотя бы в общих чертах, я пытаюсь теперь оценить, просматривая сотни негативов различного содержания.
Я воспринимаю их такими, какие они есть, и не ищу в них скрытого смысла. Увлечения фотоэффектами, усложненной фотографической техникой настораживают меня в не меньшей степени, чем базановский метод, который незримо для его создателя формировался в гостеприимно приютившей его скульптурной мастерской. Вот почему я ограничиваюсь старенькой, надежной «лейкой». Она верно служит уже второму, а бог даст, послужит и третьему поколению фотографов.
Единственное, что я до сих пор позволяю себе, – это сильное увеличение (иногда непомерное), в чем сказывается, видимо, базановское влияние. Впрочем, подобное отступление от п р о с т о т ы, е с т е с т в е н н о с т и и п о х о ж е с т и является лишь данью традиционному аналитическому приему, которым я впервые воспользовался в моих ранних фотоопытах с капустинским «Икаром».
Еще один кадр – и все. Пойду спать. Глаза слипаются. Проявитель совсем истощился.
Эту фотографию (Базанов и Капустин, выходящие из мастерской) я уже печатал однажды и даже устраивал маленький шуточный эксперимент: предлагал не знающим их в лицо людям определить, кто скульптор, а кто химик (физикохимик – но в данном случае это, конечно, несущественно). Большинство называло химиком Капустина (маленького роста, лицо с хитринкой), а скульптором – соответственно – Базанова (с его комплекцией только камни тесать).
Должно быть, подобного рода внешними соображениями руководствовался и Френовский, полагая, что Базанов в своих поступках, как и всякий разумный человек, будет делать только логичные, выгодные, рациональные ходы в затеянной им игре. Раз ученый (да еще талантливый), значит, непременно логик, рационалист. Сказалось непонимание Максимом Брониславовичем творческой натуры Базанова, ограниченность его опыта рамками нашего института, в котором он проработал всю жизнь.
В данном случае компанию Френовскому могли бы составить те критики, которые, было время, яростно критиковали Капустина за оторванность от натуры, от жизни, от земли и не допускали его работы на выставки. Вот уж поистине парадокс! Поискали бы они в своей среде такого практичного, сильного, крепко стоящего на земле человека. Сомневаюсь, чтобы кому-нибудь из них удалось, приехав из далекой провинции, получить квартиру, прекрасную мастерскую в Москве, добиться признания и известности всего за каких-нибудь пять-шесть лет.
Несколько кадров подряд, снимков разного качества. Общие виды мастерской, состоящей из двух помещений: небольшой комнатки отдыха и чуть ниже расположенного зала, соединенных деревянной лестницей.
Посреди комнаты, занимая большую ее часть, стоит грубо сколоченный стол, время от времени здесь происходят шумные, многолюдные трапезы, а у стены напротив окна – покрытый ярким декоративным покрывалом топчан, на котором отдыхают скульптор, его друзья, подруги, знакомые. Полутемная из-за мало возвышающейся над асфальтом верхней части окна комнатка иногда даже днем дополнительно освещается электрическим светом, а дверь мастерской выходит прямо на шумную, многолюдную улицу.
Когда солнечным летним утром подземелье старого дома покидает молодая женщина с бледным от недосыпания лицом, которому она тщетно пытается придать яркость с помощью губной помады, достигая при этом противоположного эффекта, и задерживается у двери, ослепленная на мгновение ярким светом улицы, прохожие бросают на нее косые взгляды. Одни – с осуждением, другие – с вожделением. Известное дело: жизнь художника. Богема.
На длинной провисающей полке, вдоль высоко, как в храме, расположенных окон стоят работы – те, что Капустин считает в данный момент наиболее важными, удачными или просто интересными. Среди них портрет Базанова (условно: «Портрет печального человека»), побывавший на многих выставках. Скульптор не пожелал с ним расстаться и оставил в мастерской, несмотря на ряд выгодных предложений. Более поздний по времени скульптурный портрет Базанова, относящийся к периоду создания нашумевшей теории, был приобретен Третьяковской галереей. Мраморная, точно отлитая в натуральную величину из стеарина, полупрозрачная голова Базанова («Портрет доктора химических наук, профессора В. А. Базанова»), благодаря «непрофильному» сочетанию податливой чувственной гладкости и застывшего, окаменевшего движения, вызывает у зрителя противоречивые ощущения, то заставляя воспринимать ее как дань современным художническим изыскам, то мысленно возвращая в далекие времена античности. В своем кругу Капустин называет эту работу «Белый Базанов».
Подготовительный этюд к «Белому Базанову» находится в мастерской. Он установлен на подставке рядом с фантасмагорической группой скальдических карликов-альвов с одной стороны и трех фигур властительниц судеб, норн, с другой. Этюд именуется «Голова профессора Базанова».
– Усекновенная в молодости, – всякий раз добавляет Базанов, когда речь заходит о его голове, по поводу которой, скорее всего, и совещаются норны.
Встречам скульптора с Базановым предшествуют трогательные приготовления. Капустин наводит чистоту, подметает, выскабливает стол, аккуратно застилает растерзанную постель, проветривает. Сделав все необходимое, он еще некоторое время бродит по узкой, как просека, мастерской среди гипса, глины, дерева и камня, хозяйским глазом выискивая непорядок.
По дороге Базанов обычно заезжает в магазин «Чай» на Кировской, покупает пакет сушек и пачку сахара, которая является предметом добродушных насмешек Капустина и ответных острот Виктора, не упускающего возможности помянуть тот случай, когда сахара в мастерской не оказалось, магазины были закрыты и пришлось пить пустой чай.
Базанов звонит в знакомую дверь, ждет, прислушивается, когда раздастся громовой топот по гулкой деревянной лестнице. Дверь отворяется, и маленький, похожий на хитрого гнома, крепко сбитый седобородый Капустин, щуря глаз, пропускает его в мастерскую.
– Что припоздал?
– Да вот, – говорит Базанов, протягивая сверток.
– Поди, совсем зачах со своей… этой… Нет, вроде ничего, – выводя гостя на свет, вглядываясь в него и почесывая подбородок, заключает Капустин. – Мою новую работу видел?
– Какую?
Капустин откашливается.
– «Эрот побежденный».
Позже название было изменено. Скульптура стала называться «Эрот поверженный».
Нет, Базанов не видел этой скульптуры. Хозяин увлекает гостя за собой, в дебри.
Мастерская имеет форму сапожка: длинный коридор под прямым углом сворачивает вправо. Там, в небольшом аппендиксе, на дощатом постаменте сохнет странного вида композиция из глины – «Эрот побежденный», или «Эрот поверженный».
– Победил, значит? – подшучивает Базанов.
Капустин хмыкает.
– Не я. Все ты со своей химией-термодинамикой. Со своими стиральными порошками.
Виктор обходит скульптуру. Запах сырой глины действует на него успокаивающе. Капустин долго трет морщинистое лицо крепкой узловатой рукой с въевшейся, как у металлиста, грязью. Поднимаются по лестнице в комнатку.
– Поди, чай готов.
Базанов рассеянно берет с книжной полки оттиск своей статьи, некогда подаренной скульптору. Капустин ставит на стол толстостенные, видавшие виды фаянсовые чашки.
«Дорогому Ивану от Виктора». Подпись и дата. Уже и бумага пожелтела.
Базанов переворачивает страницы. Капустин гремит железной коробкой из-под чая. Гость с недоумением рассматривает испачканную глиной диаграмму с гистерезисной петлей, точно оттиск роняли в самую грязь во время осенней распутицы. На полях заметен легкий карандашный набросок – нечто вроде ангела с прижатыми крыльями, импровизация на тему рисунка физико-химической статьи, по прихоти скульптора превратившегося в «Эрота поверженного».
– Глянь, какого я Брейгеля купил, – говорит Капустин. – Там, с краю, на полке. Нашел?
Базанов листает толстый альбом.
– Учился, между прочим, у «лакировщика действительности».
– Кто?
– Брейгель.
– Сразу видно.
– Да, – говорит Капустин. – Что значит школа. Великая вещь – школа.
Потом они молча пьют чай, сосредоточенно хрустя сушками.
Еще один негатив. Нет, не буду печатать. Во всяком случае, сегодня. Что там еще?
Опять полка с капустинскими скульптурами. Хулиганский снимок. Снова Базанов в мраморе. Базанов в натуре.
Капустин за работой: глину месит. Пьют чай.
Не то, не то.
Вот!
Как он попал сюда, этот кадр? Базанов с поднятыми руками, с сияющим лицом, точно забивший гол футболист.
Я вхожу в их комнату. Зачем? Что-то понадобилось.
– Алик! – рванулся он от стола и поднял руки. – Победа!
Пожалуй, семь секунд будет как раз.
– Игорь, покажи, – обратился он к Рыбочкину, которого в любое время суток можно было застать на одном и том же месте, у первой от двери тяги.
Выдержка шесть секунд. Достаточно.
Сияющий Базанов. Рыбочкин, точно Прометей, навсегда прикованный к своему рабочему месту. Лаборантка Галя. Кто еще?
Состав базановской группы часто менялся. То и дело происходили внутрилабораторные перемещения. Перестановки. Френовский решил оставить его без людей. Один бы Виктор что смог? Нет, Максим Брониславович явно недооценивал своего сотрудника. А может, и ничего бы не смог. Кто знает?
Передержал. Съемка против света. Хватило бы четырех секунд.
Игорь мне что-то показывал. Базанов, захлебываясь, объяснял. Ничего не помню. Да и не понял, наверно. До сих пор не все понимаю. Только ясно было, что радость. Если бы вместо меня в комнату вошла уборщица, эффект был бы, наверное, тот же самый.
– Тетя Таня, победа! Игорь, покажи.
То, что рвалось из него, он не в силах был удержать. Такой человек. Не умел скрывать радость, придерживать для себя. Жизнь ничему не учила. На улице встретишь – никогда не подумаешь, что за голова у этого парня и вообще кто он, что он такое н а с а м о м д е л е.
Раза в два увеличить. Опять подбирать выдержку. Только теперь на более контрастной бумаге. Бромпортрет? Унибром. Темная фигура – ослепительно белый фон. Десять секунд?..
В ореоле успеха. И рядом – «Рукопожатие».
Нет. Обойдемся без фотографии с Френовским. Двусмысленный сюжет. Лучше мальчика с ружьем. Кому важна хронология?
А надписи? Как-то об этом никто не думал. Ведь целое дело: придумать, напечатать на машинке, аккуратно вырезать и приклеить к стеклу.
Ладно, Базанов, жми. Прыгай, поднимай руки от радости. Твой звездный час впереди. Фотографию, где ты похож на футболиста, назовем просто: «Успех».
VI
Воспитание кадров по доктору Базанову. Как-то надо осветить и эту сторону его деятельности. Воспитание любовью. Так и тянет на неуместные, злые шутки. Ведь у него и в самом деле была своя, совершенно особая система воспитания, точнее – система подготовки творческих кадров. Правда, маловато учеников прошли его курс: один-единственный Рыбочкин. Все тот же Рыбочкин. Одни не успели завершить его, другие не выдержали – сбежали. Дали себя переманить. Соблазнить. Запугать или уговорить. Причина в данном случае несущественна.
Если бы удалось через сети базановской системы пропустить несколько десятков выпускников вузов, то улов наверняка оказался бы превосходный. Только крупная рыба. Только отборная. Во всяком случае, за учеников школы профессора Базанова можно было бы не беспокоиться. Если не он сам, то они бы обессмертили его имя.
Формально учениками можно считать и тех, кто слушал его лекции, кто под его руководством или покровительством защитил диссертации. В последние годы многие аспиранты и соискатели стремились попасть к нему хотя бы только затем, чтобы написать на титульном листе имя Базанова. Со свойственной ему широтой и неразборчивостью он никому не отказывал. Но и студентов и этих соискателей можно назвать учениками лишь условно. Все они были разбросаны по разным институтам, а с и с т е м а предназначалась для сотрудников, находившихся рядом. В непосредственной близости, непосредственном подчинении.
Конечно, и в своей педагогической системе Базанов оставался Базановым, с присущей ему непомерностью, полной несоотнесенностью требований с реальным положением дел. Ему бы тихо сидеть под крылом Френовского, медленно, но верно делать свое дело, холить своих малочисленных сотрудников, добиваться для них премий, чтобы они молились на благодетеля и не помышляли о лучшей доле. Тогда бы и Френовскому труднее было найти управу на них.
Вместо этого Базанов установил в своей группе поистине драконовские порядки. Он считал, что дает молодому научному сотруднику прекрасную тему, возможность заниматься тем, чем никто еще не занимался. Речь идет о большой настоящей работе, со временем о ней узнает весь мир. И удивится. И воздаст должное. Но для этого придется безвылазно сидеть в лаборатории. Окончание работы не должно совпадать с официальным окончанием рабочего дня. «Я нахожусь в лаборатории допоздна – и ты находись допоздна. Я уйду – ты оставайся. Никакого повышения зарплаты вплоть до того момента, пока гора не будет сдвинута с места. Никаких премий. Наша группа занимается совершенно не нужной институту тематикой. Пройдут годы – и только ею, возможно, будет заниматься институт. (Как в воду смотрел.) Цель творчества – самоотдача, – любил повторять Базанов, и это была скорее собственная его мысль, чем цитата. – Ни о чем больше не думай, если хочешь уцелеть как ученый. Успех придет, раз ему суждено прийти».
Всем он говорил примерно одно и то же, даже тем, кому говорить подобные вещи казалось заведомо бесполезно. Демократический принцип соблюдался неукоснительно.
Но и сотрудникам, для которых выдвигаемые им условия и обещанные перспективы в силу разных причин могли показаться приемлемыми, было недостаточно одного честного слова. (Что значило для них слово Базанова?) Тут вера была нужна, а молодым людям (почти таким же молодым, как сам Базанов) требовались реальные гарантии. Никаких гарантий Базанов дать не мог. Не умел. Да и не хотел, пожалуй.
В последние годы, когда институт стал ориентироваться на разрабатываемую Базановым тематику, когда все вокруг так неузнаваемо изменилось, перемешалось, как при хорошем шторме, – не то что слово, один благосклонный профессорский взгляд служил вполне достаточной, надежной гарантией.
Но кто ему верил тогда? Все было так зыбко, неопределенно, неустойчиво. О чем говорить? О каких великих свершениях? Участь самого Базанова висела на волоске, а бритва находилась в опытных руках Максима Брониславовича Френовского, которого боялся, уважал и слушался весь институт.
Рыбочкин оказался единственным. Почему именно он?
Передо мной снимок: Базанов, Рыбочкин, Гарышев, еще несколько человек сфотографированы на фоне степи и гор. Кажется, они испытывали тогда первую опытную установку, сконструированную на основе обнаруженного эффекта. Горы слабо вырисовываются вдали. Степь. Жара. Мы случайно оказались вместе в командировке. Приезжал я совсем по другим делам. Игорь Рыбочкин рядом с Базановым. Гарышев в стороне. Теперь, когда Игорь стал начальником лаборатории и тематика по разработке перспективных очистительных систем целиком перешла к нему, у них с Гарышевым установились нормальные, деловые отношения, а тогда он его терпеть не мог. Открытых столкновений не было, но неприязнь чувствовалась во всем.
Такая стояла жара, что даже вечерами жизнь казалась невыносимой. Будто тебя посадили в стеклянную банку и закрыли крышкой. От духоты гудел каждый палец, ныл всякий нерв, звенело в ушах, любое движение причиняло мученья, – словом, организм, сопротивляясь, существовал на пределе своих возможностей. Пожалуй, это было состояние, противоположное невесомости: азиатский зной навешивал на человека пудовые гири.
Душ спасал ненадолго. Смоченная простыня высыхала прежде, чем человек успевал заснуть.
Стальной солдат Рыбочкин тоже мучился, хотя и не показывал вида. Жара так жара. Надо – значит, надо.
Жара, степь, маленький городок, а тут еще восточная музыка по вечерам: на одной ноте, часами, без конца, – будто жилы из тебя вытягивают. Окно закрыть невозможно, а во дворе до часу ночи нардами стучат, точно гвозди в тело вколачивают, и это несносное: а-а-а-а-а-а…
С ума сойти можно.
Отношение к местному колориту и музыке у нас с Рыбочкиным совпадало. Мы жили в одном номере, а Базанов – совершенно отдельно. Не только потому, что на другом этаже.
Ему нравилось все: музыка, жара, фрукты, обеды в заводской столовой, на которые я смотреть не мог, и даже, пожалуй, мухи, кружившие над раскаленной тарелкой с жирным борщом, не слишком раздражали его. Базанов отмахивался от них, исполненный ленивого добродушия. Удивляюсь, как только мог он там жить с его комплекцией, с, видимо, уже тогда не очень здоровым сердцем.
Всю неделю я обходился одними помидорами, огурцами, хлебом и чаем, имевшим в тех условиях особое значение. Возвращаясь с работы, мы с Рыбочкиным открывали дверь на балкон, опускали маленькие электрические кипятильники в стаканы с водой, заваривали чай и сидели часов до двенадцати. Первые два стакана выпивали жадно, один за другим, затем – все с большими интервалами.
Хотя нам не нравилась та музыка, наши разговоры во время чаепитий были чем-то сродни ей: без конца, ни о чем, на одной ноте. Рыбочкин помешивал ложечкой чай, а я, скажем, говорил:
– Ну и жара.
Когда последняя чаинка в его стакане оседала на дно, он передавал ложку мне, и тогда я мешал, пока чай не осядет, а он говорил:
– Да, жарко.
Рыбочкин захватил с собой из Москвы не только ложку, но и нож, соль, нитки, иголку, даже хлеб – все, что можно было с собой привезти, на любой случай жизни. Овощи на базаре были прекрасные, дешевые, тут и выбирать нечего, но он непременно должен был обойти всех, прежде чем сделать выбор.
Однажды в разговоре я упомянул имя Гарышева. Рыбочкин долго думал о чем-то, дул на кипяток, потом вдруг сказал:
– Жулик он, – и замолчал надолго.
Из него не удалось больше вытянуть ни слова.
Почему рядом с Базановым оказался Рыбочкин, а не кто-то другой? Более несхожих людей нужно еще поискать. Даже внешне они выглядели комичной парой: Гулливер и лилипут. Тонкий и толстый.
Базанов был артист, краснобай, натура широкая, безудержная. Фантазер, в некотором роде романтик. Разбрасывался, грешил, царил. Игорь же наоборот: весь собранный, правильный, тихий, серьезный, сдержанный. Базанов был скорее идеалистом, человеком порыва, мечты, а Рыбочкин – практиком, реалистом до мозга костей.
Особенно тогда, на душной и пыльной азиатской земле, их разность бросалась в глаза. Базанов то восторгался окружающей природой, то часами слушал чужую музыку, то замыкался в себе, становился сух, подчеркнуто независим и вежлив, элитарен, а по отношению к Рыбочкину, для которого эта поездка была рядовой работой, протекающей в трудных климатических условиях, – ироничен и даже насмешлив. Поддразнивал Рыбочкина, хвалил то, что особенно не нравилось ему, и объяснялось это, как понял я позже, желанием открыть глаза, поднять, подтянуть, так сказать, Рыбочкина до своего уровня.
Рыбочкин был несдвигаем, несгибаемо тверд и упрям. Он знал цену труду, не брезговал черновой работой, не раз во время испытаний выпадавшей на его долю, и было в его отношении к Базанову нечто от покровительства старой няни, наблюдающей за расшалившимся дитятком, готовым злоупотребить ее добротой.
Я бы даже сказал, что Базанов и Рыбочкин были характерами-антагонистами, если бы не знал, что они проработали бок о бок более десяти лет, что Рыбочкин сполна хлебнул базановской системы воспитания творческих кадров, включая безденежье, каторжную работу по сдвиганию глыбы, которую, может, не под силу сдвинуть и десятерым, а главное – о том мужестве и постоянстве, которыми он неизменно отличался все годы жестокой войны с Максимом Брониславовичем Френовским. Пожалуй, именно школа базановского воспитания и многолетняя изнурительная война на краю гибели сделали Рыбочкина таким, каким я узнал его во время ежедневных наших чаепитий в номере новой гостиницы пыльного, изнемогающего от зноя и музыки азиатского городка.
Базанову было трудно жить и работать с Рыбочкиным, как и Рыбочкину, я полагаю, было невыносимо трудно жить и работать рядом с Базановым. Судьба едва ли не случайно свела их и по неведомым, непостижимым причинам не разводила все эти десять лет.
Как только они ни разу не сорвались, не бросились друг на друга с кулаками?
Рыбочкин не скрывал, что относится к теоретической работе, которой, по существу, только и занимался Базанов, как к чему-то, может, и важному, когда речь идет о защите диссертации, но в высшей мере сомнительному в основном, главном, практическом отношении. Теорий может быть много, – считал он, – и все они от игры праздного ума, а вот машину, которая бы дело делала, поди-ка построй. И эксперименты в колбах хороши, когда они нацелены на создание все той же полезной машины, а без такого прицела эксперименты мало чего стоят. Теория – это в некотором роде что-то второстепенное, хотя, конечно, и без нее нельзя, а вот реальное дело – оно всегда дело.
Базанов придерживался противоположной точки зрения. Он был твердо уверен, что все решает теория, новое явление, эффект, добротная разработка которых позволит создать пять, десять, сто аппаратов, машин и устройств разного назначения. Теория – это основа основ.
Словом, ум Рыбочкина концентрировался в его талантливых руках, тогда как ум Базанова находился там, где ему, базановскому уму, полагалось быть. В голове? В сердце? Или, может, в душе? Применительно к Базанову не так-то просто однозначно ответить на этот вопрос.
Да, он был одинок, бесконечно одинок в своих исканиях, во всем том, что требовало не только ума, таланта, способностей, но и поддержки, веры, единомыслия. В одиночку пришлось поднимать ему непомерный груз.
Среди просмотренных негативов нет ни одного, где бы они были сняты вдвоем. И у Ларисы такой фотографии не оказалось. Неужели я никогда не снимал их вместе? Кажется невероятным: фотография с Френовским есть, а с Рыбочкиным, его единственным учеником, помощником, соратником по борьбе, – нет. Есть отдельная фотография Рыбочкина и даже парная фотография Рыбочкина и базановской любовницы, верности которой хватило ненадолго, – в самый разгар войны она перешла работать в другой институт. Нет только их вдвоем, прославленных победителей Френовского, соавторов нескольких десятков публикаций.
Казенные фотографии: для паспорта, пропуска, в дело – никуда не годятся. Базанов на них – «сундук», туповатый малый. Рыбочкин на подобных фотографиях выглядит, пожалуй, благообразнее.
А вот новые базановские сотрудники последней поры на групповой, тоже казенной, фотографии напоминают беззаботных птах. Лишь нескольких я знаю по именам и фамилиям. Сравнение с птичьим вольером напрашивается само собой даже не потому, что среди них много молодежи (у Базанова всегда работала только молодежь), но, прежде всего, из-за сопоставления этих лиц с лицами двух ветеранов, едва не затерявшихся на снимке. Несмотря на мелкость деталей, контраст разителен. Печальный, находящийся как бы уже не с ними, молодыми, Базанов и маленький, заметно поседевший Рыбочкин.
В компании снимавшихся несколько хорошеньких девушек, но я не знаю, успел ли Базанов втянуть их в свою систему, подвергая риску (или счастью?) з а б е р е м е н е т ь, понести от него. Более точного слова не могу подобрать. Именно так, мне кажется, чувствовал, так поступал и мыслил Базанов, когда речь шла о близких женщинах и мужчинах или о ближайших – учениках. Просто в отношениях с женщинами все кончалось наиболее естественным образом.
Он стремился продолжить в них свою жизнь. Раздать себя. Породить, разбудить в них творческое начало и оплодотворить его неповторимостью своей личности. Он ж а ж д а л учеников, учениц. Ему было что передать им. Его грызла постоянная неудовлетворенность, ненасытность. Возможно, ситуация усугублялась тем, что единственный ученик Рыбочкин не стал его, базановским, продолжением. «Отец термодинамической химии» страдал от неосуществленности своего самого заветного замысла – создать школу. Пожалуй, его многочисленные женщины – это тоже нечто вроде «побочного эффекта Базанова».
В нем было что-то от прирожденного проповедника. Его отягощал некий избыток духовных и физических сил, от которого не было иного освобождения, как переход в тела и души других людей, подчас случайных, с которыми сталкивала его жизнь. Всевозможные отклонения, бессмысленная «побочность» его поступков были обусловлены как раз невозможностью передать себя тем, для кого он был предназначен.
Если даже последние «ученицы» Базанова и не находились в этом его лабораторном вольере, то нет сомнений, что они все-таки существовали. Иначе бы доведенная до предела Лариса не решилась на тот последний, отчаянный шаг, после которого все так быстро пришло к развязке. Эта ее вторая попытка «спастись» оказалась, к сожалению, более удачной, чем первая, – может, именно потому, что на сей раз она спасала не столько себя, сколько пыталась вылечить шоком своего несчастного мужа. С расстояния прошедших дней ее поступок выглядит мелким, ничтожным, беспомощным, хотя, признаться, я ничего не знаю о том человеке, который оказался удачливее или несчастливее меня. Возможно, он и не был для нее одним лишь слепым орудием мести.
Разбирая многочисленные базановские фотографии, я испытываю великое искушение отпечатать их все в едином масштабе, совместить множество лиц в одном и посмотреть, что из этого получится. Каким будет портрет? К чему он окажется ближе: к ангелу, дьяволу, обыкновенному взрослому человеку или к мальчику с ружьем на контрастном снимке начала пятидесятых годов?
VII
Поиски неизбежно возвращают меня к личности Максима Брониславовича Френовского. Пытаясь разобраться в этом чрезвычайно запутанном деле, начав копать, я понял, что меня интересует все, связанное с ним, с его родителями, женой, детьми, внуками, которых он так любил, с его детством и юностью, а главное – с тем периодом, который выпадает на самую плодотворную в деловом отношении полосу его жизни.
Время основного, решительного рывка приходится у Френовского на годы войны, а подготовки к нему – на предвоенные годы. Они с Базановым в разное время окончили один институт. К этому следует присовокупить, что Френовский не был на фронте и что семейная база для вышеозначенного рывка (профессорский сын) имелась. И способностями бог не обидел. Тем более – честолюбием.
Но была война, был маленький химический завод, откуда не брали на фронт, и определенные обстоятельства, лепившие мягкую глину, формировавшие характер, вырабатывавшие систему ценностей и стиль поведения.
Как-то, еще в пору их добрых отношений, Максим Брониславович признался Базанову:
– Вам, Виктор Алексеевич, вашему поколению повезло куда больше, чем нам. Вы не пережили войны, и нас еще не учили тому, чему уже вас учили.
Признавая лучшую профессиональную подготовку двадцатипятилетнего кандидата наук, Френовский пытался как бы самооправдаться, выявить главную причину того, почему он защитил кандидатскую диссертацию только в сорок шесть лет. На самом деле существовало много разных причин, объективных и субъективных. Была цель завоевать прочное положение, был соблазн сразу занять высокооплачиваемую должность – и своя за них расплата. На долю Максима Брониславовича выпала не одна война, а три по меньшей мере, причем последние две – исключительно междоусобного характера. Словом, как и Базанов, он добился того, чего добивался, и заплатил по всем счетам.
Молодому Френовскому прежде всего необходимо было установить нужные связи, отыскать и обеспечить доступ к надежному рычагу, который смог бы в дальнейшем поднять его на должную высоту. Самой подходящей оказалась должность начальника лаборатории в отраслевом научно-исследовательском институте, которую он в конце концов получил. Помимо прочего, ему приходилось думать не только о себе, но и о любимой жене, о маленькой дочери. Он не хотел и не мог терять времени даром, не желал ждать, смиряться, пребывать долгие годы в скромном положении домогающегося ученой степени аспиранта. К тому же наука не очень интересовала его. Он чувствовал в себе недюжинные силы, осознавал свое превосходство над теми, кто работал рядом. Потребность повелевать и властвовать постепенно становилась жизненно необходимой. Он верил, что на этом пути его ждет успех. Он играл и выигрывал. Казалось, что обретаемый капитал обладает чудесной способностью расти сам по себе, будто является частью живой природы – могучим, щедро плодоносящим деревом. Он умел добиваться премий, всякого рода вознаграждений для себя и для тех, кто был ему нужен. От него зависели многие – практически все, кто такими способностями не обладал. Он получил свободный доступ в директорский кабинет. Уже проявлял способности стратега. Уже приносил институту ощутимую прибыль – во всяком случае, только так можно было истолковать характер финансовых сводок, подытоживающих работу его лаборатории. Политические игры стали его страстью, все остальное – средствами ее утоления.








