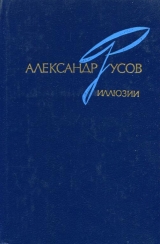
Текст книги "Иллюзии. 1968—1978"
Автор книги: Александр Русов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 26 страниц)
– Если что случится со мной, а тебе потребуется помощь, знай: у тебя есть отец.
Тогда-то она и вспомнила тот странный звонок из гостиницы «Националь», где остановился приехавший из Ленинграда «старый мамин знакомый» – именно так он представился. Мамы, как обычно, дома не было, знакомый уезжал через несколько часов, хотел что-то передать ей и попросил встретиться у подъезда. Девочка спустилась вниз, как было договорено. Подъехала машина. Ей навстречу бросился огромного роста, роскошно по тем временам одетый мужчина. Тут же, на улице, принялся ее целовать, приговаривая:
– Ах, как выросла, какая красивая стала. Знаешь что, давай-ка поедем сейчас ко мне. Ненадолго. Еще есть немного времени. Ты расскажешь, как вы живете, как мама. А потом я велю шоферу отвезти тебя.
– Видишь ли, – рассказывала она потом сыну с гордостью, – я сразу почувствовала к нему такое доверие, что, не колеблясь, села в машину. Думаю, не только я его, он тоже видел меня впервые. Как он меня узнал? На улице крутилось несколько соседских девочек моего возраста, но он направился сразу ко мне, даже ни на кого не взглянув.
Они приехали, поднялись по лестнице («замечательный номер, очевидно, «люкс»). Новый знакомый, словно забыв о том, что ему скоро уезжать, подробно расспрашивал девочку о ее жизни, гладил по голове, целовал («вообще вел себя очень странно»).
– Но мне все это почему-то казалось тогда естественным, само собой разумеющимся. Он так ничего и не передал для мамы, но даже это не насторожило. Потащил меня в магазины, одел с головы до ног, купил платье, туфли дорогие, каких у меня никогда не было, какие-то мелочи. Все это он объяснял тем, что они с мамой очень хорошие, старые знакомые. Потом мы отправились обедать в ресторан – сроду не ела столько вкусного… Я волновалась, что поезд уйдет. Он смеялся, шутил, успокаивал: подумаешь, поезд – можно купить билет на другой. Когда мы расставались, у него в глазах стояли слезы. Мама потом мне сказала: «Взяла с него честное слово, что он никогда не вторгнется в мою жизнь». Чего она боялась? Мама была человеком с трудной, изломанной судьбой. Видно, он очень ее любил и меня любил, но зачем-то дал маме честное слово и до конца держал его.
Поскольку семье инженера Базанова не нравилась жена сына, начинали они жизнь трудно, в крошечном закутке коммунальной квартиры. Молодой Базанов оказался способным инженером, быстро выдвинулся. Им дали трехкомнатную квартиру, где и родился Виктор.
Семейная жизнь базановских родителей складывалась не слишком счастливо. (На старой фотографии, как, впрочем, и на большинстве других семейных фотографий, они выглядят благополучной, любящей парой.) Отношения в семье стали портиться скоро. После рождения второго ребенка мать Виктора по настоянию мужа бросила театр и никак не могла примирить свое призвание актрисы с ролью домохозяйки. (Младший базановский брат Володя – маленький, щуплый блондин – стал заурядным инженером, из тех, кто постоянно сетует на судьбу, ничего не делая для того, чтобы ее изменить. Иногда я встречал его в доме Виктора.) Через несколько лет совместной жизни мать и отец Базанова почувствовали, что они – люди разного склада, темперамента, уровня и характера культуры. Как-то мать призналась Виктору или Ларисе, что скоропалительно вышла замуж из-за полного одиночества, сиротства. Натура увлекающаяся, горячая, она была полной противоположностью мужу – человеку суховатому, рассудительному и прижимистому.
Был период, когда назревал развод, но она, ни на миг не забывая о собственной горестной судьбе брошенного ребенка, постаралась подавить в себе мечты об иной жизни, целиком отдалась мужу, детям, заботам о них. В результате стала сумасшедшей матерью, клушей.
В свою страсть к детям она вкладывала неистово не только себя, но, казалось, и ту любовь, которую недополучила от собственных родителей. Заставила мужа купить кооперативную квартиру, боялась, что они, старики, помешают семейному счастью молодых. Ежедневно звонила Виктору, боготворила Ларису, долгое время находившуюся, по-моему, под сильным ее влиянием. Неженатому базановскому брату, малахольному Володе, тоже купили квартиру, однокомнатную.
Когда родился Павлик, Елена Викторовна и вовсе «сошла с ума». (Всем известная как Елена Ивановна, мать Виктора вдруг на старости лет повелела называть ее Еленой Викторовной, что поначалу вызвало сильное недоумение окружающих и неудовольствие мужа, во всем ценившего порядок и точность.) Маленький Павлик вызвал в этой быстро стареющей женщине такую бурю чувств, что даже Виктора подобная опека тревожила и смущала.
Елена Викторовна носилась из конца в конец необъятной Москвы с сумками и авоськами, каждый день привозила свежие продукты, детское питание, игрушки, одежду. При этом успевала сделать домашние дела, наполнить едой холодильник в Володиной квартире и вернуться к приходу с работы собственного мужа, которого тоже нужно было кормить, обстирывать и обглаживать.
Видимо, именно это ее неумеренное детолюбие и неуемная энергия, которой хватало на троих, сгубили в Володе всякую инициативу, сделали его неудачником и брюзгой. Может, и Виктор бы стал таким, если бы внешняя материальная сторона жизни занимала его чуть больше, вернее, если бы он вообще уделял ей какое-либо внимание. Ему всегда было безразлично, есть ли в доме еда, чистая у него рубашка или грязная, хватит ли денег до конца месяца. Обо всем приходилось помнить и заботиться Ларисе. Она снаряжала его по утрам, как последнего недотепу.
– Витя, у тебя есть деньги?
Лезет в бумажник, роется.
– Ни рубля.
– Возьми.
Брал.
– Почему так мало?
– Достаточно.
– Вдруг какую-нибудь девушку захочется на такси отвезти или пойти в ресторан, – шутила она.
– Не говори глупостей.
– Бери, бери.
И он брал, подвозил девушек, ходил с ними в рестораны.
Может, вздумай она держать его, что называется, в ежовых рукавицах, то и не подвоз-ил бы, и не ходил. Впрочем, Виктор был слишком свободолюбив и независим. Вряд ли бы это помогло.
Сначала у Елены Викторовны появился внук Павлик, потом – внучка Людочка. Сначала она работала за троих – теперь приходилось работать за четверых. А время шло, силы убывали. Уже болело сердце. И в больнице успела побывать. (Как раз в период наших с Ларисой и Павликом гуляний на бульварах, походов в музей.) Она тяжело переживала неприятности Виктора на работе, а его докторская и болезнь окончательно доконали ее. Она почти не могла выходить из дому. Теперь уже Ларисе приходилось выкраивать время, чтобы снабжать ее продуктами и всем необходимым.
Базанов-старший тоже сдал. И тоже сердце. Как-то вдруг, ни с того ни с сего, неожиданно. Врачи посоветовали уйти на пенсию, иначе никаких гарантий. Буквально на глазах эти сильные люди превратились в беспомощных стариков.
Лариса разрывалась между двумя домами. Виктор то болел, то находился в командировке, то пропадал в институте или просиживал ночи «у этого подонка» Капустина. Работу свою Лариса ни за что не хотела оставить (свое дело, суверенная жизнь). Даже меня теперь не было рядом или хотя бы поблизости. Я отходил, отходил, пока не отошел совсем. Появлялся в их доме все реже. Какие там прогулки, бульвары – у нее минуты свободной не было. Только снимал иногда. Это по-прежнему доставляло ей тихую, почти детскую радость.
Маленькая иллюзия, приятный самообман. Все хорошо, Алик ее не забывает, она, как и раньше, нравится мужчинам, пусть Виктор всегда помнит об этом. Ему должно быть приятно, что у него т а к а я жена.
Поспешно вытирала кухонным полотенцем мокрые руки, скидывала фартук, суетилась перед зеркалом, прихорашивала детей.
– Взгляни-ка, сейчас оттуда вылетит птичка.
Птичка предназначалась для маленькой Людочки. Павлик снисходительно улыбался. Дядя Алик нажимал блестящую кнопку.
– Так, еще раз.
– А птичка где?
– Сейчас вылетит.
– Где птичка?
– Ты разве не заметила? Выпорхнула и улетела в форточку.
Непременный, традиционный чай. (Дядя Алик всегда любил сладкое.)
– А фотографии когда будут? – прорезающимся баском спрашивает Павлик.
– Как только напечатаю, принесу.
Чай, фотографии, семейное застолье с чужим дядей. Не с чужим, конечно. Со с в о и м дядей Аликом. Совсем своим. Своим в доску.
Прихожу с аппаратом, снимаю, пьем чай. Потом приношу фотографии, снова пьем чай, ухожу. И так до конца. До самого.
XII
Базанов на кафедре. Базанов читает лекцию. За границей? У нас? Что за лекция? Судя по написанному на доске, лекция посвящена «термодинамической химии».
Какое необычное у Виктора лицо на этой фотографии! Словно не говорит, а поет. У такого певца должен быть прямо-таки шаляпинский голос. У него, впрочем, и был такой. Потому и пел.
Если вспомнить, с чего начиналась эта его научная работа, то становится просто смешно: с пустого случая, с чепухи. Когда оформляли документацию на поисковое исследование, Виктор не подозревал, какие результаты получит. Однако такой же вот независимый, гордый вид уверенного в себе человека был у него всегда. Будто в Базанове давно уже сидело его открытие, только до поры до времени он ничего об этом не знал. То есть знал, что сидит, но не знал, ч т о именно.
Мудрый Максим Брониславович предложил:
– Попытайтесь, Виктор Алексеевич, в самом общем виде сформулировать тему поиска. Чтобы нам не стеснять себя узкими рамками. Да и отчитываться будет проще. Кто знает, как дело пойдет. Потом, когда что-то нащупаете, можно будет привязать тему к какой-нибудь практической разработке, – скажем, к очистительным установкам.
Так что впервые «термодинамическую химию», которой тогда не существовало, и установки, которыми издавна занимался наш институт, связал между собой Максим Брониславович Френовский.
Иногда мне кажется, что приди Базанов в другой институт, в иную лабораторию и предложи ему другой начальник то же самое – возможно широко сформулировать тему поиска, связав ее в дальнейшем пусть даже не с очистительными установками, а с чем-либо иным, – то можно быть совершенно уверенным, что Базанов пришел бы к тому же, к своей «термодинамической химии». Потому что она и з н а ч а л ь н о жила в нем. И с практикой бы ее связал. С помощью Рыбочкина, конечно. Базанов и Рыбочкин – удивительно удачное сочетание, что там ни говори.
До Базанова псевдогетерогенные реакции у нас никто серьезно не изучал. Полагали, что подобными вещами должны заниматься в академических институтах, а мы – лишь использовать накопленный опыт. Не было у нас такой традиции, да и условий для проведения подобных работ не было. Максим Брониславович первым решился, хотя, конечно, им руководило не только и даже, пожалуй, не столько понимание того обстоятельства, что без серьезных научных исследований мы всегда будем топтаться на одном месте, сидеть в тухлом болоте, создавая видимость активной работы, демонстрировать достижения двадцатилетней давности, получать премии, поощрять показуху. Вряд ли теневой премьер желал изменить порядки в своем государстве: он просто хотел, чтобы иллюзия активной работы стала еще более убедительной, демонстрация достижений – яркой, премии – внушительными. Разумеется, он не предполагал, что дело зайдет так далеко. Или все-таки надеялся защитить с помощью Базанова докторскую диссертацию? Если институт и мог ожидать перемен, то лишь в том смысле, какой вкладывал в слово «перемены» Максим Брониславович Френовский.
Думаю, что ко времени нашего знакомства Базанов уже прочитал ту самую статью Голдсмита, о которой столько потом говорил всем и всюду. А вернувшись как-то из очередной зарубежной поездки, он в свойственной ему манере рассказывал об их встрече на конференции.
– Представь: сухощавый старик, прямой, как жердь. Величественный. Только это и бросилось в глаза. Мне говорят: «Профессор Голдсмит». Ему называют мою фамилию. Пожимаем друг другу руки. У старика сухая, шершавая ладонь. Пахнет одеколоном. Он первым прореагировал. Такой, знаешь, живчик с острыми глазками. Жмет мою руку, не отпускает. Тот, кто нас знакомил, продолжает тараторить по-английски. Старик улыбается, вежливо поглядывает на него, на меня, вдруг говорит: «Я внимательно слежу за прекрасными работами мистера Базанова». Что-то в этом духе. Тут только до меня доходит: бог мой, тот самый Голдсмит! Я его так и спросил: «Неужели вы и есть тот самый?» Старик не понял. Ему объяснили. Удивляется: «Меня знают в Советском Союзе?» Он еще спрашивает! Вся моя проблема вышла, по существу, из одной его публикации. «Мне лестно, – говорит, – слышать. Рад, если старая моя работа чем-то помогла вам, но я занимаюсь теперь другим». Он без всякого энтузиазма воспринял мои комплименты, думая, вероятно, что я их расточаю из вежливости. Тем не менее предложил спуститься в бар и выпить за знакомство. Бар оказался закрыт. Мы даже не выпили вместе! – с негодованием завершил Базанов свой рассказ.
Не сомневаюсь, что своего в е л и к о г о Голдсмита Базанов попросту выдумал, как выдумал Капустин существование связи между «Эротом поверженным» и оттиском базановской статьи с гистерезисной петлей. Хотя оттиск действительно оказался испачканным глиной и хранил на полях беглый карандашный набросок скульптора. Во всяком случае, имя этого ученого я слышал только от Базанова, его работ не читал и даже не встречал. Почти невероятная для в е л и к о г о ученого ситуация, даже если сделать скидку на неосведомленность тех, кто не является узким специалистом в области термодинамики растворов. Все это лишний раз доказывает широту и щедрость базановской натуры, его умение видеть то, чего не замечают другие. Существование Голдсмита подтверждает лишь имеющаяся на него ссылка в одной из первых базановских статей – той самой, которая каким-то образом вдохновила Капустина на создание «Эрота поверженного».
Значит, Голдсмит все-таки существовал! И может, еще существует?
Глядя на фотографию потерянного, как во сне разгуливающего по институтскому двору Базанова, неуклюже наклоняющегося за щепкой, можно подумать, что Голдсмит – фамилия сказочной красавицы, о которой безнадежно вздыхает незадачливый юноша в очках.
Просто диву даешься, сколь простыми и незамысловатыми в аппаратурном отношении выглядят первые базановские опыты. То, что именно они легли в основу его теории, объясняется только одним: Базанов работал на свободной, чудом никем до него не занятой территории. По меньшей мере безумие с т а к и м оборудованием, какое имелось в его распоряжении, в наши дни приниматься за т а к у ю проблему. Он просто, наверно, не знал, за что берется, не ведал, что творил. Со временем они приобрели несколько новых приборов, наладили связи с другими институтами, но тогда, тринадцать лет назад, отчаянные усилия, как и претензии Базанова на исключительную значимость его работ, казались большинству смехотворными. Какой-то чудак суетился у подножья горы и примерялся, куда бы надавить плечом, чтобы сдвинуть ее с места.
Не в покушении на устоявшиеся понятия и представления (какими покушениями или опровержениями каких понятий и представлений кого удивишь в наши дни?) – хотя, конечно, его теория многое опровергала – причина насмешливого к нему отношения крылась совсем в другом. В конце концов, на своей территории он мог копать, где ему вздумается. «Термодинамическая химия»? Пожалуйста. Столько всяких развелось направлений, что за всеми и не уследишь. Одним больше, одним меньше – какая разница? «Термодинамическая химия» – это, несомненно, что-то очень заумное, скучное, далекое от реальной жизни абсолютного большинства жрецов массовой современной науки, у каждого из которых своя «химия», своя «физика», свои заботы, неприятности. Что-то новенькое? Ради бога. Но вот как юный пришелец осмелился на войну с Френовским, не имея ничего за собственными плечами? Ни моральной, так сказать, поддержки всесильного папаши, ни войска, ни жизненного опыта. С Френовским, который, позволь он себе такую вольность, мог бы украсить грудь увесистым ожерельем из уже высушенных временем черепов побежденных. Об этом не мог не знать новичок. Если и не знал поначалу, то ему наверняка сообщили: свет не без добрых людей. И почему эта война длится так долго? Вот что смешило, смущало, вызывало молчаливое удивление и тайное раздражение толпы. Почему ему можно, а другим нельзя?
Да и Максим Брониславович, пожалуй, мог бы допустить существование какой-то там новой «химии». Пускай себе. Пусть эффект, и даже «эффект Базанова», а не «Базанова – Френовского», хотя совершенно непонятно, почему этот молокосос не боится его, позволяет себе быть рассеянным в присутствии начальника, не терпящего безалаберности, разгильдяйства, всегда аккуратного, подтянутого? Такое поведение не может не раздражать, каким бы естественным ни казалось. Оно содержит тайный намек на некое пренебрежение. Или превосходство?
Где это видано, чтобы способный, обладающий прекрасной памятью молодой человек не мог запомнить шифр своей темы, номер приказа, название ГОСТа? Не хочет? Считает ниже своего достоинства засорять память подобными мелочами?
Почему, наконец, ничуть не смущаясь, он треплет волосы, отряхивает полу запылившегося пиджака или застегивает пуговицу на брюках не только в его, Максима Брониславовича, присутствии, но и в присутствии своей сотрудницы? (Френовский, конечно, не знал об истинном характере их отношений, иначе бы не преминул пустить в ход и этот козырь.)
Здесь могли разгореться бог знает какие страсти, ибо Максим Брониславович пытался ухаживать за базановской сотрудницей и не мог не догадываться, что девушке нравился Базанов. Ей почему-то нравился Базанов с его путаной манерой говорить, с застегиванием пуговиц у всех на глазах!
Успех Базанова у женщин, как и неуспех Френовского, свидетелем которого в конце концов стала институтская общественность, объяснялись, скорее всего, не чем иным, как особого рода женским чутьем к особого рода силе, женской способностью ч у в с т в о в а т ь н а р а с с т о я н и и нечто такое, что однажды, пожалуй, в чересчур уж категоричной форме выразил мой старый приятель, имея в виду одного из участников изнурительной, многолетней войны:
– Этот Френовский просто импотент.
Базанова как следует не знал никто: ни Френовский, ни Лариса, ни Елена Викторовна, ни я, ни он сам. Но порой в его жизни наступали часы и дни, которые, за неимением лучших определений, я бы назвал днями прозрения, просветленности, днями п р е д е л ь н о г о, полного знания самого себя. Едва ли не все эти дни он отдал своему научному детищу. Или следует утверждать как раз обратное, а именно, что такие дни были дарованы ему «термодинамической химией»?
Пытаясь обозначить словами то, что никогда не было понятно мне до конца, я чувствую себя в затруднительном положении современного режиссера, в чьем распоряжении имеются полуистлевшие театральные костюмы какой-то далекой романтической эпохи и нет средств на новые. Отобрав пять лучших базановских фотографий (в том числе «Базанов читает лекцию»), я ощутил всю парадоксальность ситуации: этот человек, как бы явившийся к нам из прошлого, впервые написал и довел до общего сведения те несколько основополагающих формул, уравнений и постулатов, которые без преувеличения можно назвать архисовременными. Возможно, они принадлежат не столько настоящему, сколько будущему, о чем свидетельствует возрастающее с годами число ссылок на его работы.
В такие дни все отступало на задний план. Базановские женщины, словно стайка пугливых рыбок, исчезали из поля его зрения всякий раз, когда он входил в основное, стремнинное русло своей незаконнорожденной теории. Он становился невменяемым. Его больше ничто не интересовало.
Однажды, остановив меня в институтском коридоре, он принялся подробно излагать свои новые соображения, касающиеся эффекта, чем-то напоминающего «эффект клетки», но тем принципиально от него отличного, что клеткой служила не среда, а сам реагент. Собственно, это и был «эффект Базанова», одна из первых устных его редакций.
– Видишь ли, Алик, – махал он своими ручищами, – у молекул меняется конформация. Считай, что факт этот доказан.
Мы двинулись по коридору, дошли до конца и вернулись. Потом снова. И так без конца. Останавливались лишь в тех случаях, когда рассказ требовал графических пояснений. Тогда он бросался к стене, что-то решительно чертил на ней пальцем, чаще же ограничивался воздухом, ибо по воздуху можно было писать на ходу.
– Ты понял? Вся штука здесь в том, что в плохом растворителе сильно разветвленная молекула сжимается в клубок, слипается, замыкается сама на себя, как бы умирает. В таком состоянии она не может «работать», понимаешь?
Он даже не поинтересовался, есть ли у меня свободное время ходить с ним взад-вперед по этому дурацкому коридору.
– Маленькая разница энтальпий. Казалось бы, чего проще, а? – он искательно заглядывал мне в глаза, но ему не нужны были мои ответы, они бы его только сбивали.
– Пожалуй, – тихо отвечал я, понимая, что оказался лишь случайным вспомогательным средством для выполнения текущей работы его мысли.
– Теперь представим себе противоположную ситуацию. Идеальный растворитель. Молекула распрямляется, – Базанов медленно разжимал сжатые кулаки. – Она становится чем-то вроде колючего ежа. Энтальпия какая? А свободная энергия?
Я пожимал плечами.
– Вот видишь, – торжествовал он, – ты тоже считаешь, что в данном случае не они определяют, – хотя ничего подобного, разумеется, я не считал, поскольку с трудом воспринимал то, о чем он рассказывал. – Пространственные затруднения. Давай рассмотрим пространственные затруднения.
– Давай.
– Нет, пока не будем отбрасывать свободную энергию, – размышлял он вслух. – Ты как считаешь? Так вот, – резал он воздух ладонью. – Главное – пространственные затруднения. Сделаем простое допущение. Так. Затруднения в пространстве. Ты понимаешь меня? Если кого-нибудь из нас запихнуть в тесную клетку, где мы не повернемся…
– Меня не надо.
– Что? – спрашивал он рассеянно.
Конечно, я был нужен ему лишь в качестве черновика, на котором он отрабатывал варианты.
– Когда иголки у ежика распрямлены… – медленно продолжал Базанов и осекался.
Мы шли по коридору молча. Потом возвращались – тоже молча. Если бы я вздумал юркнуть в какую-нибудь дверь, он бы, пожалуй, не сразу обратил на это внимание.
Он думал. Потом говорил:
– Ежик почуял врага. Иголки дыбом. В это время пошел дождь.
Господи, – думал я, – еще и дождь.
– Его тело намокнет?
– Не знаю.
– Я тоже, – растерянно соглашался Базанов. Потом вдруг решительно: – Его тело намокнет! Теперь другой случай: иголки опущены, прижаты одна к другой. Идет дождь.
У меня в голове все перепуталось: дождь, ежик, свободная энергия, разветвленная молекула.
– Дождь капает, – ловил Базанов ускользающую мысль. – Трава мокрая. Ежик не намокает.
Мне показалось, что он окончательно тронулся.
– Намокает или не намокает? – оживлялся Базанов. – Видишь ли, Алик, нужно сделать так, чтобы капли застревали между иголок.
– Пусть ежик чуть приподнимет иголки.
– Вот! Необходимо допустить возможность промежуточного состояния. Промежуточный растворитель. Не хороший и не плохой. Средний. Но где тогда находится критическая точка? – вновь углублялся он в свои мысли.
– Еще важно, какой дождь, – говорил я, чтобы не молчать, как истукан. – Крупный. Мелкий. Сильный. Слабый.
– Размер капель постоянный, – отмахивался Базанов. – Это меня не волнует… Кстати, ты предложил интересный ход. Что, если менять не расстояние между иголками, а размер капель?
Вдруг он резко повернулся ко мне:
– Слушай, ты когда-нибудь ел ежатину?
– Нет, – признался я.
Мы снова побрели по коридору.
– Ехал я раз в электричке. Давно. Мальчишкой еще. Дядька ежика вез. Смешной такой ежик, маленький. Дядька гладит его осторожно по иглам и приговаривает: приеду домой, зажарю и съем. Мясо у него нежное… Слушал я его, слушал, и так жалко мне стало этого ежика. Ком в горле, того гляди разревусь. Ты понимаешь, они должны стать ловушками.
– Кто? – окончательно запутался я.
– Начнут работать как обрыватели только при определенном положении. Если я достигну нужной конфигурации – получу эффект, не достигну – никакого эффекта. И на опыте получается так! – хлопнул он меня по плечу. – Можно создать условия термодинамическим путем, можно – химическим. Чуть влево – ускорение, чуть вправо – торможение.
Институт затихал. Отключили вентиляцию, все реже хлопала дверь лифта. Уходили последние. Кажется, только мы и остались на этаже.
– Представляешь, Алик, каких-нибудь две десятых определяют все. Мои системы работают примерно в таком же узком диапазоне. Человеческий интеллект, разум погибают оттого, что всего на десятую долю изменяется кислотность. Достаточно десяти минут, чтобы мозг нельзя было восстановить. Мои системы будут необратимо срабатывать за несколько секунд. Я полагаю, что чем тоньше и сложнее система, тем эффект будет ярче выражен. Жизнь и смерть, болезнь и здоровье находятся совсем рядом. Нужно только найти подходящий регулятор. Безусловно, он есть в каждом, только бы знать, как им управлять. Заболеваем, выздоравливаем, умираем, возвращаемся к жизни, а причина подчас ничтожна – изменение на десятую кислотности среды. Эх, Алик, бросить бы все, заняться биологией, биохимией. Какие там возможности! Да ведь возраст уже не тот.
Базанов загорелся, на ходу построил еще одну новую теорию, прочитал целую лекцию, содержание которой я уже смутно помню. В памяти остался лишь образ: маленький, тесный магазинчик – что-то вроде пригородных керосиновых универсальных лавок. На полках кастрюли, кухонная утварь, галоши, сапоги, гвозди, садовый инвентарь, а посредине, на самом видном месте – яркая расписная игрушка, высвеченная солнечным лучом из приоткрытой двери. Мне кажется, что всю свою впечатляющую лекцию Базанов создал во время нашего хождения по коридору, и многое из того, о чем он говорил, оказалось для него самого полной неожиданностью.
Это был один из тех редких случаев, когда Виктор начинал рассуждать логично, не давал мыслям своевольно перескакивать с предмета на предмет. Обычно пробраться сквозь путаные чащобы его речей оказывалось почти невозможно. Он заикался, начинал об одном, внезапно переходил к другому, возвращался назад, путал других, путался сам. Зато лекции читал превосходно. Вообще он был устроен так, что в минуты волнения, подъема, решения особо сложных задач все расчищалось в нем, распрямлялось, будто заботливый садовник приходил и удалял сорняки, подстригал непомерно разросшийся кустарник, прорежал парковые насаждения. Или лесник прорубал аккуратную, ровную просеку, именно потому богатую солнцем и земляникой, что по соседству с ней стояла стена густого, темного, непроходимого леса.
XIII
Прежде чем перейти к групповым фотографиям (окружение Базанова, его, так сказать, широкие связи с институтской и пр. общественностью), я должен отобрать из имеющихся одиночный портрет Рыбочкина (первый аспирант, первый и, увы, единственный представитель базановской школы, его преемник). На всех фотографиях Рыбочкин находится при деле, у вытяжного шкафа. Для выставки как раз нужен работающий, трудолюбивый Рыбочкин, именно такой, какой он на самом деле. Таким он получился на всех фотографиях. Удивительно, почему нет других. Ведь отрывался же он иногда от своих колб, термостатов, реостатов. Подходил, шутил, мы перекидывались двумя-тремя фразами.
Если не знать Игоря Рыбочкина, может сложиться впечатление, что он специально изображает из себя трудягу. Наморщенный лоб, жесткий взгляд, неизменно направленный на какой-нибудь лабораторный прибор. Герой труда. Стахановец, берегущий минутку. Разумеется, он хотел получиться на фотографиях самим собой. А получалось фальшиво.
Видно, Игорю требовалось еще меньше времени, чем мне, чтобы подготовиться к съемке. Застать его врасплох оказалось невозможно. Нацеленный объектив угадывается во всех снимках по напряженному, неестественному выражению лица. Нефотогеничная личность.
Иногда казалось, что труд не доставляет Рыбочкину такого же удовольствия, как Базанову, хотя оба они любили работать, испытывали прямо-таки физиологическую потребность в труде. Но когда Базанову удавалось свести концы с концами, истолковать очередной опыт, он был на седьмом небе, размахивал руками, шумел, сиял, а Рыбочкин в дни своих удач становился еще более молчаливым и печальным. Радовался ли он? Конечно радовался. Но радость переходила в состояние глубокой сосредоточенности. Он словно боялся спугнуть свое счастье, сглазить. Работать он умел и в работе был сильным, уверенным в себе. Другие состояния сулили много опасностей, перед которыми он мог спасовать. Уж так оказался устроен Рыбочкин. Особенно напряженно и неуверенно чувствовал он себя с женщинами. То, что в наш первый визит к Базанову Игорь решился танцевать с Ларисой, следует расценить как величайшее геройство с его стороны.
Рыбочкина просто было переспорить, но нелегко убедить. Надежным оружием ему служило молчаливое упрямство. В шумной компании он становился скованным. Шутливое заигрывание женщин расценивал как покушение или насмешку. Так оно и было на самом деле, женщины очень чутки к подобного рода настороженности мужчин.
Женился он рано, но не на той, которую любил, потому что та вышла замуж за другого. В день, когда Рыбочкину объявили об этом, он пригласил в кино малознакомую девушку, привел ее домой, оставил на ночь, а утром сделал предложение, которое было принято. Жена родила сына, похожего на Рыбочкина как две капли воды. Инженерской зарплаты семье не хватало, жена стала уговаривать Игоря поискать более высокооплачиваемую работу. Рыбочкин объяснил, что у него интересная тема, хорошая перспектива и к тому же война с Френовским – как он оставит Базанова одного? Жена вполне резонно посоветовала ему пожалеть семью, вместо того чтобы жалеть какого-то Базанова, который еще неизвестно чем отплатит ему, Рыбочкину, за его преданность. Рыбочкин попросил жену довольствоваться имеющимся.
Когда уговоры не помогли, началась систематическая пилка, но Рыбочкин был сделан из твердого материала: его не так-то легко оказалось перепилить. При том положении, в каком находилась их группа, повысить Рыбочкину зарплату Базанов не мог. Улучшить материальное положение Рыбочкина был в состоянии только один человек – Френовский. И он бы наверняка пошел навстречу, поскольку вовремя понял, что Рыбочкин – это не Верижников. И согласился бы на любые условия Рыбочкина, пожелай тот их предъявить. Встал бы на голову, чтобы добиться для него невозможного. Это Верижникова можно было надуть, заморочить голову обещаниями. Рыбочкин для таких игр не годился. Заполучая Рыбочкина, Максим Брониславович сразу убивал двух зайцев, но не убил ни одного, поскольку Рыбочкин отказался вести с Френовским переговоры на эту тему. О попытках Френовского заполучить его Игорь так и не рассказал Базанову. В результате для Максима Брониславовича Рыбочкин стал врагом № 2, вторым после Виктора. Сопротивление Рыбочкина было уже не протестом одиночки, но участием в организованном бунте.








