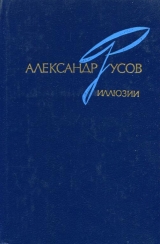
Текст книги "Иллюзии. 1968—1978"
Автор книги: Александр Русов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 26 страниц)
Торжества, на которых не присутствовали только два человека – Базанов и Френовский, ибо один лежал с микроинфарктом, а другой – со вторым обширным инфарктом, – проводились в хорошем темпе, без проволочек, по-современному. Уборщицы быстро приводили в порядок актовый зал, выметая нечаянно обломанные во время церемонии головки цветов, подбирая кем-то оброненные носовые платки. Никому не известные молодые люди сматывали черные шнуры микрофонов, кто-то гасил свет, запирал дверь, и жизнь возвращалась в привычное, трудовое русло.
Половину фотографии «Базанов и Френовский обмениваются дружеским рукопожатием» – ту, на которой Базанов, – я приклеил отдельно и размышлял, кому он будет теперь улыбаться, а также чем и в какой последовательности заполнить пространство, отделяющее его от «железной пятерки». (Январева я все-таки поместил под установкой, а Валеева с величественно, как у Медного всадника, протянутой рукой – рядом. Поскольку фотография сделана много лет назад на субботнике, Валеев выглядит моложе Январева, хотя на самом деле они ровесники.)
Светлана предложила восстановить разрезанную фотографию. То есть пусть Базанов и Френовский пожимают друг другу руки – что в этом особенного? Ведь так оно и было, здесь нет никакой подтасовки. Я подумал и согласился. Мы намазали оставшуюся половину клеем и аккуратно приложили к той, что уже была наклеена.
Из-за обилия людских лиц фотоколлаж грозил превратиться в изображение беспорядочной толпы, и потому мы решили окружить снимок «Френовский – Базанов» видами гор (итог моей давней командировки в Азию). Сюда же хорошо монтировался неизвестно откуда взявшийся пион с впившимся в него жуком-бронзовком (черно-белое изображение), но при этом кусок, куда бы поместилась только маленькая узкая фотография, остался пустым. Светлана взяла ножницы, полезла в ящик, где хранились старые иллюстрированные журналы, и через некоторое время протянула мне полоску глянцевой бумаги, на которой типографским способом было напечатано:
видишь вот это
75-миллиметровка сделала
это никто бы не мог
поверить что это не
враки ведь это был мой
приятель
ну не смешно ли
мы ведь с ним были
неразлучны
Мы срезали поля и последний слог «ла» у слова «сделала». Получилось как раз: полоска точно уместилась между пионом, горами и парным портретом.
XVII
Праздников оказалось недостаточно. В конце четвертого дня, погибая от усталости, мы ползали со Светланой по полу, усыпанному обрезками, не в силах прекратить это изнурительное занятие. Точно заядлые картежники или алкоголики, мы говорили друг другу: вот эту – и все. Эта последняя. А потом кто-нибудь вытаскивал из груды рассыпанных снимков фотографию Базанова-мальчика, или капустинского «Икара», или женский портрет.
– Кто это? – спрашивала Светлана.
– Ты не знаешь.
– Все-таки?
– Моя первая жена.
Вместе с новыми извлечениями приходили свежие идеи, требующие немедленного воплощения.
– Давай еще эту, а то забудем.
– Мы завтра утром не встанем.
Что и говорить, такая игра захватывает. Ощущаешь себя не только создателем новой реальности, но и вершителем чужих судеб. В твоей власти свести одних и развести других, выставить одного в смешном, другого в печальном свете, переиграть проигранную игру, восстановить попранную справедливость. Особенно хорошо играть в такие игры, если ты не был когда-то живым их участником.
– Алик!
– Да, милая.
– Кто этот величественный старик?
– Романовский.
– Кто?..
…Конечно, Базанову некуда было деться от новых, внезапно свалившихся на него союзников. Он не мог не испытывать к ним благодарности. Его все еще мучила жажда, и за глоток воды он готов был отдать целое состояние. Практически никакого выбора. Базанов оказался к тому времени слишком измученным, сил не осталось даже на то, чтобы продумать и выдвинуть свои условия. Либо он раскрывал объятия новоявленным друзьям, в чьих руках оказался едва ли не весь институт, и становился их знаменем, либо… Что последовало бы за его отказом?
Он был не готов к неизвестности, к тревогам и ожиданию новых опасностей. Или я говорю все это лишь для того, чтобы оправдать Виктора? Они и вправду находились в неравном положении – только что вступившие в дело, но уже обстрелянные, полные сил бойцы и обессилевший полководец, медленно приходивший в себя после перенесенного микроинфаркта.
Его все чаще мучили беспричинные страхи – следствие перенесенного сердечного заболевания. Раздражался по пустякам, впадал в уныние. Дорожи «союзники» своим лидером, они бы не взвалили на него организацию новой лаборатории – да еще такой, как лаборатория поисковых исследований. Тот же Январев, зная базановскую неприспособленность к административной работе, мог взять на себя бо́льшую часть забот по приобретению оборудования, открытию новых тем и координации работ с гарышевской лабораторией. Но каждый думал о себе. Всем им уже казалось, что перемены в институте произошли исключительно благодаря их усилиям. («Пусть думают, что все это сделали они сами», – должен был бы заметить Базанов.)
Я говорю: «они», хотя следует сказать: «мы были должны». Все, кому выпало жить в тот период великой институтской ломки. Ведь едва ли не каждый так или иначе участвовал в ней, выигрывал или проигрывал от происходивших перемен.
Были старики и молодые. Куда как легко различимый признак! Словно красный или зеленый свет, да и нет, белая или синяя майка футболиста. Френовский, Кривонищенко, их компания, с одной стороны. Базанов, Рыбочкин, «железная пятерка» – с другой. А между двух полюсов динамо-машины, не примыкая ни к одному, существовал в опасном поле борьбы и вражды некто Романовский – не столько старший, сколько старый научный сотрудник.
– Кто такой Романовский? – спросила Светлана.
Как же его звали? Валентин Петрович – вот как. Валентин Петрович Романовский.
Первое сохранившееся воспоминание: идет заседание ученого совета. Я только что поступил работать в институт и еще никого не знал. Не понимал добрую половину того, о чем говорили. Будто вошел в темный кинозал, а фильм давно начался. Фильм психологический, никаких событий – только разговоры. Был ли Базанов в зале? Не помню. Если и был, то, как и я, в качестве зрителя. Далекие годы. Середина шестидесятых. Среди выступающих, голосующих ни одного молодого. Но это по тем, пятнадцатилетней давности, понятиям. Френовскому – около пятидесяти, Наживину, Ласкину, Мороховцу – лет по сорок пять. Почти ровесники нам, нынешним. Самые пожилые – Кривонищенко, Грингер. Разумеется, Френовский уже тогда премьер. А Станислав Ксенофонтович уже тогда производил впечатление древнего старца. В течение пятнадцати лет он почти не менялся. Впоследствии Грингера сменил Валеев. Леву Меткина на место заведующего лабораторией № 35 посадил он.
Ни Левы, ни Валеева, ни тем более Гарышева на том заседании не было. Не могло быть. В заседаниях подобного рода они не участвовали. До крайности тихо и скромно вели себя эти ребята. Не высовывались.
Вспоминаю лица того времени. Почему-то в памяти они отдельно от тех, с кем довелось впоследствии работать бок о бок. При ближайшем рассмотрении люди оказались не совсем такими, какими казались на заседании ученого совета, собранного в небольшом зале в нашем корпусе отдела преобразователей (ОП). Я смотрел во все глаза, слушал во все уши.
Что значит новизна впечатлений! Я впитывал каждое слово, подмечал всякое изменение интонации, пытался уловить аромат, дух, характер происходящего.
Разные люди говорили о чем-то, к чему-то одному приводили их разные пути извилистых рассуждений. Расходились в стороны, разбредались по лесу, а потом непостижимым образом сходились. Конечным пунктом неизменно оказывалась точка на карте, намеченная кем-то невидимым. Они все встречались в назначенном месте сбора в предусмотренный срок.
И вдруг в эту виртуозную слаженность врывается седовласый старик, просит слова, спешит по проходу между рядами стульев, останавливается у небольшого возвышения сцены, поворачивается к залу и, астматически задыхаясь, начинает свою сбивчивую, пространную, взволнованную речь. Вижу его чеканный профиль, точно из бронзы отлитую, наливающуюся густой краской скулу. Старик Романовский опровергает доводы предыдущих ораторов: сколько можно толочь воду в ступе – не первый год обсуждается этот вопрос, каждый раз принимаются половинчатые решения, а воз и ныне там.
Дремлют на своих стульях ветераны, как лет десять спустя буду дремать я, о чем-то, скорее всего постороннем, перешептывается председатель с секретарем, новые ораторы тянут нити своих выступлений в ту же точку – в центр тяжести давно сложившегося status quo. Будто никто не заметил выступление чудака Романовского, никому его доводы не показались здравыми и достойными возражений. Принимается единогласно при одном воздержавшемся.
Новые заседания, совещания, собрания. На каждом Романовский выступает с критикой. Единственный человек в институте, кто осмеливается критиковать директора, Грингера, Кривонищенко. А ведь он даже не заведующий лабораторией. Почему его терпят?
В разное время, в разно складывавшихся политических ситуациях Романовскому предлагали более или менее высокие должности, и всякий раз он отказывался, повторяя любимое свое изречение: «Позолота сотрется – свиная кожа остается». Таким вот оловянным солдатиком был старик Романовский. Его разработки давали институту весомый экономический эффект, но большую часть жизненных сил он вложил в создание теории «внутренних напряжений», которую старшее поколение воспринимало с насмешливой снисходительностью, а молодое именовало сущим бредом. Даже осторожный, когда речь шла о новых теориях, Базанов говаривал:
– Конечно, все эти «внутренние напряжения», которыми Романовский пытается объяснить не только плохое качество наших мембран, но и движение планет, – чистой воды фантазия. Пусть себе фантазирует. Во всяком случае, от него не пахнет мылом и ординарностью. Прекрасный человек.
Дался Базанову этот Крепышев! Разумеется, довод «прекрасный человек» нельзя считать убедительным, когда пытаешься понять, почему всесильные старики не выгнали из института своего строптивого собрата. Ведь многих заставляли уйти. Один только Френовский на моей памяти выжил человек восемь. Базанов, кстати, должен был стать девятым, но не стал. Счастливое число девять.
Кто теперь помнит лица тех, с кем расправился Френовский? Это были все женщины: старшие научные сотрудники, руководители групп из его лаборатории. Более мелкая публика не входила в компетенцию Максима Брониславовича. В таких делах он слыл непревзойденным мастером. Обезглавленные им куры не тревожили институт даже предсмертным хлопаньем крыльев. Все делалось тихо, аккуратно и благородно.
Никто определенно не знал, чем провинилась та или иная жертва, да ведь ни о какой вине и речи не шло. Просто с некоторых пор одна из сотрудниц вдруг начинала чаще, чем остальные, посещать кабинет Максима Брониславовича, чаще, чем других, он оставлял ее своим заместителем, выписывал премии, приводил в качестве положительного примера, и внешне это выглядело как бурный роман. Может, так оно и было на самом деле. Впрочем, многие из них были немолоды, некрасивы. Или сотрудницы Френовского платили ему черной неблагодарностью, не оправдывали тех надежд, которые возлагал на них Максим Брониславович? Или он приносил их в жертву, чтобы держать в страхе и повиновении других? Так или иначе, не нашлось ни одной, кто оказал бы достойное сопротивление. Постепенно интервалы между посещениями кабинета недавней любимицей Максима Брониславовича увеличивались, жертва замыкалась в себе, усыхала, бледнела, становилась пугливой и рассеянной. Знакомые переставали замечать ее, здороваться при встречах. Ее как бы уже не существовало в институте. Затем следовал длительный бюллетень. Потом – заявление об уходе по собственному желанию. Жертва незаметно исчезала куда-то, ее место занимала другая. Вот и все.
Видимо, Романовский казался Максиму Брониславовичу безвредным. Вряд ли его спасало то обстоятельство, что он работал в другой лаборатории и Френовский не мог найти на него управу. На кого следовало, Максим Брониславович управу находил. Настигал в любой точке институтской территории. Просто от Романовского не исходило никакой р е а л ь н о й угрозы. Свое дело он делал безупречно, ни на чье место не покушался, никто не осмеливался брать с него пример, а его активность на собраниях в некотором роде даже оживляла, разнообразила институтскую жизнь.
Романовский критиковал все власти, при которых служил, – как старые, так и новые. Этот поборник теории «внутренних напряжений» с самого начала открыто выступал в защиту базановской «термодинамической химии» и на все возражения технического и тактического характера неизменно отвечал:
– Сами не можете ничего создать, так хоть другим не мешайте. Человек работает с полной отдачей. Нужно все-таки уважать чужой труд. Погодите, он еще всем покажет, что способна дать практике по-настоящему новая, оригинальная теория.
Приходил советоваться с Базановым, приносил ему свою так никогда и не опубликованную статью под длинным названием: «Внутренние напряжения как необходимое условие существования динамической системы». Просил проверить математические выкладки. Представляю себе, как допекал Виктора старый холостяк, считавший основным своим достижением то, что ему в жизни удалось избежать двух зол: врачей и женщин. Дожив до шестидесяти лет, Валентин Петрович Романовский ни разу не побывал в поликлинике, чем несказанно гордился. И надо было случиться, чтобы в итоге многоступенчатого квартирного обмена Романовский стал соседом Базановых.
В переломные дни он во всеуслышанье заявил:
– Я рад, что оказался прав, предсказывая работе Виктора Алексеевича большое будущее. Пусть чувствуют себя посрамленными те, кто не верил в нее.
Когда решалась судьба не только Базанова, Рыбочкина, Френовского, но и всего института, такое выступление, сыгравшее роль эха, вызвавшего обвал, уже не выглядело безобидным. По этому сигналу «железная пятерка» начала подготовку к открытию второго фронта.
Как сошло Романовскому с рук подобное высказывание? Скорее всего тем, кто покидал сцену, было просто не до него. Слишком горячие наступили времена. Часовой механизм адской машины отстукивал последние минуты перед взрывом. Пожалуй, только это и спасло тогда Валентина Петровича.
В день победы Романовский находился среди ликующих демонстрантов. Но уже вскоре, когда «железная пятерка» приступила к осуществлению операции по ликвидации последних укреплений противника, Романовский выразил свое недовольство жестокостью победителей и как бы даже переметнулся на сторону тех, кого еще недавно поносил со всех трибун. Создавалось впечатление, будто апологет «внутренних напряжений» опасался вместе с последними очагами сопротивления утратить «необходимые условия существования динамической системы».
Не имевшая достаточного опыта и не чувствующая себя пока столь же уверенно, как ей предшествующая, новая власть, видимо, не вполне правильно поняла благие намерения Валентина Петровича Романовского. На всякий случай она решила припугнуть его. Это до глубины души возмутило старого воина. Он позволил себе ряд весьма рискованных высказываний в адрес «железной пятерки». Помнится, не вполне уместное в нашем институте слово «мафия» впервые произнес он. Никто до него и никто после не употреблял этот термин применительно к новой ситуации. Если определение, пущенное в оборот с легкой руки Романовского, и использовалось, то всегда применительно к прошлому, связанному со временами правления бывшего премьера теневого правительства.
Зайдя однажды к Базановым, я застал за вечерним чаем такую компанию: Лариса, Виктор, Павлик и Романовский. Маленькая Людочка уже спала.
Я выложил на стол фотографии. Откинув голову, Романовский мерил меня оценивающим взглядом.
– Да ты просто влюблен в мою жену, – шутил Базанов. – Так может снять только влюбленный.
Я даже вздрогнул и мельком взглянул на Ларису. Она покраснела, встала из-за стола, чтобы налить всем чай. Виктор не видел. Он рассматривал фотографии.
– Никто так хорошо ее не снимал, – продолжал он, то относя фотографию на расстояние вытянутой руки, то приближая к глазам.
– Дядя Алик здорово умеет поймать выражение маминого лица, – объяснил Павлик.
– Но прежде оно должно, по-видимому, возникнуть. Или это Лариса в тебя влюблена?
«Дурак, – подумал я. – Кретин. В какое положение ты ее ставишь?»
Виктор оторвался от фотографии. Его взгляд встретился с укоризненным взглядом жены. Не будь за столом Павлика и Романовского, Лариса бы наверняка съязвила: «У меня, Витенька, не такое любвеобильное сердце, как у тебя». Или что-нибудь в этом роде.
– Выражение лица – дело случая, – сказал я. – Когда много снимаешь, есть из чего выбирать.
– Со вкусом, со вкусом, – кивал головой Романовский.
– Павлик, – шепнула Лариса и показала глазами на дверь.
– Я еще чаю хочу.
– Достаточно. Тебе пора.
Павлик нехотя поднялся со стула и ленивой, расслабленной походкой заковылял по направлению к своей комнате.
– Пап, поди сюда.
Виктор направился следом.
– Дорогая Лариса, – начал Романовский, когда они вышли. – Извините, что вмешиваюсь, но вашему мужу пора подыскать другое место работы. У нас очень нездоровая обстановка. И в прикладном институте он всегда будет ограничен в возможностях. Ему нужно в Академию, в другую среду, поближе к людям его масштаба. Поверьте, он здесь зачахнет.
– По-моему, вы идеализируете Академию, – заметил я. – Везде примерно одно и то же. В каком-то отношении у нас, на отшибе, даже легче.
– Вы должны серьезно поговорить с ним, – продолжал Романовский, не обратив внимания на мои слова. – Ведь он где угодно…
– Но здесь сотрудники, все налажено.
– Может забрать их с собой.
«Как же, – подумал я, – пойдет Рыбочкин в Академию».
Вернулся Базанов.
– Павлик желает знать, правда ли, что дядя Алик влюблен в маму или что мама влюблена в дядю Алика.
Он так говорил об этом, будто сама постановка вопроса должна была рассмешить присутствующих.
– Вечно ты со своими глупостями, – вспылила Лариса.
Все-таки Романовского отправили на пенсию. «Железная пятерка» не прощала обид. Насколько мне известно, Базанов не вступился за Валентина Петровича. Кто был для него Романовский? Чудак, фантазер, новый сосед по дому, автор бредовой теории «внутренних напряжений».
– Алик, – спросила Светлана, – куда мы его поместим?
– Давай сюда.
Между фотографиями институтских стариков и новых молодых как раз оставалось свободное место.
XVIII
Через несколько дней после совместного с Романовским чаепития у Базановых позвонил Капустин:
– Не знаешь, куда Витька пропал? На работе никто не подходит, дома тоже не могу поймать. Его благоверная меня не жалует. Нет его! – и трубку бросает.
– Он в Новосибирск улетел. В командировку.
– Надолго?
– Кажется, дней на десять.
Капустин покряхтел, посопел в трубку, потом произнес разочарованно:
– Тогда хоть ты приезжай.
– Что-нибудь стряслось?
Капустин только хмыкнул в ответ. Я почувствовал себя задетым.
– Ладно, как-нибудь.
– Не как-нибудь, а сегодня. Сейчас. Буду ждать в мастерской.
Создан новый шедевр, – решил я. – Капустину не терпится показать избранному кругу зрителей. За неимением таковых сгодится и Алик Телешев. Сукин сын, – думал я. – Кто познакомил тебя с Базановым?
Дверь мастерской долго никто не открывал. Наконец раздались ухающие по деревянным мосткам шаги, щелкнул замок, на пороге возник Капустин. Он кривил губы в усмешке, подтягивая штаны.
– Черт, так и знал, что именно сейчас позвонишь. Стоило только в сортир пойти. Садись вот, читай.
Он протянул рассыпающиеся листы, которые некогда были книгой.
– Завтра должен вернуть. Витьке хотел показать, но раз его нет, читай ты. Потом перескажешь.
– Сам не можешь?
– Читай, читай, – усмехнулся он.
Книга оказалась старинная, без начала и конца. Странная смесь «правдивых историй» и наукообразного трактата, посвященного истории открытия загадочного «чешуйчатого» вещества, обладающего магическими свойствами. Уцелевший текст начинался словами «пошел Фарлаф на Карпово болото», я запомнил их в связи с новой капустинской скульптурой «Фарлаф на Карповом болоте».
В отличие от раннего «Икара», лицо Фарлафа было тщательно вылеплено из глины и чем-то походило на «Портрет доктора химических наук, профессора В. А. Базанова», но только сильно уменьшенный. Между прочим, почти все аллегорические мужские персонажи капустинских скульптур напоминали Витю. Фарлаф стоял по колено в болотной жиже, держа в пригоршне добытые с превеликим трудом чудотворные «чешуйки», о которых говорилось в книге. Они могли вылечить любое заболевание, дать женщине способность рожать четырех детей в год, а мужчине – необыкновенную силу, спасти народ от моровой язвы, воскресить тех, кто умер, но не погребен. Только Фарлафу ничем не могли помочь, и его постепенно засасывала болотная топь.
– Ну, Ваня, – сказал я, перелистав страницы, – из-за какой-то книжки заставил меня ехать через всю Москву.
– Ты почитай, почитай, ученый человек, – тряс головой Капустин.
– Сегодня ведь не первое апреля.
– Семнадцатое мая, – взглянул Капустин на календарь.
За историей Фарлафа следовал рассказ о простодушном, отважном Ионе. Безымянный автор подробно описал трудности, встречающиеся на его пути, все искушения и беды, само преодоление которых стоило дороже любых волшебных чешуек, необходимых бедному Ионе лишь затем, чтобы разбогатеть и жениться на царской дочке.
– Вот она, ваша химия. Вся как есть тут.
Капустин улыбался и, довольный, поглаживал бороду.
– Не знаешь, что с Витькой? Неприятности опять? Заходил тут как-то, жаловался. Это ведь ясно, – тянул чай из блюдца Капустин. – Меня тоже не понимают. Ругают – не понимают, хвалят – не понимают. Что привычно, то замечают, а до остального никому дела нет. Времени у людей не хватает, чтобы подумать. Все несутся куда-то, спешат. У вас-то, поди, все определеннее. Хоть что-то доказать можно.
– У нас можно доказать почти все.
Базанов в Новосибирске, в Академгородке. На обороте фотографии надпись: «Под сигмой Академгородка». Новосибирская сигма – символ единения науки и практики, человека и природы, всех людей. Обидевший в лесу белку в двадцать четыре часа лишается прав гражданства. Белку нельзя обидеть. Каково узнать такое Базанову? Он теперь – как чувствительная мимоза, реагирует на малейшее внешнее раздражение. Как узник концлагеря, выпущенный на свободу. Или обреченный больной. И вся его вальяжность – только сверху, а внутри – сплошной комок нервов.
Январев ему как-то сказал:
– Сам виноват, что до такой степени обострил отношения с Максимом Брониславовичем. Вспомни, как разговаривал с ним.
– Хорошо еще, что вообще мог тогда разговаривать, – пошутил Базанов. – Тяжел оказался медведь. Так навалился, что не продохнуть. А на вид такой щупленький старикашка.
Профессор хорохорится. Профессор изображает из себя супермена. Улыбается в объектив: чи-и-и-з!
Хроника событий. Как говорится, этапы большого пути.
Пламенное выступление Романовского:
– Пусть чувствуют себя посрамленными те, кто не верил в «термодинамическую химию»!
Старая власть уже ощущает неустойчивость своего положения. Стучит часовой механизм адской машины. «Железная пятерка» готовится к боевым действиям. Базанов дописывает докторскую диссертацию. Разумеется, об этом не знает никто в институте, кроме Рыбочкина. Но события грядут – это чувствуют все. Нужно к чему-то готовиться, что-то предпринимать, иначе волна сметет подчистую.
Самое старое, слабое и потому уязвимое звено – начальник отдела № 2 Станислав Ксенофонтович Кривонищенко. Несмотря на то, что по своему влиянию и весу он – второй после Френовского человек. Или благодаря как раз этому обстоятельству. Деваться некуда. Необходимо чем-то жертвовать, что-то менять, разряжать обстановку. Если потом что случится (а ведь непременно случится!), спросит кто (обязательно спросит!): вы-то куда смотрели, товарищи, какие меры принимали? – чтобы можно было ответить: вперед смотрели, в самую точку, и меры принимали соответствующие. Прежде всего определенные перемены выгодны Максиму Брониславовичу Френовскому. Что, если и новый начальник отдела станет поддерживать его? О какой предвзятости можно тогда говорить?
И наступает день, когда новое время (до чего быстро стирается позолота, и как утомительно долго служит свиная кожа) говорит устами самого Станислава Ксенофонтовича такие высокосознательные слова:
– Пора молодежи уступать место. Пусть молодежь поработает. Дорогу молодежи!
И все в таком духе. Формулировки шлифуются, высокосознательные слова доверительно сообщаются каждому, кто является на прием к Станиславу Ксенофонтовичу. В разыгрываемом спектакле они играют двоякую роль. Примерно ту же, что и заводское письмо в руках у Френовского с отказом осваивать установку, и роль пистолета, врученного арестованному офицеру былых времен: лучше почетное самоубийство, нежели позорное разбирательство. Словом, Станислава Ксенофонтовича как бы не смещают вовсе – он уходит сам, добровольно, исполненный сознания с честью выполненного долга.
Новым начальником отдела становится Январев, однокашник Базанова. Тем более важное обстоятельство, что на первых порах Январев всецело находится под влиянием, быть может, даже обаянием Френовского. Тот сразу его приручает, заставляет подчиниться. Стратегия Френовского на первых порах вполне оправдывает себя. Январев – его кандидатура, хотя мало кто об этом догадывается. Максим Брониславович открыто грустит, потеряв боевого соратника. Новый начальник поддакивает каждому слову теневого премьера, тогда как видимость их отношений не оставляет желать лучшего.
– Максим Брониславович, зайдите.
– Извините, – прерывает разговор с посетителем Максим Брониславович, – начальство вызывает.
В голосе Френовского отчетливо слышна уважительная, даже самоуничижительная нота. Новая роль продумана до тонкостей.
На самом деле это не начальник отдела вызывает начальника лаборатории, а начальник лаборатории вызывает нового начальника отдела его, Январева, устами.
Январев тихо раздувается от гордости в заново побеленном (чтобы духу старого не осталось!) и отремонтированном кабинете. Хлыст, с помощью которого осуществляется дрессировка, каждый раз надежно прячется, а накинутая на шею удавка сделана из такого тонкого материала, что сразу не различишь. Кроме того, Максим Брониславович – прекрасный психолог. Он понимает, что Январеву нравится видимость власти. Он умеет быть внимательным и услужливым. Премии, открытие тем, закрытие тем, перенос отдельных этапов и избежание связанных с этим неприятностей – те нити управления, которые уверенно держит в своих старых, веснушчатых руках непревзойденный стратег Максим Брониславович Френовский. Январеву кажется, что он использует своего многоопытного сотрудника для укрепления собственного положения, тогда как Максим Брониславович точно знает, кто кого использует. Здесь и говорить не о чем.
Январев оказался первым из «железной пятерки», получившим власть, и единственным, кто не сумел ею воспользоваться. Но это поначалу. Потом он с лихвой наверстает упущенное. Френовский остался теневым премьером. Но и это до поры до времени, пока «железная пятерка» не набрала силу. Максим Брониславович создал условия для ее возникновения. Не только Январева – он выпустил в небо и других «стальных птенцов»: Крепышева, Гарышева, Леву Меткина. Пожалуй, лишь Валеев был обойден его вниманием.
Никуда не денешься – диалектика жизни. Гусеница умирает, чтобы стать коконом; кокон умирает, чтобы стать бабочкой.
Итак, Январеву п о н р а в и л о с ь быть начальником. Это самое слабое, чувствительное, уязвимое его место. По нему и постукивает Френовский хлыстом во время тренировочных занятий. Не в пример Базанову, Январев хорошо поддается дрессировке. Что значит молодой!
Базанов завершает работу над диссертацией. Увесистый фолиант на столе у Френовского. Базанов сам приносит его. Вот это игра! У Френовского даже дух захватывает.
Последняя партия. Решительная. Базанов играет белыми и потому делает первый ход. Начальник лаборатории должен быть знаком с диссертацией, подготовленной его сотрудником. С докторской диссертацией, о которой самому Максиму Брониславовичу посоветовали в свое время забыть для его же собственной пользы.
– Я бы попросил вас, Максим Брониславович, познакомиться с работой в течение месяца, – просит Базанов.
– Конечно, Виктор Алексеевич. Мне десяти дней хватит.
Даже глазом не моргнул – такое самообладание.
Десяти дней, разумеется, не хватило. Месяца – тоже.
– Когда, Максим Брониславович, вы вернете мне рукопись?
– Уже заканчиваю, Виктор Алексеевич.
Проходит еще две недели.
– Прочитали?
– Прочитал.
– Ваше впечатление?
– Практическая часть слабовата.
– У меня теоретическая работа.
– Но вы работаете в прикладном институте.
– Какое это имеет значение?
– Большое, Виктор Алексеевич. Главное.
– Вы мне вернете работу?
– Дома забыл. Вы уж меня извините.
Через неделю:
– Принесли?
– Ах, опять забыл! Склероз, Виктор Алексеевич. Не беспокойтесь, никуда ваша диссертация не денется.
Он издевался, надеялся, что Базанов сорвется, нагрубит, возможно, даже ударит. Последнее решило бы все проблемы. Разом. Хотя и больно, и унизительно, да и опасно в таком возрасте.
Базанов на пределе. От него всего можно ожидать.
Френовский ждал. Не оставался один в кабинете. События назревали. Требовались свидетели. Кто-нибудь из свидетелей всегда сидел на стуле подле начальника. Постоянное дежурство. Караулили, ждали с утра и до вечера – целый рабочий день. Но Базанов не приходил, не спрашивал о диссертации. В самом деле, не единственный же экземпляр.
Потом доклад на ученом совете. Апробация работы.
Френовский выступает против: недостаточно развита практическая часть работы, вся диссертация имеет для отрасли ограниченную применимость.
Едкое замечание Романовского:
– Отраслевых докторов наук не бывает.
Молчание. Мертвенное молчание в набитом народом зале. Ни смешка.
Почему все-таки они отпустили его, оставили живым?
Январев выступает: и вашим, и нашим. Подленькое выступление, если учесть, что работа у Базанова действительно выдающаяся и что они с Январевым кончали один институт, одну кафедру. Однокашники. Январев упирает на объективность, беспристрастность, п р и н ц и п и а л ь н о с т ь своих оценок. Но тут все понятно.
Против существа работы нечего возразить. Единственный явный противник – начальник лаборатории, в которой работает соискатель. Не очень-то красиво. Новый заместитель директора председательствует. Он все видит, все понимает. Больше никто не решился выступить.








