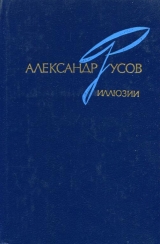
Текст книги "Иллюзии. 1968—1978"
Автор книги: Александр Русов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 26 страниц)
– Ну что? – хрипел Жора. – Садись, па́ра.
Жора слыл богом. Он легко ставил п а р ы одним, пятерки другим, то и другое третьим, тогда как годовые четверки почти гарантировали получение отличных оценок на институтских вступительных экзаменах по физике. О Жоре ходили легенды, – говорил Базанов и тут же признавался, что от школьных уроков физики в памяти остались лишь болтающиеся тесемки белья учителя и дружный смех класса. Бог был старым, неряшливым человеком, возможно, последним из богов, пожелавших жить на земле и подвизаться на учительском поприще. Учительницы химии Базанов не помнил. Даже имени.
– Вон, – сквозь прутья ограды тянул руку Базанов. – Там был д у р а к.
Потом начались странные институтские годы, в чем-то сходные с годами школьного прозябания. Он снова завидовал тем, кто на лету схватывал смысл и содержание лекций, для кого успех сдачи зачетов, коллоквиумов и экзаменов находился в прямой зависимости от добросовестности посещения занятий. Как он сам потом говорил, будто в горле у него застрял кусок, который невозможно было ни проглотить, ни выплюнуть. В одиночку, отчаянно боролся студент Базанов за жизнь, не веря, что кто-либо способен ему помочь.
Тем временем в группе, куда был зачислен Базанов, под руководством студента Январева и еще нескольких активистов стала налаживаться общественная жизнь. Одно из первых своих собраний студенты посвятили «проработке» Базанова, обнаружив в его поведении некое опасное сходство с поведением знакомых со школьной скамьи, скорее отрицательных, чем положительных, литературных героев. Печоринский индивидуализм, онегинское высокомерие и чайльдгарольдова печаль были осуждены в нем как несостоятельная в наши дни попытка «изобразить из себя гения». Именно такую формулировку сохранил протокол.
Следовательно, первыми, кто увидел Базанова н а с к в о з ь, оказались студенты, единодушно посоветовавшие товарищу пересмотреть неправильное, недостойное поведение. Вторым был институтский преподаватель, доцент кафедры физики, маленький, артистического склада человек по фамилии Пичугин. Глядя прямо в глаза приготовившемуся отвечать студенту, он заявил, что не станет экзаменовать его, дабы не тратить попусту время, а сразу поставит «отлично», поскольку студент Базанов, которого он, доцент Пичугин, видит насквозь, будто это не студент вовсе, но тонкое, прозрачное стеклышко, талантлив и трудолюбив, и этих двух качеств, по его, доцента Пичугина, мнению, вполне достаточно, чтобы молодой человек оправдал самые оптимистические прогнозы.
Под пристальным взглядом пророка студент Базанов решительно проглотил застрявший ком и почувствовал, как птица выпорхнула у него из груди. То сладкое, томительное мгновение вобрало в себя нечто жуткое, колдовское, необъяснимое.
Впрочем, упомянутого доцента Базанов встретил только на третьем курсе, а до того его безрадостные дни протекали в чертежных кабинетах, наполненных монотонным верещанием ламп мертвого света, в кисло пахнущих химических и наэлектризованных физических лабораториях. Каторга зачетов, экзаменов и коллоквиумов казалась ему пожизненной, безысходной. Его сознание было порабощено тысячью скучных значков, написанных и бесследно стертых с поцарапанных досок.
Встреча с Пичугиным совпала по времени с загадочным процессом, который сам Базанов однажды определил как «прорыв из небытия в бытие», – выражение, использованное в связи с удачными испытаниями очистительной установки, сконструированной Игорем Рыбочкиным. Он вдруг снова, как некогда в школе, вырвался вперед и быстро набрал высоту. Все трудности, горести, неподъемная тяжесть знаний вновь оказались преодолены. «Базанов-отличник», «Базанов-свой-парень» и, наконец, «Базанов-талант», – в таких не запротоколированных на этот раз формулировках выразилось общестуденческое признание его заслуг. Что касается наиболее активного общественника – студента Январева, то он во всех отчетных докладах непосредственно соотносил успехи, достигнутые студентом Базановым, с той большой разъяснительной и воспитательной работой, которую с самого начала проводил заботливый студенческий коллектив.
Впоследствии начальник отдела Январев выскажется даже в том духе, что не только «Базанов-свой-парень», но и Базанов-ученый был воспитан и взлелеян исключительно студенческим коллективом, возглавляемым на общественных началах лично им, студентом-общественником Январевым.
«Прорыв из небытия в бытие» сопровождался как бы изменением угла зрения студента Базанова, а также связанным с этим – изменением видимых пропорций всего окружающего. Так, некогда казавшаяся значительной фигура Январева оказалась вполне рядовой и даже мелковатой в сравнении с фигурами нескольких молчунов-акселератов, не только не принимавших участия в осуждении новоявленного «гения», но и теперь, в пору «прорыва», ни разу не высказавших суетливой готовности восторженно приветствовать нового лидера.
Если для Январева решимость Базанова начать войну с Френовским была лишь рецидивом старой студенческой болезни, борьбе с которой он отдал столько сил, то будущий профессор воспринимал, видимо, такие резкие перепады уровней в сообщающихся сосудах своей судьбы, внезапные переходы от состояния мира к состоянию войны, от счастья к несчастью как нечто неотвратимое, непредсказуемое, подобное вулканическим извержениям; неизменно обжигающим окружающих и его самого.
Почти через двадцать лет после окончания студентом Базановым достопамятных факультативных исследований в области термодинамики растворов, проводимых под руководством доцента Пичугина, профессор Базанов скажет нашему общему другу Ване Капустину, что его, Базанова, жизнь волею обстоятельств была подчинена как бы единому замыслу и что в означенном единстве, центральным моментом которого является, конечно, развитая им теория, заложена очень малая доля усилий для выбора того или иного направления действий. Короче, Базанову якобы было предопределено стать «отцом термодинамической химии», и он поступал в своей жизни так, а не иначе лишь в силу долгое время им самим не осознаваемого предназначения.
– Я тебя понимаю, Витя, – с самым серьезным видом говорил на это Капустин, а я про себя думал: господи, какие дети, какая все это чепуха.
Базанов никогда не утверждал, что исследования студенческой поры увлекали его; они были продиктованы скорее предусмотрительностью, чем еще не пробудившейся страстью к науке. Факультативные работы избавляли от необходимости сдавать коллоквиумы, а в конце года – делать курсовую по физической химии.
Базанов сидел себе с учебником на коленях в институтском сквере, а в это время лавочка поплыла, ноги студента оторвались от земли; он и не заметил, как пышная зелень земли сменилась скудной, мелкой растительностью, поросшими мхом камнями, в тепло лета ворвались струи горного воздуха, приятно охладив молодое, разгоряченное тело. Вдруг он обнаружил, что парит высоко в поднебесье. Под ним – люди, машины, земля, его маленькое прошлое, способное, кажется, уместиться на детской ладони. Воздух становился все более прохладным и наконец стал ледяным. Зуб на зуб не попадал. Он оказался совершенно не подготовлен к такому путешествию.
По окончании института Базанова оставили в аспирантуре. Профессор Музыкантов предложил ему тему, совсем не связанную с термодинамикой растворов. Начав работать в новой области, Базанов поспешил разыскать заросшую осокой протоку, по которой ему удалось перебраться в знакомые воды термодинамики. Необходимость поддерживать постоянную связь между двумя озерами – тем, куда пустил его плавать профессор, и тем, куда он пробрался сам, можно сказать, без спросу, придала в дальнейшем всей его деятельности необычный, авантюрный, странный характер, видимо, и в самом деле предопределивший появление «термодинамической химии».
Это была случайность, утверждали потом некоторые. Счастливая случайность, ничего больше. Базанову повезло. Обидно, что повезло именно ему, а не кому-нибудь более достойному. Он родился в рубашке. Впрочем, ни профессор, ни аспирант не могли предвидеть, к чему в конце концов приведет работа над темой, от которой никто не ждал выдающихся результатов. Потребовалось несколько лет, чтобы Базанов окончательно понял, куда занесла его «счастливая случайность». Остальные поняли это гораздо позже.
Сегодня фигура профессора Музыкантова может быть оценена, в общем-то, как заурядная. Конечно, Базанов считается его учеником, и это по сей день придает профессору определенный вес. Я бы даже сказал, шарм. Справедливости ради стоит отметить, что был он, вероятно, лучшим из реально возможных для аспиранта Базанова руководителей. Никого из ярких в науке фигур в институте к тому времени уже не осталось. Институт давным-давно миновал пору расцвета.
Всем нам, окончившим разные аспирантуры у разных профессоров, многое видится теперь иначе, чем в годы горячей аспирантской молодости, когда без руля и ветрил нас носило кого по малой, кого по большой воде. Человек мягкий, умный, интеллигентный, профессор Музыкантов не угнетал своих аспирантов мелочной опекой, давая им в полной мере хлебнуть ветра свободы. Едва ли не ей одной обязано своим возникновением новое научное направление, развитое Базановым.
Аспиранты были предоставлены самим себе, могли являться или не являться в лабораторию, приходить и уходить, когда вздумается, да и заниматься, собственно, чем вздумается. Как и всякий другой человек его положения, пастырь был слишком занят, чтобы вспоминать о существовании своего стада в период, отделяющий одну аттестацию от другой. Лучшими аспирантами считались те, которые доставляли меньше хлопот, не беспокоили, не отрывали драгоценное время, целиком поглощенное текущими делами кафедры, книгами, которые он писал, журналом, который редактировал, дачей, которую реконструировал, квартирой, которую ремонтировал, машиной, которую продавал, и машиной, которую покупал, а также друзьями, знакомыми и другими людьми его круга, которых профессор в силу душевной склонности или деловой необходимости встречал, провожал, развлекал, с которыми он беседовал, спорил, поддерживал отношения. Кроме того, насколько помнится, профессор Музыкантов в то время состоял членом нескольких ученых советов, ВАКа, каких-то нескончаемых институтских, межведомственных и международных комиссий. Ему достаточно было знать общее число аспирантов, тогда как последних вполне устраивала широкая профессорская спина, за которой одновременно надежно укрывалась дюжина домогающихся кандидатских степеней молодцов и молодиц. Что и говорить, такой была и остается наиболее распространенная форма «трудового соглашения» между руководителем и его подопечными. А вот от микрошефа, чье руководство зачастую влечет за собой лишь ограничение степеней свободы и потерю последнего шанса на профессорское внимание, судьба Базанова избавила. С ним бы, пожалуй, было легче защитить диссертацию, но не стать личностью в науке.
Уже за одну свободу должен был бесконечно благодарить Базанов своего руководителя. Именно дух свободы вознес его столь высоко. При том, что начинал он, можно сказать, с нуля. Защитившиеся (в их числе и Базанов) пополняли ряды многочисленной «школы» профессора Музыкантова, хотя слово «школа» вряд ли самое удачное для обозначения группы беспризорников. Кто-то, выброшенный из лодки посреди озера, выплывал, разом научившись держаться на поверхности, кто-то тонул. Пловцам недоставало систематической подготовки, ежедневных тренировок, бесед, занятий со знающими, многоопытными учителями. Им ориентира не хватало, магнита, магического поля личности мастера. Уцелевшие пловцы обучали друг друга, терлись друг о друга, как мелкая галька, которую гоняет из стороны в сторону и обкатывает морская волна.
Слишком легко и поверхностно закреплялись «школьники» на научной почве, чтобы в дальнейшем чувствовать себя уверенно, независимо от силы и направления ветра. Большинству суждено было застрять между большой наукой и ее глухой провинциальной окраиной. Те же, кто когда-то рвались в аспирантуру из престижных соображений, для кого это была единственная возможность «зацепиться» за Москву, продолжали проявлять неуемную активность, вполне соответствующую классическому закону химических взаимодействий: чем неустойчивее – тем активнее, чем более реакционноспособен – тем менее избирателен.
Мог ли ученик найти своего учителя, подмастерье – мастера, как находил его некогда молодой человек, желающий научиться науке жизни, искусству и ремеслу? Что могло служить ему верным компасом: газеты? журналы? книги? школьные учителя? Откуда ему было знать, до какой лаборатории или мастерской он должен дойти, доехать, доплыть, если мастер, назначенный в учителя, уже не владел секретами мастерства, если он стал таким же массовым, рядовым явлением, как и неоперившиеся школяры? И способно ли было казенное учреждение не то чтобы заменить, но хотя бы смутно напомнить ученику желанную атмосферу д о м а, где он захотел бы провести большую часть отпущенных ему дней?
В ординарной и, скорее всего, действительно малозначительной базановской теме заключалась, однако, возможность разностороннего подхода к проблеме. Свобода базановских аспирантских лет обеспечивалась мудрым профессорским опытом, согласно которому не тема формирует ученого, но аспирант по мере превращения в ученого формирует и формулирует тему своих исследований. Ведь аспирантура не канатная дорога, гарантирующая перевоз с подножья на вершину.
Когда доцент Пичугин пристально вглядывался в Базанова, собираясь поставить оценку без экзамена, он, вероятно, уже видел ту высоту, на которую должно было занести талантливого студента. Возглавляемые Январевым сокурсники, предупреждавшие Базанова о нежелательных последствиях его поведения, словно собственной кожей чувствовали нестерпимый холод той высоты.
Бедный Январев! Бедный начальник отдела, которому снова, совсем как в студенческие годы, пришлось проводить кропотливую систематическую воспитательную работу по приведению в чувство о к о н ч а т е л ь н о з а з н а в ш е г о с я г е н и я.
IV
С Ларисой я познакомился в шестьдесят пятом или шестьдесят шестом году у них в доме, куда мы зашли днем после встречи какого-то заморского главы государства, отстояв и отмахав положенное время флажками у закрепленного за нашим институтом пятьдесят шестого столба. Был я, был Рыбочкин, сотрудница Базанова – та самая, имени которой мне не хочется называть, и, кажется, кто-то еще. Незадолго до того родители Базанова купили себе кооперативную квартиру на Юго-Западе, а эту, трехкомнатную, оставили молодым.
Помнится, допотопный дух дома произвел на меня неизгладимое впечатление. Огромный, пахнущий старостью подъезд, широкие ступени пологой лестницы, сумрак и обтянутая металлической сеткой уродливая клеть лифта, занимающего часть пролета. Будто во время войны в дом угодила тяжелая, неразорвавшаяся бомба и пробила его насквозь, от крыши до основания. Квартира находилась на седьмом этаже.
Видно, подъезд, лифт, лестница показались такими еще потому, что служили преддверием встречи с Ларисой, которая в моем представлении была заискивающей перед мужем дурнушкой, пребывающей в постоянном страхе и унижении. Ведь Виктор подчас даже не скрывал от нас, людей посторонних, своих любовных связей, и это, конечно, настраивало на определенный лад. Уже одно присутствие в нашей компании базановской любовницы говорило о многом.
Легко представить мое удивление, когда дверь открыла этакая королева с ниспадающими на плечи вьющимися рыжеватыми волосами и огромным, как на фаюмских портретах, разрезом светло-зеленых глаз. Серый свитер туго облегал ее безупречно стройную, высокую фигуру, меж тонкими, чуткими пальцами дымилась сигарета. Я тотчас отметил, что глаза у нее разные: правый – чуть более темный, печальный, как-то тревожно искрящийся, а левый – совсем светлый. Он излучал нежность, спокойствие, доброту и поистине детскую безмятежность. Лариса просто, дружески и даже несколько покровительственно улыбнулась мне, а могучая рука Базанова подтолкнула к порогу:
– Заходи, Алик.
Мы вошли с какими-то глупыми шуточками. Хлопнула дверь. В глубине квартиры захныкал малыш. Лариса торопливо погасила сигарету, сказала:
– Потише, пожалуйста, – и пошла успокаивать разбуженного Павлика.
Комната, где мы оказались, да и вся квартира, как я убедился позже, носила следы ее неустанных забот. Стол, ваза с единственным цветком, стулья, книжные полки. Ничего лишнего, неестественного, как и в ее, Ларисиной, внешности. Базанов, пожалуй, выглядел здесь в большей степени гостем, нежели любой из нас.
Как-то он сказал:
– Я чувствую себя дома, точно во дворце. А ведь я родился и привык жить в хижине.
Балкон, на который мы вышли, был именно тот, где мальчик Базанов лет десять – пятнадцать назад позировал с духовым ружьем перед объективом фотоаппарата. Позже, сопоставляя первое свое впечатление с той фотографией, я пришел к выводу, что городской пейзаж, на фоне которого запечатлен воинственный мальчик, почти не изменился, но тогда я не знал о существовании фотографии и мое непосредственное впечатление от панорамы, открывавшейся с балкона базановской квартиры, никак не связывалось с пятидесятыми годами, с ароматом тех лет. Овощной лавки во дворе уже не было, хотя сам подвальчик еще существовал. Не было дровяных сараев и ничего другого на их месте, но и без них двор не казался просторным.
Поначалу я решил, что базановское высказывание о хижине и дворце объясняется как бы принадлежностью их с Ларисой к разным эпохам, мирам.
Скоро она вернулась от Павлика и, увидев извлеченные Рыбочкиным из портфеля бутылки, тотчас отправилась на кухню готовить еду.
Вряд ли Базанов предупредил ее о нашем приходе. Мы были не те гости, с которыми церемонятся. К тому же предупреждать о чем-либо Базанов не умел и не любил. Еще час назад он сам не знал, где окажется.
Виктор пригласил всех на кухню, но Лариса то ли показала, то ли приказала едва заметным движением: здесь. Она накроет стол в столовой. И суетящийся Базанов разом успокоился, угомонился, уселся в кресло, будто одного ее легкого жеста было достаточно, чтобы выпустить из него весь избыточный пар.
Я пытался понять, как воспринимает Лариса базановскую сотрудницу, ибо, по всем признакам, она, как и мы с Рыбочкиным, впервые посещала этот дом. Даже если Лариса ни о чем не догадывалась, простое женское любопытство, чутье жены должно было насторожить ее. Ничего похожего! Или эта женщина так уверена в себе, подумал я, так самонадеянна, что и мысли не допускает о возможности существования соперницы?
Их дом казался обителью благополучия. Обеспеченный муж, квартира, красавица жена, прехорошенький сын (в тот же день мы получили возможность познакомиться с Павликом, когда он проснулся). Базанов сидел рядом со своей пассией, иногда, забываясь, клал руку ей на плечо, что не выходило, впрочем, из рамок его обычного, всегда свободного поведения. Ничто не менялось при этом в лице Ларисы. У них, видно, каждый жил своей жизнью. У него любовницы – у нее любовники. Они давно играют в эту игру, научившись не испытывать ни угрызений совести, ни стыда. Во всяком случае, такое объяснение выглядело наиболее правдоподобным.
Выяснилось, что она работает книжным редактором. Я всегда трепетал перед людьми, причастными к печатному слову. Разгоряченное вином воображение позволяло уже по-новому истолковать благосклонность, с которой Лариса взглянула на меня при встрече. Предложу-ка я ей сделать портрет, подумал я, тем более, что Базанов со свойственной ему восторженностью уже пропел за столом хвалу моим способностям фотографа. Воспрянув духом, я ждал только момента, чтобы очутиться с Ларисой наедине.
Встали из-за стола, включили музыку, и я первый пригласил ее танцевать. Вот тогда-то, пожалуй, и началось сумасшествие, которое, наподобие лихорадки, било меня в течение многих лет. Я понял, что погиб, в тот самый миг, когда она положила руку мне на плечо, а я коснулся ее тонкой, послушной талии.
Музыка кончилась. Я не успел сказать ей ни слова.
Потом танцевал с базановской любовницей, равнодушно льнувшей ко мне во время танца. В общем-то она никогда мне не нравилась. И что в ней Виктор нашел? Двигался я, как заводная игрушка, но все-таки сумел взять себя в руки, усилием воли выйти из состояния столбняка и вновь с самым беззаботным видом, хотя и несколько поспешно, направился к Ларисе, чтобы пригласить ее танцевать. На этот раз она не могла не почувствовать, что нравится мне. Слова, с помощью которых я расставлял свой нехитрый силок, находились сами собой. Она тотчас согласилась на мое предложение, чуть, впрочем, откорректировав его. Дело в том, что ей очень хотелось иметь снимки сына. Профессиональные фотографы в фотоателье снимают, как правило, бездарно, а ей обидно, что Павлик вырастет и у нее не будет ни одной его детской фотокарточки.
– Конечно, Лариса, что за разговор. Конечно, сниму Павлика. Выберем светлый, солнечный день, я приеду к вам, и целую пленку – на одного Павлика. Чудесный мальчик. Уверен, он хорошо получится… Но вторую пленку, Лариса, мне бы хотелось потратить на вас. Все-таки я немного художник, хотя такое утверждение может показаться вам самонадеянным, даже смешным. Вы – замечательная модель. Мне непременно хочется сделать ваш портрет. И вам, думаю, будет приятно иметь хорошую фотографию…
Так пел я, пока самым что ни на есть старомодным образом, с отведенными в сторону руками, мы толклись на одном месте.
Она согласно кивала:
– Конечно, приятно.
– Только, пожалуйста, чтобы никого больше – только мы. Каждый лишний человек отвлекает, мешает сосредоточиться. Я имею в виду Виктора. Пусть его в это время не будет дома.
Она со смехом ответила:
– Его почти никогда не бывает.
– Я позвоню на днях.
Ни малейших сомнений, никаких заблуждений на ее счет у меня теперь не было.
Я позвонил, договорились о встрече.
– Павлик спит.
Ну и ладно, сначала поснимаю ее.
– Когда придете?
– Да вот сейчас, я тут неподалеку.
Прилетел на такси, а потом медленно поднимался пешком на седьмой этаж, огибая зловещую клеть лифта, уходившую вниз, в бездну, в никуда.
Сердце бешено колотилось, будто оно и было тем мотором, который примчал меня к дому Базанова.
Опасаясь разбудить Павлика, я едва нажал кнопку звонка. В тот короткий промежуток времени, который предшествовал вдруг заполнившему весь лестничный пролет стуку ее направляющихся к двери шагов, я вспомнил, как Лариса танцевала с Рыбочкиным – верным базановским сотрудником, единственным, кто оставался рядом с ним от начала и до конца. Она улыбалась ему так же ласково и открыто, как улыбалась мне. Нужно ли было теперь, когда оставались считанные секунды до нашей встречи, ревновать ее к положительному во всех отношениях Рыбочкину, который наверняка не знал иных женщин, кроме своей жены? Для сомнений не было времени: каблучки стучали совсем рядом. Это незначительное воспоминание придало мне решимости.
Лариса открыла дверь и, не дожидаясь приветственных слов, приложила палец к губам. Она была чем-то встревожена, возбуждена и одета ярче, чем в предыдущий раз. Глаза блестели, пальцы нервно перекатывали сигарету.
Мы прошли в изолированную, светлую комнату, наиболее удаленную от той, где спал Павлик, сели на диван. Я попытался снять крышку с объектива. Крышка снималась туго – специально, чтобы не потерять. Я ведь никогда не носил аппарат в футляре.
Рука дрожала, пальцы не слушались. Я знал, что не смогу поймать ее лицо в видоискатель. Она печально смотрела на меня и, кажется, все понимала.
В отчаянии я схватил ее за руки. Не отведя рук, она все с тем же печальным выражением покорности продолжала смотреть мне прямо в глаза. Будто мы оба терпели крушение и уже ничто не могло нас спасти. Мы поднялись с дивана одновременно. Я притянул ее к себе и поцеловал в щеку. Потом в губы. Она слабо ответила. Я тыкался спекшимися губами в ее лицо, все сильнее прижимая к себе. Она слабо вскрикнула. Я забыл снять фотоаппарат с груди и сделал ей больно. Досадливо сдернул ремешок с шеи.
Лариса стояла все так же недвижно, но теперь ее глаза были опущены.
Я приблизился, стал расстегивать на ней кофточку. Не могу вспомнить, сколько длилось это безумие.
Внезапно она отстранилась, рухнула на диван, уронила голову. Длинные рыжие волосы, рассыпавшись, закрыли лицо. Она сидела, не шелохнувшись, не дыша, словно сраженная молнией. Я испуганно взял ее за плечи, повернул к себе, увидел мокрое от слез лицо, размазавшуюся по щекам тушь и залепетал что-то бессвязное. Казалось, она не слушала и стала вдруг так далека, что мне сделалось страшно.
Поднявшись, Лариса торопливо вышла из комнаты, но вскоре вернулась. Никакого беспорядка в одежде, и только глаза, особенно правый, блестели сильнее, чем прежде. Спросила, как ни в чем не бывало:
– Ну что?
Достала новую сигарету из пачки. Я зажег спичку. Рука не дрожала. Все было пусто внутри.
– Прости меня.
Она подавилась дымом, закашлялась.
– Думала, это меня спасет, защитит. Не получилось. – Она жестом предупредила мое движение, устремленное к ней. – Ну и хорошо. Для нас двоих лучше. Даже отомстить не могу, – сказала она тихо, будто была одна в комнате, и я заметил горькие складки в уголках ее губ.
– За ту девицу, что пришла тогда с нами?
– И за нее тоже. Ох, как много их, этих девиц.
Она продолжала смотреть в точку перед собой, отвела волосы со лба, и некоторое время мы просидели молча. Нужно было встать и уйти, но вместо этого мне взбрело в голову сказать:
– Значит, я не нравлюсь тебе.
– Разве в этом дело! – она загородила лицо, как бы для того только, чтобы скрыть смущенную улыбку.
– Будь у меня такая жена, я бы носил ее на руках.
– Ты женат?
– Разошелся.
– Скоро Павлик проснется. Ты правда будешь его снимать?
Сколько раз приходил я потом в их дом со своей старенькой «лейкой»! Снимал Павлика, ее, их вдвоем. С ничем не объяснимым упорством и постоянством приходил, снимал, уходил. Павлик-крошка. Павлик-мальчик. Павлик-школьник. Безуспешно добивался ее несколько лет. Потом смирился, однако снимать приходил по-прежнему – раз или два в году.
То, чего я так поначалу боялся, случилось: мы стали друзьями. Она поверяла мне свои горести, жаловалась, советовалась. По-прежнему любила Базанова, а он по-прежнему ей изменял.
Как-то разоткровенничалась:
– Знаешь, Алик, иногда бывают такие плохие дни, когда очень хочется влюбиться, потерять голову. Но не получается. Меня хватает на полчаса. Все хорошо, сидим, разговариваем, а потом вдруг – фьють! – и он, мой собеседник, становится таким маленьким, как если бинокль перевернуть. И что-то он там говорит, старается, а мне уже невыносимо скучно. Не слышу, не слушаю. С Витей никогда не бывает такого. Можем вместе пробыть неразлучно день, месяц, десять лет…
С годами она совсем не менялась: все такая же юная, красивая, стройная. Даже когда у них родился второй ребенок – девочка.
Я очень жалел Ларису. Любовь перешла в жалость. Ведь должна же она во что-то переходить.
На мое категорическое: «Он не имеет права так мучить тебя» – она однажды ответила: «Я счастлива с ним».
Их невозможно было понять. Ненормальные или сделанные из какого-то особого теста люди.
Если Лариса заболевала, он сходил с ума, ездил на рынок, покупал цветы, стоял в очередях, доставал какие-то экзотические лекарства. Когда выздоравливала – заводил очередную интрижку. Или Базанова просто не хватало на постоянную, большую любовь, какая выпала на его долю? Эта любовь требовала от него невозможного – гораздо больше, чем он был в состоянии ей дать. Или, пытаясь ослабить груз счастья, он так же спасался, движимый инстинктом самосохранения, как попробовала однажды спастись Лариса, предприняв неудачную попытку изменить мужу?
Волею обстоятельств Базанов весь оказался в деле, в своих научных фантазиях и теориях, в обнаруженном им эффекте, в борьбе с Френовским, и чувство вины перед той, которую он «любил больше жизни», в силу какой-то парадоксальной логики, бросало этого неуемного человека в объятия случайных женщин. Будто он пытался избавиться от этого чувства, усугубляя его. Вполне возможно, что, не начнись истощающая последние силы, бессмысленная, многолетняя война с Френовским, Виктор не припадал бы с бездумной поспешностью к таким более чем сомнительным в целебном отношении источникам.
По существу, он был очень цельным человеком, постоянным в своих увлечениях. Просто ему слишком повезло с женой, работой, с победой над сильным противником, с талантом, дарованным судьбой. Слишком много всего, достойного его недюжинных сил, встретилось на его пути, и он не смог, не имел возможности сделать разумный выбор. Его не хватило на все.
V
От красного света устают, потом начинают болеть глаза. В ванной комнате душно и жарко. Груды мокрых обрезков – пробных отпечатков. Когда переваливает за полночь, то особенно раздражает это шлепанье мокрого о мокрое, бумаги о бумагу. За четыре часа раковина обросла фотографической тиной, какими-то отвратительными существами полуживотного происхождения. Чередование черного и белого усиливает ощущение грязи, кладбища, сплошь состоящего из фотофрагментов. Человеческие лица, деревья, дома, застолья, чьи-то улыбки, наклоны корпуса, уши, глаза, куски глины, мрамора, чего-то неясного, размытого, тревожащего своей непонятностью, неохватностью.
Три пленки целиком посвящены теме: Базанов – Капустин – мастерская Капустина. Известный скульптор Капустин – известный ученый Базанов. Может быть, даже великий. Скорее всего, так и есть, хотя «великий» – слишком уж подозрительное слово в отношении сверстника, которого знаешь много лет и видел, что называется, в разных видах. Голое, фальшивое, ненаполненное слово, задавленное осыпями бытовых мелочей, раздражающих частностей. Завалы пустой породы погребают для современников того единственного, может быть, человека, которого, не жалея сил и средств, будут откапывать гуманисты грядущих веков, возможно, также не успевающие за суетой текущих дел обратить свой взор на тех, кто живет рядом. Да и кто подскажет, на кого именно следует его обратить? Полную ясность вносят итоги, а их так долго приходится ждать. Вот и оказывается: то рано еще, то слишком поздно.
У нас в институте ни среди старых, ни среди молодых не было, да и до сих пор нет человека, который обладал бы творческим потенциалом, соизмеримым с потенциалом Базанова. С кем-то он перекидывался парой слов, вместе ходил в столовую, обсуждал институтские новости. Были добросовестные, способные, даже по-своему талантливые, любящие его и любимые им сотрудники. Был, наконец, Френовский – достойный противник. И ни одного достойного друга, соратника – никого, кто помог бы разрешить долгие сомнения, связанные с мучительными исканиями, кто согрел бы, поддержал.








