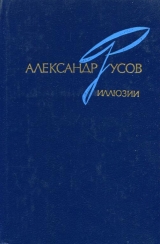
Текст книги "Иллюзии. 1968—1978"
Автор книги: Александр Русов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 26 страниц)
– Есть предложение, – сказала Верочка, – поехать ко мне в гостиницу. У меня отдельный номер. Так получилось, что…
Она еще долго объясняла, почему так получилось, жеманничала, строила из себя скромницу, хотя я с первого взгляда ее раскусил, и зря она только старалась.
– В гостиницу! – ликовал Базанов.
Отпустив такси, мы устремились в ГУМ. Базанов покупал вино, фрукты, шоколад, какую-то рыбу, консервы – широко, по-купечески много, с базановским размахом. Верочка сдерживала его, хватала за рукав, довольно хихикала. Чем дальше, тем меньше она мне нравилась. Оставалось лишь удивляться базановскому энтузиазму, даже с учетом того, что они вместе учились в школе и более двадцати лет не виделись. Виктор явно был не в себе. Как пьяный, хотя мы не успели выпить ни капли. Словно вздумал переиграть проигранную игру, наверстать упущенное.
Не составляло труда предсказать последствия нынешней его веселости. Для автора «термодинамической химии», эстета, восхищающегося монотонной восточной музыкой и древнерусской архитектурой, завтрашнее похмелье должно стать невыносимым, горьким, постыдным, тогда как неразборчивому, всеядному, обладающему луженым желудком, слоновьей кожей и бычьей шеей Базанову, которого мне неоднократно приходилось видеть и довольно хорошо знать, достаточно пятиминутного душа, чтобы забыть обо всем.
В памяти, как заклинание, звучало ранее им сказанное:
– Нам всем не хватает культуры.
И дальше:
– Я не говорю: образования. Скорее – способности к восприятию нового, тяги к знанию, не сулящей прямой выгоды, к достоинству и простой человеческой порядочности. Это и есть истинная культура. Она, Алик, закрепляется памятью поколений и даже передается по наследству! Побеседуй с иным ветхозаветным старцем. Откуда глубина, точность, необычность суждений? Такого ни один университет не даст. Что ни говори, в одном Капустин прав: культуру не отделишь от естественного чувства истории, от устойчивого ощущения времени. Иначе человек над собой не властен. Вырванный из исторической непрерывности, он не может ни быть, ни стать культурным. Нам остается рассчитывать только на будущее. И путь один – работать на него. Осознать это как долг и необходимость, ощутить как живую потребность. Лишь в этом случае из зерна что-то вырастет.
…Нас закрутила, завертела толпа. Базанову понадобились цветы, много цветов для Верочки Касандровой-Брыкиной, и уже на другом такси мы носились по городу до тех пор, пока профессорское желание не было удовлетворено. Потом поехали в гостиницу.
Помню: женщина с огромным букетом цветов. Мы с Базановым идем следом по коридору. И ни швейцара, ни портье, вообще ни одной живой души, словно здесь никто не жил.
Что за гостиница? В каком районе мы оказались? Родившись и прожив в Москве сорок лет, я почти не знаю ее, только несколько улиц, где когда-то стоял наш дом, где живу теперь и работаю. Этот необозримо разросшийся на наших глазах город-гигант, непостижимое множество непонятно как и зачем слепленных друг с другом городов мне так и не удалось узнать и теперь уж, наверно, никогда не удастся, тем более что с годами потребность в новых впечатлениях ослабевает.
Мы вошли в просторный, дорогой, с претензией обставленный номер. Он так соответствовал духу временной его хозяйки и той охапке цветов, которой были заняты теперь ее руки, что я невольно улыбнулся и принялся включать весь имеющийся свет.
– Ну как, – интересовался Базанов, – хватит тебе?
Света было достаточно.
Вера разбирала провизию, извлеченную из наших портфелей, ставила в воду цветы, Базанов открывал вино, а я разгуливал по комнате, приподнимал и опускал козырек настольной лампы, передвигал ее с места на место, пытался свинтить абажур с торшера, словом, готовился к съемке.
И вот они сидят рядышком на зеленом диванчике – этакой весенней лужайке – мальчик Базанов и девочка Вера Касандрова. Я ловлю видоискателем их повзрослевшие, обработанные временем лица: благородные очертания базановского лица, которое на фотографии непременно получится одутловатым и простоватым (совсем не таким, каким я вижу его теперь), и раскрашенное, пустенькое личико Верочки, которую фотография заметно улучшит, сделает строже и выразительнее. Я приближаю к ним аппарат, навожу на резкость с помощью допотопного, приставного дальномера: пусть в объектив попадут только их лица. Потом сниму так, чтобы в кадре поместились подаренные Базановым цветы, вино, шоколад, фрукты. Все это создаст некое обрамление – вроде тех рамок с виньетками и стандартно-трогательными надписями вроде: «Люби и помни», которые в огромном количестве изготавливали предприимчивые фотографы сразу после войны, когда мы учились в начальных классах. Цветы, фрукты, губы Верочки и порозовевшие от нескольких рюмок спиртного щеки Базанова вполне соответствовали оптимистическому духу фотографических портретов ушедших, незабываемых лет. (Позже мной не раз овладевало искушение раскрасить несколько базановских фотографий специально для тех, кто считал его счастливчиком, баловнем судьбы, победителем в духе нового времени.)
Кажется, я много выпил в тот вечер, «лейка» дрожала в руках, я никак не мог поймать в кадр лицо Верочки, навести на резкость.
Разморенные вином, Базанов и Верочка любезничали, пожирали друг друга глазами, готовы были, кажется, с ногами залезть на диван или улечься в постель и фотографа заодно прихватить с собой, поскольку времени до отхода поезда оставалось все меньше.
Кружилась голова, звенело в ушах. Я сказал, что мне пора. Базанов даже не обернулся, как будто меня уже не было в комнате.
Я накинул плащ, взял свой портфель, пробормотал «пока» – и отправился в путешествие по запутанным коридорам, которые вывели меня к узкой, полутемной лестнице. Не встретив ни души, я оказался в глухом колодце двора жилого дома, вышел через арку на улицу, увидел свободное такси, остановил его, сел и назвал шоферу адрес.
Во всей этой истории для меня осталось загадочным одно обстоятельство, представляющее, очевидно, только специальный интерес. Из тридцати или тридцати двух кадров, снятых в номере гостиницы, не вышло ни одного. Мало того. Пленка, за исключением нескольких снимков, которые я сделал на следующий день, после проявления оказалась однородной, бесцветной, прозрачной. Может, забыл снять крышку? Такого еще не случалось. И ведь не сразу же я напился. А Вера с Виктором? Тоже не заметили, что улыбаются в закрытый стальной полированной крышкой объектив? Наверно, «лейка» уже тогда начала барахлить. Возможно, по ошибке мне продали в магазине пленку низкой чувствительности или вообще бракованную. Но где, в таком случае, тени, следы, линии, обозначающие границы кадра? Наконец, не получилось бы нескольких сделанных на следующий день последних снимков.
Так или иначе пленка оказалась пуста. Ни такси, ни магазинов, ни гостиничного номера, ни женщины по имени Вера, ни таинственных коридоров, ни дороги домой – будто ничего этого не было, включая тот день, пятницу, который так быстро, почти незаметно, перешел в утро следующего дня.
XXXIII
– Ну и хорош же ты был вчера, – сказала Светлана.
Я лежал с открытыми глазами, пытаясь сообразить, что со мной, где я, какое нынче число и день недели. Сквозь неплотно прикрытые шторы виднелся кусочек чистого неба.
– Извини, – сказал я, виновато вздохнув. – Перебрал вчера.
– Перебрал? Вечером ты уверял, что задержался на работе, смертельно устал, и у тебя был такой вид, будто черти возили на тебе кирпичи.
– Это уж точно!
Вспомнил: сегодня суббота, я дома, все хорошо. Голова была ясная, легкая. Очень хотелось есть.
– Добрался до постели и сразу уснул.
Светлана дурашливо завертела головой. Ее волосы рассыпались по подушке. Я поцеловал ее.
– Погоди, – шепнула она, коснувшись горячей рукой моего плеча.
Когда она вернулась, я окончательно проснулся.
…Был полный, ослепительно яркий день. Даже не верилось, что на дворе поздняя осень. Будто природа напрягла все силы, стараясь выглядеть сегодня красивой и молодой, чтобы как следует, по-праздничному проститься с летним теплом.
– Светочка! Хочу есть! Если не накормишь сию же секунду, съем тебя.
– Еще раз? – засмеялась она. – Вчера заснул, как сурок…
Я подошел к окну и раздвинул шторы.
– Господи, какое солнце! После завтрака пойдем гулять. Хорошо? До самого вечера, пока не собьемся с ног.
– Давай перенесем на завтра, – попросила она.
– Почему? Неизвестно еще, какая будет погода.
– Тогда после обеда. Мне нужно уйти.
– А вернешься когда?
– Часа через три.
– Ладно. Я тоже уйду.
– Куда?
– Неважно.
– Дурачок, я к парикмахерше.
– Обязательно сегодня?
– Понимаешь, договорилась.
– Но завтра, учти, при любой погоде.
– Обещаю.
Это было излюбленное наше занятие – бродить по бульварам, по старым московским улочкам. Ни Светлану, ни меня не тянуло в лес, за город, в духоту электричек, в безалаберное бездорожье, которым перемежаются засиженные дачниками места. Нам было хорошо вдвоем именно в городе, где прошли наше детство и молодость, среди пешеходов, машин, домов, под этим небом, этими деревьями. С возрастом особенно остро чувствуешь прелесть того, к чему привык, полнее ощущаешь естественность существования там, где вырос. В то последнее счастливое утро я думал: добровольно покинуть родные места человек может лишь в случае, если жизнь его прошла в глухом одиночестве, среди непонимания, зависти, недоброжелательства. Если маленькая его родина оказалась не доброй матерью, а злой мачехой. Прав Базанов. Какое ничтожное, третьестепенное значение в сравнении с главным имеют городские удобства и неудобства деревенские, свежий воздух полей и загрязненный – городских магистралей.
Из дома вышли вместе. На груди болталась «лейка», в карман плаща я сунул чистую пленку с кассетой. Светлана села в автобус, а я пошел пешком.
Субботняя толчея подхватила и понесла меня к станции метро. Люди не спеша обходили близлежащие молочные, булочные, продовольственные, винные и «диеты». Завтра, в воскресенье, город как будто вымрет, особенно центральные улицы, где небольшие старые дома и много магазинов. Тротуары очистятся, как от листьев деревья, и город обнажит, обнаружит лишенное суетности и мельтешения истинное свое лицо.
Солнце слабо грело, но спина чувствовала тепло. От метро до базановского дома я тоже шел пешком, с некоторых пор разлюбив не только дальние путешествия, но и всякого рода транспорт. Меня стесняют и подавляют железные коробки, в которые я должен залезть, чтобы с неестественно большой скоростью перенестись из одного места в другое. Куда спешить? Что дает монотонное мелькание за окном?
Лошадь громко цокала копытами по асфальтированной мостовой. Возница в надвинутой на уши кепке с неподвижно застывшим кнутом в руках время от времени хлопал вожжами по крупу лошади, и она чуть прибавляла шаг. Цоканье копыт, телега с древесными опилками на бесшумном резиновом ходу, возница, явившийся из канувших в Лету времен, – все было так необычно, что я сделал несколько снимков этого, возможно, последнего в Москве реликтового транспорта.
Телега двигалась по теневой стороне улицы. Я снимал с выдержкой одна пятисотая и диафрагмой двадцать два. Возница даже не взглянул в мою сторону. Он ехал по дороге прошлого, когда меня просто не существовало.
Входя в подъезд базановского дома, я все еще слышал удаляющийся стук лошадиных копыт. В подъезде пахло кошками, затхлой штукатуркой и ржавым железом. Наш с Базановым ровесник, его дом, казался не по годам ветхим, неопрятным, заброшенным. Лифт был занят: горела красная лампочка. Я прислушивался к затихающему стуку копыт.
Где-то под крышей ровно гудел мотор. Лифт трогался, проходил этаж или два, останавливался, щелкал, а красная лампочка продолжала гореть. То ли баловались дети, то ли шел ремонт. Я постучал ладонью по железной двери. Раскатистый звук полетел наверх, по клети, обтянутой металлической сеткой, как наполненный легким газом шар. На какое-то время лифт замер. Сверху не доносилось ни звука. Я ждал. Потом лифт снова тронулся, остановился, кто-то вышел из него, не закрыв двери, вернулся и переехал на следующий этаж.
Ждать бесполезно. Нужно идти пешком.
Снопы солнечного света, рассеченные переплетами окон, падали в лестничный пролет, рассеивались металлической сеткой шахты и зависали над тем обширным пространством, которое отделяло лифт от перил лестницы. Потолки в доме были высокие, путь с этажа на этаж – длинным, не то что в новых домах. Далеко внизу, как в пропасти, виднелось дно вымощенного плиткой лестничного колодца.
В это время из-под левой моей руки словно бы выпорхнула огромная птица. Свет на мгновение померк, я инстинктивно дернулся в сторону от перил, схватил аппарат, точно предохраняя его от удара, и по инерции пробежал несколько ступенек.
От восстановившегося светового потока из окна меня отделяла клеть шахты, в которой вдруг что-то стукнуло, точно кабина дошла до предела и ударилась в крышу дома. Или где-то захлопнулась дверь от сквозняка. Я не понял, откуда звук. Взглянул на нижнее окно, решив, что голубь залетел в подъезд и теперь бьется о стекло: увеличенная расстоянием тень могла занять половину пролета.
Окно было пыльным, пустым и безжизненным.
Мотор продолжал тихо гудеть на холостом ходу. Красная лампочка горела на всех этажах.
Открыла Лариса. Взвинченная, возбужденная, растерянная. Павлик «куда-то закатился с самого утра», дочку она вчера отвезла к бабушке, а Виктор скоро вернется, он в магазин пошел.
– Вот, поснимать вас хочу, – показал я на «лейку» и заметил, что объектив не закрыт.
– Раздевайся.
Я скинул ремешок аппарата с шеи, взглянул на диск с делениями, показывающими число отснятых кадров, тронул ручку перемотки и вдруг обнаружил: затвор не взведен. Старею, – подумал. – Даже на привычки уже рассчитывать не приходится. Ранний склероз.
– Раздевайся, что же ты?
Я с чувством облегчения нащупал в кармане крышку от объектива (слава богу, хоть не потерял), повесил плащ, достал новую пленку и переложил ее в карман пиджака.
Лариса металась по комнате, открывала какие-то дверцы, переставляла вещи, будто у нее было срочное дело, но она забыла, какое именно.
Я принялся перематывать пленку.
– Алик, – бросилась она ко мне. – Посоветуй, что делать. Я измучилась, запуталась, у меня нет больше сил.
– Что случилось?
– Вчера он опять пропадал неизвестно где. У меня как сердце чувствовало. Ты знаешь, я всегда прощала ему, а тут нашло: нет, не могу больше. Тоже ведь не железная. Сколько лет, Алик, и все одно и то же. Отвезла Людочку к Елене Викторовне, в десять ушла. Мне позвонили, пригласили – в общем, неважно, – ушла. Пусть, думала, он тоже хоть раз почувствует. Домой вернулась ночью, а его нет. Где он? Что с ним? Извелась вся. Пришел под утро. Я накричала на него. Он себя губит, у него сердце слабое. Алик, ему нельзя вести такую жизнь. И меня в гроб сводит. Сказала, что больше терпеть не намерена, что есть человек, который давно меня любит. Уйду к нему. Если, сказала, ты намерен губить себя, то я не хочу в сорок стать древней старухой. Могла бы уже сегодня не возвращаться. Пойми, Алик, уже все испробовала. Он человеческих слов не понимает. Как еще можно? Думала: сейчас ударит меня, хотя за всю жизнь пальцем не тронул. Нет. Только сказал: «Поступай, как знаешь», – и ушел спать. Сегодня утром встает как ни в чем не бывало. «Пойду в магазин». – «Иди». Ушел вот. Что теперь будет? Он не любит меня, Алик. Все кончено.
Она зарыдала, закрыла лицо руками.
– Напрасно ты так, – пытался я ее успокоить. – Мы вместе были у Капустина. Засиделись.
В дверь позвонили.
– Это он! – вскрикнула она, поспешно вытерла слезы и пошла открывать, а я вынул из аппарата отснятую пленку, стал заряжать новую.
Щелкнул замок. В прихожей послышались голоса, будто явилась большая компания. Потом я услышал истошный, монотонный, нечеловеческий крик. Даже не понял сразу, что это кричит Лариса. Бросился в прихожую и увидел ее, вырывающуюся из рук Романовского, еще нескольких незнакомых людей, мужчин и женщин.
– Убили. Его убили, – заплетающимся языком, как помешанный, повторял Романовский. – Там, – хватал он меня за рукав, – там Виктор Алексеевич, – и тыкал указательным пальцем себе под ноги.
Когда спустились вниз, то увидели Виктора. Он лежал на каменном полу у самого лифта лицом вниз. Мы с Романовским попытались перевернуть его. Он был еще теплым, но таким тяжелым и податливым, будто ему переломало все кости. Кто-то принес простыню и накрыл тело.
XXXIV
Мы прошли потом всю лестницу сверху донизу, чтобы самим убедиться, мог ли это быть просто несчастный случай. На площадке шестого этажа перильца оказались чуть ниже. Если бы Виктору стало вдруг плохо, он мог навалиться на перила, перевеситься и упасть вниз. На остальных этажах – нет, а здесь – пожалуй, если принять во внимание его рост. Обмороки часто случались с ним в последнее время. Очевидно, он все-таки находился тогда без сознания, иначе, падая с большой высоты, закричал бы. Безусловный рефлекс. Так говорил его лечащий врач.
Крика никто не слышал.
Лифт. Осталось неясным, имел ли какое-нибудь отношение ко всему этому лифт. Первой увидела Виктора соседка с седьмого этажа. Она хотела спуститься вниз, но лифт не работал, и она пошла пешком. На шестом этаже обнаружила открытую дверь шахты. Подумала, кто-то забыл закрыть. Спустилась в лифте и тут, на полу, увидела его. Ей показалось сначала, что пьяный, но потом увидела кровь, поднялась наверх, сообщила Романовскому, подняла тревогу.
Могло быть так. Базанов спускался вниз, почувствовал себя плохо, захотел вернуться домой. Случайно нажал кнопку шестого этажа. Вышел, потерял сознание, упал на перила. Я сам слышал: лифт останавливался несколько раз.
Как еще? Он мог подняться до своего этажа. Почувствовал себя лучше, решил, что ничего страшного. Снова вошел в лифт. По дороге опять ему стало плохо. Нажал «стоп», а затем, ошибочно, – кнопку шестого этажа.
– На шестом легче перелезть через перила, – твердил Романовский.
То, что он не оставил никаких распоряжений, никакой записки, даже не привел в порядок свои дела, – все это свидетельствовало в пользу несчастного случая. Официальное заключение было: несчастный случай.
Тогда же я заболел. Буквально на следующий день. Попал в больницу. На работе решили, что Базанов был моим близким другом, отсюда – нервное расстройство, но это, скорее всего, просто совпадение. Всю субботу я чувствовал себя вполне сносно.
Когда месяца два спустя проявил ту самую пленку, то увидел, что получилось четыре кадра – три темных, один светлый. Темные кадры оказались снимками лошадиной повозки. Чувствительность пленки была, пожалуй, слишком высока. Ведь я снимал с минимальной выдержкой и при самой маленькой диафрагме.
Светлый негатив сильно отличался от остальных. Что-то неясное, смазанное. Четвертый снимок лошадиной повозки? Вряд ли. Во-первых, при такой выдержке получить изображение не в фокусе почти невозможно, а во-вторых, как объяснить то, что при одинаковом освещении снимки такие разные? После лошадиной повозки я ничего не снимал. Если бы не границы кадра – хорошо выявленный прямоугольник, – естественно было предположить, что это засвеченный конец пленки. «Прогоняя» все негативы, так или иначе связанные с Базановым, я сделал с него пробный отпечаток.
На маленьком, сильно засвеченном клочке фотобумаги опять-таки ничего нельзя было разобрать. Я бросил его сначала на край раковины, в общую кучу, потом поднес к свету и принялся разглядывать. Нечто бесформенное в чем-то бесплотном. Снимок из космоса. Земля на фоне бескрайнего неба.
Еще один отпечаток я сделал с меньшей выдержкой. Земля сдвинулась. Кусок бумаги лег на иной фрагмент снимка. Светлая часть – небо – казалась уже неоднородной: стали заметны сгущения, тени, намеки на силуэты размытых предметов. Стоило пожертвовать половиной большого листа бумаги, чтобы захватить основную часть кадра.
Когда в ванночке с проявителем начали проступать контуры снимка, я подумал, что это старая фотография капустинского «Икара». По мере проявления все более различимыми становились очертания человеческого лица и тела в полете и пупырчатая структура капелек глины.
Не оставалось сомнений: это была сильно увеличенная голова «Икара», которого давным-давно я снимал на выставке произведений молодых скульпторов. Закрытые глаза, плотно сжатые губы, устремленность в небо. Только вдруг угаданные на первом плане перила лестницы заставили меня вздрогнуть и вспомнить все подробности того мгновения, когда черная птица вылетела из-под моей руки. Я инстинктивно схватился за аппарат, отпрыгнул в сторону, услышал далекий, глухой звук и посмотрел на нижнее окно, не бьется ли о стекло случайно залетевший в подъезд голубь.
Снова и снова вижу это лицо, летящее над землей. Оно всякий раз неожиданно возникает передо мной, и тогда начинает щекотать пятки от ощущения высоты, легкости и полета. Базанов беззвучно летит над землей, разрывая паутину лет, преодолевая необозримые пространства, устремляясь к какой-то неведомой цели.
Я никому не показывал этой фотографии.
1978
notes
Примечания
1
Уважаемый д-р А. А. Березкин:
Буду весьма признателен, если Вы пришлете мне оттиск Вашей статьи «Биогенетические модельные реакции».
Заранее благодарю Вас.
Искренне Ваш Г. Мак-Колл, Исследовательский институт Покера, Нью-Йорк, США (англ.).
2
Татик – по-армянски «бабушка».








