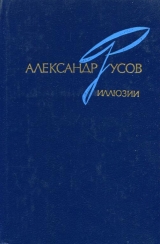
Текст книги "Иллюзии. 1968—1978"
Автор книги: Александр Русов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 26 страниц)
Вдруг телефонный звонок:
– Павлик заболел. Не отпускает ни на шаг, даже обед не дает приготовить. Просит рассказать о богах и гигантах, спрашивает, когда с дядей Аликом снова пойдем т у д а.
Я съездил в музей, сфотографировал слепки и принес Павлику фотографии. Он был счастлив. Даже положил их к себе перед сном под подушку, случайно смял, рыдал от горя, так что пришлось напечатать новые.
Позже отец привез ему из Берлина набор открыток, но именно мои снимки и поныне стоят за стеклами его книжных полок, хотя немецкие фотографии сделаны с подлинников и без искажения пропорций (я ведь снимал снизу вверх).
Настороженные отношения между Базановым и Январевым все-таки бросили, очевидно, незримую тень на мимолетную близость их жен, ибо в течение последующих лет я ничего не слышал от Ларисы ни о Ирочке Январевой, ни о ее маме.
Два года назад Ирочка вновь объявилась. Они с Павликом случайно встретились на улице, узнали друг друга, обрадовались, и у них сразу началось то, что обычно начинается в таких случаях.
Как-то в моем присутствии Павел с гордостью показывал фотографии слепков совсем уже взрослой Ирочке, которую он называл почему-то Пакс. Я не сразу догадался, откуда взялось это придуманное им для нее второе имя, но потом сообразил: из греческой мифологии, – должно быть, не без влияния незапланированных уроков, весьма неумело преподанных маленькому Павлику в последнем зале слепков на втором этаже Музея изобразительных искусств.
Еще больше взволновало и растрогало то, что Павлик решил повести Ирочку т у д а, чтобы показать богов и гигантов, которых давным-давно показывал ему я. Разумеется, у них был бурный роман, и Лариса делилась со мной своими опасениями.
– Ну что, Павлик, дорогу найдешь? – спросил я.
– Я там каждый месяц бываю.
Не удалось подколоть.
– Завтра пойдем, сразу после школы.
– А уроки?
Лариса бросает беглый взгляд на меня, потом на Павлика, Ирочку.
– Мы уже часть на послезавтра сделали.
Лариса всматривается в их возбужденные лица, невидящие глаза и понимает, что в комнате Павлика они занимались совсем не уроками, но и запретить идти в музей, если у ребят возникло такое желание, она не хочет.
– Разве кто-нибудь из вас нуждается в помощи? – спрашивает осторожно.
– При чем тут это? – горячится Павлик. – Просто вдвоем уроки делать быстрее.
– Понятно, – говорит Лариса и останавливает пристальный взгляд на Ирочке. Та вспыхивает. – Только не морочь мне голову, Павел. И мы были молодыми. Гуляли, ходили в музеи. А уроки делали отдельно. У дяди Алика спроси.
– Да, – бормочу я, – мама права.
– В музей мы с Пакс все равно пойдем, – твердит свое Павлик.
Узнаю Базанова, его напор, его горячую кровь.
– Конечно. Разве кто против?
– Если меня отпустят, – скромно замечает Ирочка.
– Ничего, я позвоню твоей маме.
Лариса с удовольствием играет роль строгой, но справедливой матери взрослого сына, хотя мне она никогда не переставала казаться девушкой, постоянно нуждающейся в защите и родительском руководстве.
– Представляете, дядя Алик, Пакс не видела алтаря Зевса. И еще надо будет повести ее к поздним французам, – озабоченно сообщает Павлик, словно затем только, чтобы подчеркнуть: мы с ним – ветераны, завсегдатаи музея, которым знаком каждый его уголок.
– Ей не понравится алтарь Зевса.
– Почему вы так думаете? – бледное лицо Ирочки обиженно вытягивается.
– Потому что ты Пакс, – смеется Павлик. – Верно, дядя Алик?
– А ведь Пакс, если не ошибаюсь, – дочь громовержца, – подыгрываю ему я.
– Не слушай их, Ирочка, – говорит Лариса. – Мужчины слишком развоображались. От всех этих битв, жестокостей становится холодно и неуютно жить на земле.
– Родители точно сговорились. Отец тоже: жить не хочется. В Пергамском музее, говорит, думал о фашизме. Представляете, дядя Алик? Быть в Пергамском музее – и думать такое. Он мне открытки оттуда привез. Вот. Селена на лошади. У нас ее нет. А это Никс. Смотрите!
Теперь мне уже казалось, что воспаленные губы, возбужденное лицо и сияющие глаза Павла – не от совместного с Ирочкой приготовления уроков, но от волнения, связанного с воспоминаниями о большом Пергамском алтаре. Волнения, которое тотчас передалось мне.
Я часто потом размышлял над этими его словами. Такому сильному, мужественному человеку, как Базанов, прирожденному борцу и победителю, темы войны, борьбы, насилия и победы казались слишком мрачными, они угнетали Виктора, в то время как нам, людям сугубо домашним и мирным, воинственные сюжеты скульптур алтаря Зевса давали богатую пищу для сердца, ума и воображения.
Несмотря на внешнее сходство, Павлик и его отец представляли собой полную противоположность друг другу. Виктор был человеком действия, гигантом, способным вынести на своих плечах груз жестокой многолетней борьбы, а его сын – начитанным, хрупким мальчиком, похожим на богиню ночи Никс. Его уважение к отцу окрашивалось едва приметным чувством обиды – вроде той, какую испытывает маленький обитатель пионерского лагеря, дождавшийся приезда родителей. Он страстно мечтал об этом дне, готовился к нему, собирал цветы, перечитывал родительские письма, и вот наконец они приехали. Завидев их издали, еще за железной оградой лагерной территории, он бросается со всех ног навстречу, повисает на шее матери, отца, не знает, куда девать себя от переполнившей его радости, но после первых же объятий и поцелуев выясняется, что несколько его мелких просьб не выполнено, забыто, не учтено. И вдруг становится совершенно ясно, что письма его читались невнимательно, родители собирались в спешке, что все эти фрукты, книжки, печенье, конфеты покупались наспех, после работы, в последнюю минуту, между прочим. Рассеянный взгляд отца. Поглядывание на часы. И хочется все бросить, расплакаться, убежать…
– Прекрасно, что ты покажешь Ире музей, – сказала Лариса. – Но лучше бы в воскресенье.
– В воскресенье там народу полно. Сплошные экскурсии.
Давно ли Лариса, маленький Павлик и я вот так же всерьез и долго обсуждали, когда пойти в музей? Смутные времена, институтские битвы – все это тоже было вчера, во всяком случае, совсем рядом, но только теперь я чувствую себя как бы отделенным от того времени звуконепроницаемой, пуленепробиваемой перегородкой. Все еще вижу людей, которые ходят, разговаривают, кричат, спорят, но оттуда не доносится ни звука. Там у меня не осталось ни друзей, ни врагов, и мои воспоминания ничем не грозят: ни счастьем, ни горем. Жизнь по эту сторону перегородки может и вовсе не сообщаться со старой жизнью. Стоит повернуться спиной – и ее словно не существует. А в новой моей, радостно полупустой жизни, как в еще не захламленной квартире, сияет другой свет, здесь иной воздух, и человеческие голоса в ней звучат раскатисто и свежо.
Вместе с завершением работы по подготовке выставки я окончательно разделывался со своим прошлым, центр моей жизни перемещался во времени и пространстве (я чувствовал это прямо-таки физически!), и теперь она почти вся была сосредоточена в женщине, которую я любил, и в том существе, которому надлежало явиться на свет.
По негласному уговору так или иначе связанные с Виктором дела велись через Павлика. Лариса была еще слишком слаба, и никто из нас, ее друзей, не хотел причинять ей боль лишним напоминанием.
Базанова-младшего я предупредил о своем приходе по телефону. Лариса встретила меня без улыбки, но за последний год я успел привыкнуть к застывшему выражению ее лица, неподвижным глазам, чуть встрепанным, поседевшим наполовину волосам и медлительным, будто во сне, движениям. Память уже не связывала эту Ларису с той красавицей, из-за которой когда-то я сходил с ума.
Я обнял ее, поцеловал и почувствовал холодное прикосновение губ. Из своей комнаты вышел Павлик, мы пожали друг другу руки, а следом за Павликом из другой комнаты выбежало очаровательное кудрявое существо в белом кружевном платье – самая юная представительница базановского семейства. Она остановилась в нерешительности, не зная, как вести себя при постороннем. Старший брат погладил ее по головке:
– К нам дядя Алик пришел.
Павлик стал совсем взрослым. Окончив школу, он поступил в Московский университет на исторический факультет.
– Тебя можно поздравить?
– Спасибо.
– Только что за профессия для мужчины, – подшучивал я над ним. – Кому теперь нужны историки, Павлик? Да еще в таком количестве. Переходи на другой факультет, пока не поздно.
Я был рад за него. И за себя – самую малость. Мне хотелось, чтобы его профессиональная судьба сложилась счастливо, чтобы он нашел в себе достаточно сил и мудрости, а в окружающих – понимание, поддержку и стал настоящим историком, Геродотом нашего времени.
После традиционного чая мы с Павликом удалились в его комнату. Я достал из портфеля фотографии, которые брал у Ларисы для пересъемки, и выложил на письменный стол.
– Дядя Алик!
– Что, дорогой?
– Вы не могли бы дать мне все папины фотографии?
– Конечно.
– Я объясню. Один человек хочет написать книгу о папе. Ему нужны фотографии. Еще он просил дневники, записи, письма – все, что осталось. Обещал заплатить. Мне сейчас очень кстати.
– Вот как! Кто же это, если не секрет?
– Вы не знаете. Меня с ним познакомил Капустин. Он известный на Западе писатель. У нас не переводился. Пишет биографические романы. Папу, оказывается, хорошо знают за границей.
– Понятно, – сказал я, несколько ошарашенный.
– Дядя Алик, у меня большие неприятности.
– Что-нибудь случилось?
– Да. Если ничего не предпринять, то у Пакс будет ребенок.
– Что же вы намерены предпринять?
Павел в растерянности смотрел на меня.
– Пакс ведь тоже должна учиться.
– Мама знает?
– Нет.
– А ее?
– Тем более.
– Но при чем деньги? У нас это делается бесплатно. Скажи, ты любишь ее?
– Кажется, да.
– Если «кажется», значит, не любишь.
– Люблю. Просто неудачно выразился.
Тогда не делайте глупостей, – хотелось сказать ему. – Пройдет каких-нибудь двадцать лет, ваш сын или дочь вырастет, вы будете еще молодые, и он, ваш ребенок, будет молодым, и нет ничего на свете лучше этого. Своему сыну я бы сказал: бери Ирочку в наш дом. Если в тебе есть силы, талант, ребенок не помешает. Можешь иметь хоть десять детей. Талант преодолевает все. Все внешнее и то, что внутри тебя: лень, страх перед трудностями, отсутствие свободного времени, необходимость зарабатывать деньги. Но если окажешься слаб и немощен, тогда все у вас полетит кувырком в любом случае. Станешь жаловаться на судьбу, на раннюю женитьбу, на преждевременного ребенка, и свои неудачи постараешься свалить на них. Вы испепелите то прекрасное, что связывало вас, возненавидите друг друга. Кончится разрывом, разводом, безотцовщиной и одиночеством. И кто может наперед сказать, дорогой Павлик, каким человеком ты окажешься?
– Зачем тебе деньги?
– Я еще не знаю, что нас ждет.
– Ради бога, не драматизируй ситуацию. Тоже мне, бедные влюбленные. Сколько он обещал заплатить?
– Тысячу. Сказал, что может привезти на эти деньги все, что я захочу: магнитофон, дорогой проигрыватель, одежду.
– Неплохой бизнес. Ты намерен снять копии с отцовских бумаг?
– Не думал об этом.
– Маму предупредил?
– Да.
– Как относится она?
– Сказала, что я имею больше прав на отцовское наследство и могу поступать по своему усмотрению.
– Ты предупредил, что он иностранец?
– Дядя Алик, вы напрасно думаете плохо. Он не просит научные записи отца. Только личные. Вы считаете, раз иностранец – значит, обязательно шпион?
– Не говори ерунды.
– Он интересный человек, хочет написать историю жизни отца. Что плохого?
– Ничего. Только, боюсь, пожалеешь когда-нибудь. Возможно, это даже помешает тебе стать настоящим историком. Наступит время и придет неодолимое желание прикоснуться к истории своей семьи. Не праздное любопытство – такая же жизненная потребность, как в воде и свете. И ничем другим не сможешь ее утолить. Многие из нас изломали свою судьбу из-за отсутствия такой возможности. Перечитай Аксакова. Какую силу берет он от земли, на которой стоит. Поговори на эту тему с Капустиным.
– Аксаков – скучный писатель.
– Скучный? Замолчи. Есть вещи, о которых ты не имеешь права судить, дорогой Павлик. Не потому, что глупее, – пусть даже в тысячу раз умнее меня. Но ум молодости – особый ум. Ты поймешь это лет через двадцать.
– Вы хотите сказать, что я стану скучным моралистом? Возможно. Но что в этом хорошего? С некоторыми вещами я никогда не соглашусь.
– Насчет «никогда» сомневаюсь. Давай отложим этот разговор. Пока поверь на слово. Если можешь. Кажется, у тебя нет оснований сомневаться в моем добром отношении.
– Никаких. Так что вы посоветуете?
Вряд ли я имел право советовать Павлику. Тем более в подобной ситуации. Его реальная забота, насколько я понял, сводилась к тому, чтобы дать Ирочке легальную возможность исчезнуть из родительского дома на несколько дней – на то время, пока она будет в больнице. Конечно, мы могли бы вчетвером поехать, например, на базановскую дачу: Павлик, Ирочка и мы со Светланой. Для Январевых мое присутствие служило бы известной гарантией и основанием не беспокоиться за дочь.
Но вдруг им вздумается навестить нас? Или по другой причине выплывет потом наружу вся эта история? В каком положении я окажусь? Только, не дай бог, Ирочкины родители узнают о случившемся, явятся к Ларисе и обрушат на ее голову еще э т о.
– Позвони завтра вечером, хорошо? Сколько нужно денег?
– Ничего не нужно. – Щеки Павла покрылись красными пятнами. – Обещаю вам, дядя Алик, отцовские записи останутся у меня.
– Ты прав. Не следует спешить с такими вещами: сегодня за бесценок спускать то, чему уже завтра не будет цены.
– А что я ему скажу?
– Скажи, что передумал.
XX
Если заводские трудности вызывали в Базанове непреодолимое чувство страха, подобное тому, какое испытывал он в отношении школьного токарного станка ДИП-200, то деловые письма, сочинять которые он не любил и не умел, приводили его порой в бешенство – особенно после памятного визита в главк. Письма писал Рыбочкин, а Базанов визировал, не читая.
– Все равно бесполезно, – ворчал он, отшвыривая листок. И как бы между прочим справлялся: – Это о чем?
Рыбочкин коротко передавал суть письма, сочинял следующее, отвечал на очередное, составлял график работы сотрудников на овощебазе. Постепенно выполнение всех административных обязанностей в лаборатории легло на плечи Игоря. Базанов ездил за границу, Базанов болел, Базанов лечился, Базанов переживал творческий кризис, а Игорь вкалывал.
Но поначалу с присущим ему энтузиазмом профессор сам взялся «пробить» оборудование для новой лаборатории. Имевшееся годилось лишь для исследований, которые они, по существу, уже завершили, – для снятия верхнего слоя, сладкой пенки, получившей впоследствии название «эффекта Базанова». Дальше со старым оборудованием делать было нечего, поскольку открытия второй «термодинамической химии» не предвиделось. Заказывать приборы обычным путем значило ждать несколько лет (причем, скорее всего, безрезультатно). Нужно было не ждать, а брать, добывать, выгрызать зубами. Для этого имелись определенные, предусмотренные существующим порядком возможности.
Подготовив проект соответствующего письма, Базанов отдал его на визу Январеву, потом – заместителю директора. Заместитель директора потребовал визы начальника отдела снабжения. Начальник отдела снабжения не стал подписывать без визы руководителя группы контрольно-измерительных приборов. Потом начались замечания, исправления – в каждой инстанции свои, – и всякий раз проект письма неизменно возвращался к Базанову, который исправлял, дополнял, перепечатывал, вновь отдавал на визы.
Поскольку эта столь привычная для любого из нас деятельность доводила его до белого каления, он портил отношения с разными людьми, злился, шел напролом, упорствовал, усугубляя этим многие трудности. В результате тратил полтора месяца на то, что другой сделал бы в два дня. Кто-то уходил в отпуск, болел, и получить подпись без предыдущей визы оказывалось невозможно.
Полтора месяца! Базановскому возмущению не было предела. Советов он не слушал, кричал, кипел, свои неудачи объяснял нежеланием «лизать начальственные зады».
Наконец письмо ушло в главк для получения заключительной визы. Базанов несколько раз пытался навести справки по телефону, но безуспешно. Через несколько дней они вместе с Январевым поехали в главк. Кроме секретарши, почти уверенной в том, что неподписанное письмо вместе с замечаниями и вопросами руководства было на днях возвращено в институт, никто не знал о его судьбе. Розыски перенесли в институт, однако и там письма не нашли. Январев посоветовал Базанову заново написать обоснование и, не выпуская его из рук, собрать все необходимые подписи.
И вот с новым уже письмом Базанов явился к начальнику отдела материально-технического снабжения главка товарищу Удальцову, который первым должен был поставить на втором экземпляре подготовленного документа свою подпись. Товарищ оказался пожилым гражданином с гладким лицом и аккуратно подстриженными жесткими усиками. Оторвав руку от письменного стола, который был пуст, если не считать двух телефонов, перекидного календаря и шариковой ручки, торчащей из пластмассового сооружения, изображающего спутник Земли, и картинно вывернув ее ладонью вверх, товарищ Удальцов указал на один из стульев, придвинутых к длинному, покрытому зеленым сукном столу заседаний, сам же чуть боком устроился в кресле.
Пока Базанов излагал суть дела, товарищ Удальцов разглядывал посетителя, точно некое экзотическое существо, чудом объявившееся в этих краях. Он сразу понял, что речь идет о столь же мелком, сколь и хлопотливом деле, и потому беззвучно барабанил пальцами по столу, словно бы подгонял мысль рассказчика, но время от времени его рука вдруг успокаивалась, настороженно замирала, и тогда он с не меньшим любопытством начинал разглядывать свою руку.
Просмотрев письмо, товарищ Удальцов потянулся к кнопке, укрепленной на столешнице.
– Почему, однако, – обратился он к посетителю, – в письме указана потребность в приборах только по вашему институту?
– Почему? – не понял Базанов.
– Мы-то – главк, – озабоченно пошевелил усами товарищ Удальцов. – Мы обязаны обеспечить потребность всей отрасли. Вы уверены, что такие приборы никому, кроме вас, не нужны?
– Не уверен, – ответил Базанов.
– Вот видите! – воскликнул тов. Удальцов, удовлетворенный таким признанием. – Мы должны запрашивать потребность по всей отрасли в целом.
– Пожалуйста, запрашивайте.
– А какова эта потребность?
– Откуда мне знать?
– Вашим товарищам, отвечающим за техническое вооружение отрасли, – объяснил Удальцов, – следовало детально проработать этот вопрос.
– Они завизировали письмо.
– Завизировать мало. Нужно указать общую потребность.
Начальник отдела укоризненно покачал головой и переменил позу, перевалившись на другой бок.
– Разве не главк, – пробовал возразить Базанов, – должен знать общую потребность?
Колесо событий остановилось и уже готово было закрутиться в обратную сторону, то есть в сторону возвращения Базанова в родной институт, но в это время дверь отворилась и на пороге появился плотный человек с тоненьким, до отчаянья туго затянутым узлом галстука и сильно высовывающимися из рукавов мятыми манжетами.
– Пройдите с товарищем Шаповым, – предложил хозяин кабинета, передавая проект базановского письма вновь прибывшему. – Он вам и займется.
Подслеповатый коридор привел их в другую комнату примерно таких же размеров, но только здесь среди заваленных бумагами столов работало человек десять. Несколько женщин самозабвенно стучало на пишущих машинках, за двумя столами временно никто не сидел, хотя, судя по брошенным второпях ручкам, сумкам и кошелькам, они тоже были обитаемы.
Тов. Шапов повел посетителя к окну, в дальний конец комнаты, и на какое-то мгновение профессор ощутил себя провинившимся школьником, во время дежурства которого из класса на перемене исчез учительский стул. В данном случае тов. Шапов выступал в роли учителя, ведущего дежурного Базанова на чердак, ибо стул бесследно пропал, его нигде не было, а найти было необходимо во что бы то ни стало, ибо если в пропаже стула виноват не дежуривший ученик, то, само собой, виноват учитель. Поэтому они отправились на чердак, где среди паутины и ненужного хлама удалось обнаружить несколько поломанных стульев, покрытых давним, густым слоем пыли. Учитель предложил опознать исчезнувший стул, а поскольку ученик Базанов онемел от полной растерянности, пригрозил, что отведет к директору и вызовет родителей, если Базанов тотчас не признается в содеянном. Мальчик впервые оказался на школьном чердаке. У него и в мыслях не было такого намерения – проникнуть за маленькую дверь, к которой вела пожарная лестница. Там постоянно висел замок, в настоящее время вместе с вставленным в него ключом находящийся в руке учителя Шапова. Здесь не могло быть их стула, поскольку стул пропал только что, но учитель настаивал, и Базанов робко указал на ближайший обломок. Учитель протер обнаруженный им на боковине инвентарный номер, прочитал его вслух, после чего они спустились в учительскую, чтобы третьеклассник Базанов собственноручно подписал составленный Шаповым акт, в котором им, школьником Базановым, удостоверялось, что искомый стул был о б н а р у ж е н р а з л о м а н н ы м н а ч а с т и. Это давало возможность учителю Шапову не платить за исчезнувший стул, тогда как д е л о о в о з м е щ е н и и у б ы т к о в, связанных с поломкой и порчей школьного имущества, передавалось на рассмотрение руководству школы, за чем должно было последовать привлечение к ответственности родителей дежурного Базанова, который, как следовало из всего выясненного учителем Шаповым, был виноват не только в нерадивости, но и в прямом соучастии. Как же на самом деле звали того учителя? Может, и правда – Шапов?
Примерно так рассказывал Базанов о своей встрече с помощником начальника отдела материально-технического снабжения тов. Шаповым.
– Он говорит: присаживайтесь, – а мне вдруг почудилось, что это тот самый стул, обнаруженный на школьном чердаке р а з л о м а н н ы м н а ч а с т и.
Стул стоял рядом со столом, за которым, склонив голову набок, прыщавый молодой человек заполнял графы большого листка-сводки, лежавшего поверх стопки других, точно таких же. К этому столу был придвинут другой, более новый. Вместе два стола напоминали катамаран или тандем. Или заводской пресс старого образца. Ловко изогнувшись, товарищ Шапов проскользнул по узкому проходу, едва коснувшись полы базановского плаща. Главк не имел гардероба и располагался в здании постройки начала 50-х годов, занятом большим количеством подобных учреждений.
С удивительной легкостью, столь не соответствовавшей преклонному возрасту и фигуре, тов. Шапов проделал сложное телодвижение, с изяществом, напоминавшим движение челнока в чреве швейной машины, оказался на своем рабочем месте у стены и уже читал проект привезенного Базановым письма, вытянув перед собой руки в несвежих манжетах, скрепленных на запястьях огромными сверкающими запонками. Он морщил лоб, откидывался, встряхивал сгибающийся лист, потом положил перед собой письмо, погладил его обеими руками и уставился на Базанова хитрыми, смеющимися глазками.
– Это по каким же, интересно, фондам проходить будет? – лукаво спросил он.
Устыдившись собственного невежества, Базанов решил смириться с участью не приготовившего урок ученика.
– Я в этом не понимаю, – признался он. – Мне приборы нужны…
– А фамилия ваша, простите?
Базановская фамилия ни о чем не говорила Шапову.
– Так-так. Это, конечно, не ваш вопрос, – закивал Шапов, словно собираясь объяснить незнакомцу, что тот заблудился, что идти надо совсем в другую сторону. – Этим должно заниматься институтское снабжение.
– Пустое дело, – Базанов безнадежно махнул рукой.
– Конечно, – согласился Шапов. – Вы непосредственно заинтересованное лицо. У нас впервые?
Базанов неопределенно пожал плечами.
– Строго говоря, это не наш вопрос.
– А чей?
Вместо ответа Шапов спросил тихо:
– Вам ведь только завизировать? Анатолий, – обратился он к прыщавому молодому человеку, – проверь все позиции по письму.
Анатолий протянул руку через стол, принял бумагу, и тотчас какие-то другие люди окружили товарища Шапова, засосали, поглотили всей своей шумной, подвижной, многоликой массой.
– Одну минуту, – вежливо уведомил Базанова Анатолий. – Сейчас я вами займусь.
Он дописал строчку в графе, но в это время его позвали к телефону. Разговор был долгий, деловой, Анатолий несколько раз клал трубку на стол, рылся в бумагах, говорил кому-то на другом конце провода: «Тонн двадцать я тебе дам», открывал сейф, доставал документы, водил пальцем по графику, укрепленному кнопками на стене.
Потом подошли какие-то женщины с кипами каких-то бумаг.
– Извините, – вспомнил о Базанове Анатолий, – я должен их отпустить. Они опаздывают на самолет.
Всесильный профессор чувствовал себя так, будто по нему, безвольному, растерянному, раздавленному, взад-вперед ходил тяжелый каток. Контраст между тем, что он знал, умел, мог в своей лаборатории и здесь, среди занятых, поглощенных своими делами людей, для которых он представлял лишь досадную помеху, казался разительным и непостижимым. Этот юноша Анатолий, который в другой ситуации краснел бы, робел и пыжился, пытаясь ответить профессору на экзамене, здесь, в вышестоящем, руководящем учреждении, владел какими-то чудесными, недоступными профессорскому пониманию искусством и властью.
Наконец Анатолий взял письмо и, заглядывая в него, принялся перелистывать нечто похожее на амбарную книгу. Он поставил шариковой ручкой галочку, написал прямо на первом драгоценном экземпляре письма несколько слов и сказал:
– Вы проходите у меня только по одной позиции. Сотрудницы, которая занимается другими позициями, сейчас нет. Оставьте письмо и позвоните мне завтра по этому телефону. Спросите Шарашкова.
– Шарашков это вы? – поинтересовался Базанов.
– Шарашков это я.
Назавтра Базанов звонил с утра. Шарашков вышел. Шарашков будет чуть позже. Базанов звонил каждые четверть часа до тех пор, пока ему не сообщили, что Шарашков уехал в другой главк и его сегодня не будет.
Не удалось застать Шарашкова и на следующий день. Когда Базанов дозвонился, Шарашков сразу узнал его:
– А, привет, это вы! Не вышла еще та сотрудница. Заболела. Вы уж потерпите немного.
Дольше терпел.
Потом, когда сотрудница вышла на работу, выяснилось, что ждать ее возвращения не требовалось. Анатолий просил Базанова снова приехать (или кого-нибудь прислать), чтобы перепечатать письмо в соответствии с той правкой, которую он, Анатолий Шарашков, счел необходимым произвести.
– У вас что, напечатать некому?
– Сейчас некому, – признался Анатолий. – Запарка, все заняты, печатать совсем некому. Если хотите, ждите. Но вы ведь просили побыстрее.
Письмо перепечатали, завизировали у кого требовалось, вновь отправили в главк, но почему-то оно опять вернулось в институт вместе с запиской, содержащей вопрос, который уже задавал Базанову начальник отдела материально-технического снабжения тов. Удальцов: какова потребность в заказываемом оборудовании по главку в целом? Ответить на этот вопрос не мог никто: ни главк, ни институт.
Да что там говорить, Базанов был совершенно не приспособлен к такого рода деятельности, она вызывала у него нечто похожее на сенную лихорадку с кашлем, насморком и слезами. Отсюда преувеличения, подозрительное отношение к любым деловым бумагам. Ведь доставали же другие начальники лабораторий то, что им было нужно. И письма писали. И в главк ездили.
Базановская кампания, связанная с приобретением лабораторного оборудования, совпала, с эпопеей общеинститутского масштаба под названием «Рафинит».
Почему так остро переживал Виктор то, что у других вообще не вызывало никаких чувств? Ведь он умел быть не только стойким, но и жестоким, прямо-таки твердокаменным – с той же Ларисой, которая его обожала, с Френовским, который его ненавидел. Почему какие-то мелкие чиновники или чьи-то чужие грехи (разработкой «Рафинита» наш институт никогда не занимался) могли свалить его с ног? Или сказывалась накопленная годами усталость?
Идея создания очистительной системы «Рафинит» первоначально возникла в воображении трех специалистов: инженера Радлова, главного инженера Филоненко и начальника лаборатории Нитшулера. Дитя появилось на свет в те далекие дни, когда мы с Базановым начинали свою трудовую деятельность. Если я что-то и слышал раньше о «Рафините» от бывшего заведующего нашего отдела И. Ю. Булле, то Базанов, сдается мне, узнал о ней только на заседании ученого совета, где заслушивался ход и итоги выполнения многолетних работ.
Некогда у главного инженера предприятия один из цехов оказался под угрозой закрытия из-за обилия ядовитых сточных вод. Возникла мысль обратиться за помощью в научно-исследовательский институт, где работал его знакомый – некто Нитшулер. Сам Филоненко ничего не мог сделать, поскольку не был специалистом по очистке сточных вод, как, впрочем, и Нитшулер. Звено Филоненко – Нитшулер возникло лишь потому, что Нитшулер знал такого специалиста – человека по фамилии Радлов. В задачу Радлова входило добавление нескольких конструктивных практических соображений к принципиальной идее соавторов, вернее, к их желанию помочь производству. Нитшулер рассчитал экономическую эффективность будущей разработки, а Филоненко связался с коллегами на других заводах. Когда выяснили число заинтересованных лиц и подсчитали экономию ценных металлов, они поняли, что пришло их время.
Только бы не подвел Радлов. Но Радлов – увы! – подвел. Набросав эскиз будущей установки, каждый узел которой требовал тщательных расчетов и экспериментальной проверки, Радлов скоропостижно скончался, оставив жену, двух взрослых детей и первые две буквы названия будущего проекта – «Ра». Поскольку горшки обжигают не боги, а люди, то соавтором Радлова – Филоненко («фи») и Нитшулеру («нит») – предстояло не только перенести тушью на ватманский лист черновой эскиз проекта, но и обойти с ним все инстанции, дабы доказать необходимость работ по созданию очистительной системы «Рафинит». Многочисленными вопросительными знаками, поставленными Радловым на схеме, решили не перегружать чертеж и не вносить их в объяснительную записку, ибо это могло сильно затормозить финансирование новой темы. Словом, избавленное от досадных мелочей предложение выглядело теперь настолько убедительно, будто речь шла не о заманчивой идее, а о готовом проекте.
Когда Базанов спросил, сколько стоила вся разработка, Филоненко – единственный из присутствовавших на ученом совете авторов (с годами их число, как и число соисполнителей, увеличивалось) – не смог определенно ответить на этот вопрос. Ответил кто-то другой. Цифра произвела столь сильное впечатление, что по залу прокатился ропот.








