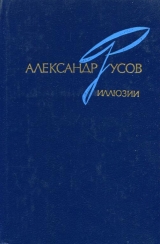
Текст книги "Иллюзии. 1968—1978"
Автор книги: Александр Русов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 26 страниц)
Сама же бабушка, думается, раз и навсегда, еще в начале века, научилась воспринимать газетные новости, частную жизнь и ход истории как нечто цельное и взаимно обусловленное. То есть, хочу я сказать, она всегда, когда требовалось, умела растворить свою судьбу в деле, которым занималась, – это было не жертвой, а потребностью для нее, и потому она как никто другой умела искать и находить в частном целое – почти так же профессионально, как умеет это делать мама, когда окидывает одним взглядом мелкую рябь красочных мазков, соединяя их в одно изображение.
Ей даже как-то удавалось совмещать газетные сообщения, эти большие радости и трагедии, с нашей провинциальной жизнью в Лукине. Ведь мы хорошо знали: бабушка, читающая газеты, и бабушка, суетящаяся у стола, чтобы накормить каждого, кто переступит порог дома, – это все та же любимая наша бабушка Софья. Мамина печаль, Маринкины заботы, мой приезд – и это каким-то образом должно было вместиться в общую картину мира, возникающую перед ней с неизбежным постоянством в тот утренний час, когда, шурша газетными страницами, она склоняется все ниже, чтобы разглядеть мелкоту букв. И когда неловко перевернутая страница, соскользнув с колена, почти неслышно ложится на пол, она наклоняется, чтобы поднять ее. Если же кто-нибудь поспешит опередить бабушку, она неловко улыбнется, словно бы извиняясь.
Но, может, она нарочно роняет газету? Маленькая хитрость воспитателя в надежде, что кто-то обратит внимание на упавший лист. «Вы читали?» – спросит тогда она как бы невзначай, поскольку первое и самое главное, чего ждет бабушка от каждого утра, – это газеты. Мне всегда казалось удивительным: утренняя передача по радио последних известий, тихий звон наушников под подушкой, чтобы не разбудить Марину, досрочно приносят ей то, что часом позже принесет почтальон. Тем не менее еще до завтрака она погружается в мир едва шелестящих от дрожания руки газетных страниц с жадностью путника, утоляющего жажду, черпая в них подкрепление своим угасающим день ото дня силам.
– У тебя, как видно, самая нужная теперь профессия, – говорит бабушка. – Только и пишут о химии. Ты чем сейчас занимаешься?
– Тем же, чем раньше.
– Чем именно?
– Это слишком специально, ты не поймешь.
– Пойму, – обещает бабушка. – Ты ведь связан с практикой, с заводами?
– Да, с фармацевтическим.
– Хороший завод?
Она спрашивает о заводе таким тоном, и выражение лица у нее при этом такое, словно она – официальное лицо, проверяющее состояние дел и научно-технический уровень моей работы. Своим ответом я словно должен заполнить пробелы между черными типографскими значками с тем, чтобы конкретными и яркими жизненными примерами подтвердить правильность получаемой ею из газет информации.
– Главное, что ты связан с людьми. Меня всегда окружали люди. Даже в самые тяжелые годы я не знала одиночества.
– Можно подумать, – заметил я, – что кто-нибудь из нас может жить вне людей.
– Когда человек замыкается в себе…
– Когда ему замыкаться? И как? Человек ежедневно ходит на работу, с утра и до вечера в лаборатории, на лекциях. Он загружен, загроможден делами, а домой приходит – снова дела. Ему не то что замкнуться, вздохнуть некогда.
– Да, – говорит бабушка, – это конечно.
Задумавшись, она намазывает хлеб маслом, и бутербродов на столе уже так много, что одному человеку, даже самому могучему, с ними не справиться, а бабушка продолжает резать хлеб.
– Вот именно, – говорю, – связь с людьми. Без этого как? Но современный человек живет поспешно, не то что получает, а буквально проглатывает образование, торопится все успеть, а если вдруг остановится на минуту, то собьется с ритма, потеряет дыхание, и что-нибудь непременно случится с ним. В семнадцать лет мы уже знаем столько сложных вещей, о которых в ваше время понятия не имели, а вот самое, казалось бы, простое и очевидное, старое как мир едва постигаем к тридцати годам. Мы слишком хорошо знаем, что такое сверхсопряжение в молекулах, и слишком плохо, что на самом деле означают такие слова, как мама, папа, любовь, – слова, о которых нам попросту некогда думать.
– Куда же в таком случае вы спешите?
Бабушка спрашивает: куда? Я вспомнил: Первого мая сорок седьмого или сорок восьмого года, когда по радио передавали парад с Красной площади, когда рев танков, звуки труб и торжественный голос диктора наполняли весельем лукинский наш дом, бабушка сказала, что настанет время, когда изобретут радиоприемник, в котором будет вырезано маленькое окно, и там, на экране, можно будет увидеть все, о чем говорят. Я учился в школе, а бабушка тогда была еще совсем молодой и быстро ходила по дому – тем не менее она сказала, что до того времени доживу только я, а ей уж никак не дожить. Я обещал: и ты доживешь, бабушка. Непременно придумаю такое лекарство, чтобы люди долго жили.
– Куда вы спешите? – спрашивает она теперь.
Может быть, все эти годы я спешил поступить в университет, сдать экзамены, защитить диссертацию, спешил так, что в конце концов работа стала и отдыхом, и развлечением – чуть ли не единственной формой существования – может быть, я бессознательно спешил сдержать слово, изобрести лекарство для бабушки? Ну а другие, те, что меня окружают, мои друзья – куда спешат они? Куда мы спешим все вместе?
15
Инга!
Я передумал. Мне не нравится роль обвиняемого. Хочу получить роль судьи и надеть мантию.
Пишу тебе из Лукина. Здесь вполне подходящее место для анализа мелочей, которые помогут решить исход «дела» в мою пользу. Лукино стоит на холмах, но такой горы, как во Львове, нет. Много хвойных и смешанных лесов, в которых легко заблудиться, потому что они тянутся на многие километры.
Местные жители говорят, что в этом году много грибов, как перед большими войнами. Ты, конечно, помнишь эти разрушительные войны. Ведь мы знакомы тысячу лет.
Тысячу лет жили первые люди сразу после сотворения мира. Потом бог решил, что они слишком легкомысленны: не стоит так долго им жить. Тысячу лет мы одинаково горячо любили этот мир, полный тайных созвучий, и чем сбивчивее, бестолковее были слова, тем яснее проступал смысл сказанного.
Мы поймали за хвост жар-птицу, которая, как ей и полагалось, улетела. Оставшиеся от нее перья сданы в костюмерную. Ими украсят шляпу актера, исполняющего роль графа Монте-Кристо.
Я собирался написать тебе веселое письмо о Лукине и вспомнил про тростинку, в которую выговаривался болтливый королевский парикмахер. «У короля растут рога», – как-то сказал он, облегчив тем душу. Теперь я втайне надеюсь, что меня определят на место судьи для вынесения ему смертного приговора за разглашение государственной тайны.
В Лукине есть довольно большое озеро, по берегам поросшее камышами. В воде отражаются облака, и сквозь прозрачную воду на дне можно заметить контуры подводного города, а если приглядеться получше – ничего там нет.
Зато есть лодочная пристань с синими лодками, покататься на которых стоит 30 копеек в час. Есть клуб, где по вечерам показывают кино, и два магазина.
Сейчас погода стоит прекрасная, а когда пойдет дождь – на душе станет совсем спокойно. Капли будут стекать по лицу и заползать за воротник.
Ты помнишь? Мы идем по львовскому ночному шоссе в ливень, укрыв головы пиджаком, и твои белые туфли на шпильках – вдрызг.
О Львове я упомянул к слову, по ассоциации с водой лукинского озера. Просто так я не вспоминаю теперь о нем, и это добрый признак. Значит, я почти здоров. Во всяком случае, я нейтрален, как универсальный индикатор, опущенный в дождевую воду.
Инга! В ремарках нашей пьесы сказано, что у судьи должно быть нейтральное лицо. Такое, как у меня сейчас. Еще раз: я и м е ю п р а в о н а э т у р о л ь.
Ты должна подтвердить, что у меня было такое лице, когда мы ночью ехали в дождь по Москве. Мы плыли сквозь мрак, и ничего, кроме мелькания стеклоочистителей, не было видно. Когда через сорок дней и сорок ночей дождь кончился и потоп схлынул, я остался один, и теперь мой ковчег – на Араратских горах. Должно быть, это все-таки не случайно, что Ной числится моим родственником по материнской линии. Но зачем-то вскоре после потопа был построен Содом и сожжен за грехи. Если верить мифу, то из всех жителей города спаслись только Лот и две его благочестивые дочери. Они долго жили на Горе, как мы с тобой во Львове. Но в конце концов из всего этого получилось вот что: девицы споили отца и спали с ним по очереди. Не могу понять, зачем понадобилось сначала строить, а потом сжигать Содом.
В Лукине цветут астры, гладиолусы и георгины – печальные цветы упадка летней империи. Писатели пишут книги, художники ходят на службу, а я среди них ни то ни се.
Но я не сказал главного. И сейчас меня манит к себе тот дом с надвинутой на глаза крышей, который глухо и одиноко стоит в карпатских лесах. Чтобы в городе, где нас никто не знает, накупить еды и вина, захватить на непредвиденный случай запасную канистру с бензином и уехать в ночь, и приехать утром в туман, а потом пойти навстречу постепенно проступающему изображению дома, открыть дверь, перенести из машины продукты, вещи и затопить печь.
И тогда война, которую я мысленно веду с тобой и которая является лишь отчаянным актом самозащиты, сменится долгожданным миром, имя которому… (дальше жирно зачеркнуто).
16
До чего же странно, что этот тихий мальчик Новосельцев непрошеным гостем вторгается в мой сегодняшний день. Два года назад вместе с другими ребятами он пришел в научно-студенческий кружок, которым я руководил по линии НСО, заняв в нем особое место.
Как часто наши симпатии отдаются тому, кто напоминает нам самих себя или близких друзей «тех далеких, невозвратимых лет»! Почти эфемерное (чем именно напоминает?) чувство родства с учеником посещает, наверное, каждого, кто ежегодно наблюдает сотни молодых лиц. Впрочем, сей призрак является к нам не слишком часто, будто опасаясь потерять таинственность и возможность вызвать любовь.
Новосельцев походил на школьника, то есть, как и я, выглядел значительно моложе, но только своих двадцати лет. Одно казалось необычным и странным в том портрете двухлетней давности: спокойные, как бы увядшие глаза. Такие глаза могли принадлежать много пожившему, во всяком случае, много пережившему, человеку (или невинному младенцу), поскольку у мальчишек, которых я помнил, у мальчишек военной поры были другие глаза: озорные, лукавые, гневные. Я хорошо помнил совсем иные лица сверстников, а также тех, кто вернулся в Лукино с войны, и прежде всего ласковые глаза Голубкова. Лицо Новосельцева имело мягкое, расслабленное, какое-то неопределенное выражение.
Я спросил, чем бы он желал заняться, хотя многие преподаватели против того, чтобы с начинающими говорить на равных. Некоторых новичков отпугивает возможность сделать свой первый выбор в науке. Иные, загоревшись, быстро гаснут, и их не видят на кафедре вплоть до начала лабораторных работ, предусмотренных учебным планом. Остаются единицы, и это естественно. Те же, кто изъявляет готовность исполнять приказы и замыслы других, чувствуя себя неуверенно, когда таковых не поступает, составляют впоследствии большую армию тружеников качественно, впрочем, иного рода.
– Пожалуй, я занялся бы синтезом, – отвечал Новосельцев на мой вопрос.
Я предложил провести пробный опыт по прописи, и он быстро, хорошо с ним справился. Пока другие с трудом преодолевали первые учебные рубежи; пока пропускали занятия из-за нехватки времени, а то и вовсе исчезали; пока от начала к концу года число кружковцев стремительно убывало, чтобы вновь подкатить могучим валом следующей осенью; пока происходил естественный отсев, отбор, обогащение породы, Новосельцев делал поразительные успехи. Я знаю цену этим словам применительно к студенту, ибо и мы в свое время, дрожа от нетерпения, вскакивали на коней, неслись во весь опор. За год Новосельцев синтезировал несколько новых веществ, провел одну не описанную в литературе реакцию. Мы предложили с ним новый способ получения труднодоступного вещества, послуживший предметом авторской заявки.
Что ждал я от новоявленного гения: благодарности, верности? Ожидал найти в нем воплощение, некий итог моих трудов, усилий, надежд? Хотел обрести как бы более удачливого, чем сам я, сына, чтобы втайне гордиться его будущей славой? В его годы мне даже не снились такие успехи, и я хотел лишь видеть, как загорятся его глаза, как мы вместе поскачем вперед.
Но он по-прежнему был спокоен, выдержан, тих. Будто предшествующие поколения людей растратили весь свой пыл в боях, трудах, безумствах, ничего ему не оставив. Я так мало узнал о нем за два года совместной работы. У него были молодые сорокалетние родители, и я решил спросить о них, рассчитывая, что, может, хоть эта тема способна высечь искру огня. Он не был скрытен. Казалось, ему нечего скрывать, но и рассказывать о себе нечего. Пожалуй, родители не слишком интересовали его. Это было видно по лицу, безлично-равнодушному разговору. Словно он и не родился вовсе, не произошел, но как отмершая чешуйка коры отслоился от них.
Мне казалось: бледная звезда прилетела к нам из иной галактики, где иначе мыслят, иначе живут и чувствуют. Попроси любого из нашего поколения вспомнить детство с его печным отоплением, игрой в казаки-разбойники, гибелью отцов на войне и приходом с войны веселого человека в кожаной куртке с орденом Красной Звезды на груди. Чего не вспомним, не наплетем!
В последние годы я все чаще встречал студентов со столь же спокойными, чуть флегматичными лицами, будто отрезанными от наших напряженных, озабоченных лиц хлеборезкой – основным орудием булочных времен карточной системы.
Может, война сделала нас такими? Война и то, что было после нее? Может, наше нервное, рвущееся, словно убегающее от последних пуль поколение просто ошалело от горя и радости, от того, что осталось жить? Может, именно заложенная в нас защитительная пружина избыточного действия, порожденный опасностью инстинкт самосохранения заставляли, да и теперь заставляют, жать на всю железку?
– Хочу ходатайствовать перед кафедрой, – сказал я как-то Новосельцеву, – чтобы вас оставили в аспирантуре.
Долго я берег для него этот подарок. Хорошо помню тот весенний день 1959 года, когда примерно теми же словами мне объявили о том же. Что-то бешеное, радостное, сумасшедшее вырывалось тогда из груди, подкатывало к горлу.
Ничего не переменилось в лице Новосельцева. Он даже не отнял рук от штатива, на котором укреплял прибор.
– Спасибо, я подумаю.
И уже по инерции, почти не слыша последней фразы, как человек, у которого взрывом оторвало ногу, но который не осознал еще, что произошло, я продолжил:
– Завершите начатое.
Словно униженно просил об одолжении, а он, все такой же спокойный, невозмутимый, маленький старичок, вежливо отказывал.
– Нужно подумать. Я не уверен, что в учебном институте достаточно современный уровень…
Я едва удержался, чтобы не назвать его сопляком.
– Смотрите, не пожалейте потом.
Видимо, я сказал это зло, потому что Новосельцев недоумевающе смотрел на меня, точно не понимая причины раздражения.
Так ведь и должно быть. Это правильно, убеждал я себя. Они люди другого времени, иной судьбы. Прекрасно, что имеют смелость, возможность, самонадеянность для того, чтобы выбирать, привередничать, искать лучшее, чем позволяли себе мы.
Никогда раньше я не чувствовал, а теперь ощутил ущербность, что ли, свою. Я был как бы вечным мелким служащим, которого обидел делающий блестящую карьеру самовлюбленный юнец. Мне продемонстрировали пример того, как спокойно и величественно, без суеты, с истинным аристократизмом, можно продумывать стратегию собственной жизни.
Ведь и мысли такой не возникало, чтобы отказаться. Что, кроме полной, всепоглощающей благодарности учителям, пригласившим меня во взрослую, достойную жизнь, мог я испытать? Да и решимости бы не хватило отвергнуть протянутую руку.
«Нет, – говорил я себе, – это никак не связано с тем, что мальчик Новосельцев владел педальной автомашиной, о которой мы когда-то не смели даже мечтать».
Может, я злился даже не на студента Новосельцева, а на себя самого. На то, что не могу, не умею быть другим – спокойным, выдержанным, расчетливым. Потому что с Новосельцевым никогда не случится того, что случилось со мной. И это хорошо. На что рассчитывать, как не на будущее, избавленное от наших заблуждений?
Но кто знает, не более ли страшные ошибки подстерегают его?
Я все-таки ждал, что Новосельцев вернется. В этом году он окончил институт и ушел, даже не попрощавшись.
17
На траве было холодно сидеть, сумерки перешли в ночь. В мерцающем горячем свете вспыхивало в темноте карпатских предгорий ее лицо. Два вздрагивающих пальца держали сигарету. Когда огонек погас, мы провалились в темноту.
– Ну, пожалуйста, – говорила Инга, – расскажи, как ты меня любишь. Так хорошо. Я могу без конца слушать. Поверь, я так устала. Какой тяжелый был этот год. Мы с н и м все выясняли, выясняли что-то. Несколько раз он уходил от меня, потом возвращался. Не хватало характера. Умница, порядочный человек, но я его не люблю, Андрей. Все так сложно. У нас сын. Он любит отца, отец его любит. Но и без меня мальчик не может. А я – разве смогу? Он ведь еще совсем маленький… Всему виной, наверно, боязнь привычки. Боюсь привычки жить. Вот и к тебе уже привыкаю. Как быть? Привычка – это страшно, Андрей. Уже не жизнь, а существование. Всегда что-то должно оставаться непредвиденное, случайное. Я часто думаю: почему человек обязательно должен стать взрослым? Эта боязнь сродни болезни. Боюсь, что вещи, каждая из которых – чудо, начнут исчезать, нити, их связывающие, – рваться. Боюсь ослепнуть и оглохнуть. Ведь так страшно, когда жизнь (я не имею в виду дело, работу, скорее все остальное), когда единожды данная жизнь превращается в осмотр достопримечательностей на платной экскурсии…
Очевидно, подобный инфантилизм, искренняя девчоночья игра во взрослую женщину – вообще все, о чем путано говорила Инга Гончарова, было своего рода бегством, уходом в себя, и Березкин смутно припоминал, что сам тоже некогда думал о чем-то подобном. Что это было и когда? Не фрагменты ли диалога десятилетней давности с воображаемым собеседником слушал он в тот вечер?
Теперь он, наверно, писал бы иначе. Хотелось увидеть, почувствовать, представить себе жизнь в целом, ибо ее частные закономерности он изо дня в день постигал в лаборатории.
Березкин думал: что определяет людское родство в первую очередь – биологическое или духовное начало? Ведь должности наших друзей, любимых, наставников – это конкурсные должности, которые не передаются по наследству, а определяются сродством душ и общностью устремлений.
Однако тогда возникал второй вопрос: что в тебе от них, от далеких и близких предков? Откуда все эти любви и привязанности – не предопределены ли они в некотором роде? Не по древней ли картотеке заполняешь ты штаты друзей? Но свобода воли, свобода действий, свобода выбора – как распорядиться ими?
Подоплека подобных рассуждений крылась в растерянном состоянии Березкина. Порой он чувствовал себя деревом, у которого подрублены корни. Из родственников по турсуняновской линии он ни с кем, кроме обитателей лукинского дома, не поддерживал отношений, и ни с кем, кроме отца, по березкинской. Он был абсолютно свободен от родственников, от обязательств перед ними, от их обязательств перед ним, от чувства родства. Ведь его отец и отчим смогли освободить себя от ответственности перед своими детьми – почему бы и ему не чувствовать себя свободным?
Современное космическое чудо: парить в воздухе и быть невесомым. Но потребность в родной душе, в своих корнях, в своей земле, в весомости земного вашего существования приходит как напоминание о долге и бывает столь велика и насущна, что вы бросаете все, срываетесь с насиженных мест и, подобно блуждающим огням, оказываетесь то там, то здесь в поисках надежного пристанища.
18
В оставленном на заднем сиденье автомобиля портфеле я обнаружил черновики двух статей для «Журнала органической химии», которые собирался посмотреть до возвращения в Москву. Перелистывая страницы, я начал читать с ручкой в руках и не отложил, пока не кончил чтение. Исправляя ошибки и неточности, я подумал, что моим сотрудникам (соавторам фармакологических побед далекого будущего) – умникам, талантам, эрудитам – трудно порой грамотно составить простую фразу на родном языке. В сущности, в чем-то, наверно, все мы очень темные, слабые, беспомощные люди (в том смысле, в каком мама говорит: «Я у тебя такая темная»), а вовсе не всесильные, неуязвимые технократы, какими нас пытаются иногда представить. Нам, конечно, доступно нечто, не доступное другим, но при этом перед лицом важнейших проблем жизни и смерти мы чувствуем себя неоперившимися юнцами.
Странный был день. Теплое, неспокойное утро, в сердцевине которого спрятаны холодные тени осени. Нет привычного и непринужденного ощущения дома. Постоянная тревога, словно забыто и не сделано что-то важное, и поздно что-либо исправить. Точно допустил ошибку во второй корректуре, и большее, что могут для тебя сделать теперь в редакции, это дать исправление опечатки в следующем номере.
Так бывает каждый раз, когда берешься за работу, не уверенный в том, что сможешь довести ее до конца.
Я начал с легкого карандашного наброска единственной в саду плодоносящей яблони, потом наметил заросшую травой клумбу с флоксами, угол нашего дома с водонапорным баком – ту его сторону, из окон которой видна живая изгородь границы с мягковским участком, и несколько сосен, снизу бурых, а сверху светлых и гладких, точно зашкуренных.
Давно не брал я карандаш в руки. Несколько раз стирал, делал новый набросок поверх старого – и так до тех пор, пока окончательно не запутался в беспорядке скрещенных линий и сдвинутых в пространстве форм.
Почему-то никак не удавалось вступить в естественное, дружеское общение с садом, несмотря на то что я искренне хотел этого. Всегда покровительствующий мужчинам нашего дома, он стоял теперь равнодушный, отчужденный и не принимал меня. Может, следовало прийти к нему на свидание не с карандашом, а с лопатой, как это делал в свое время мой отец? Ведь это он посадил и вырастил сад. Но пришла беда. У выбранного участка оказались два застройщика, две творческие индивидуальности, и каждый явился со своим проектом. Вот тогда-то и наступила полная неразбериха, как на фотографии с наложенными негативами, на одном из которых – сад, а на другом – мастерская художницы. Единство замысла было нарушено, и некогда цветущий сад пришел в запустение.
Однако только ли сад и мастерская послужили единственной причиной развода?
В связи с этим, вероятно некстати, я припомнил маленький эпизод: осенним вечером мама надевает пальто и шляпку с вуалью – и контрастирующий с ее мягкими движениями, порывистый, почти мальчишеский жест отца. Мама, видимо, уходит на свидание с Голубковым. Отец просит ее остаться, обещает почти невозможное для него: поездку в Москву, театр, ресторан, консерваторию. Я вспомнил также, как плакал отец, и при мысли об этом, как и тогда, такое ощущение, будто на твоих глазах потрошат человека.
…Да, и сад, и мастерская, конечно, но истина все-таки была спрятана не здесь, а в пограничных районах таких понятий, как нетерпимость, измена, мужская гордость, слезы, которых не прощают, любовь.
Там же следовало искать и причину холодных отношений с отцом, вернее, отношения отца к сыну как к живому и постоянному напоминанию позора и горя, которое принесло явление человека в кожаной куртке с орденом Красной Звезды. Березкин-старший после этого не то чтобы не хотел видеть сына, скорее желал не видеть его, так будет точнее. А все остальное можно было отсечь одним ударом ножа: э т о р е ш е н о о к о н ч а т е л ь н о и б е с п о в о р о т н о . Что же касается Андрея Березкина, то его отношение к отцу формировалось под девизом «папа нас бросил» и под мелодичный звон голубой чашки. Какая уж тут любовь! Руководствуясь подобными рассуждениями, начинающий судья склонен был оправдать отца и осудить мать, но когда одна чаша весов перевешивала, он испуганно принимался бросать гирьки на другую.
Так, безуспешно пытаясь понять истину, он вел себя беспринципно уже в силу того, что в равной мере был сыном обоих родителей. Аналитический ум Березкина и артистическая натура Турсунян дали в сочетании воистину странный гибрид.
Запутавшись в многочисленных причинах, он отбросил их и рассмотрел следствия. Следствиями являлись одиночество матери и процветающий сад отца в районе Нового Иерусалима. Получалось, что в выигрыше оставался отец, если допустить, что слово «сад» может служить эквивалентом слову «счастье».
В маминых словах «поэтому я ушла от него», сказанных ею сгоряча вчера вечером, было больше правды, чем показалось сначала. Ведь уходит тот, кто делает первый шаг по направлению к человеку в кожаной куртке или к девушке по имени Инга, а побеждает – сделавший второй шаг. Сей шаг принадлежал отцу – и он победил. Голубков сделал оба шага, и тоже победил. При таком освещении дела Андрей Березкин безоговорочно переходил на сторону побежденного, которому могло бы понадобиться, по крайней мере, его участие, а победителям ничего не нужно – с них достаточно и победы.
Да, этот дом любил мужчин. Даже Голубкову, не ударившему для него палец о палец, дом подарил несколько страниц действительно прекрасных – лучшее из того, что он написал.
Так мы сидели в саду, рисовали и размышляли – я и моя сестра.
– Зачем ты делаешь каля-маля?
– Мариночка, – говорю, – мы же договорились: сначала нарисуем, потом будем смотреть, у кого что получилось.
– Ладно.
Потом она спросила:
– Эту яблоню посадил твой папа?
– Да, – сказал я и поймал ее искоса брошенный взгляд.
– А зачем?..
– Что?
– Зачем он ее посадил?
– Глупый вопрос.
Она продолжала глядеть неотрывно.
– У меня тоже есть папа.
– Конечно, – сказал я. – Ты не нажимай так сильно, а то все карандаши поломаешь. Второй раз я не стану чинить.
– Ладно, – сказала Марина. – Он в Африке.
– Кто?
– Мой папа живет в Африке.
Нижняя губа ее чуть наползла на верхнюю, как у бабушки, когда та стесняется или чувствует себя неловко (такой она получается на фотографиях), лоб – точная копия голубковского – наморщился: она ждет от меня каких-то слов, дополнительной информации, которую я не могу ей дать.
(Позже я спросил у мамы, какими судьбами занесло Голубкова в Африку.
– Так уж получилось, сынок. Мы смотрели по телевизору какую-то передачу. Слонов показывали, обезьян, и вдруг она начала задавать эти свои детские вопросы. Нужно было что-то ответить.)
– Он, наверное, стал совсем черным, – сказала Марина.
– Не думаю.
– В Африке все черные.
– Ты слишком много разговариваешь, – сказал я. – Лучше рисуй.
На очереди был вертикальный столитровый водонапорный бак на треноге. Бак рыже-красного цвета, каким красят обычно крыши. Малоприятный цвет, который почти не замечаешь по причине широкой распространенности. Передать акварелью его почти невозможно, но я не мог обойтись без этого бака, лет двадцать пять назад поставленного отцом на прочные железные ноги и время от времени подкрашиваемого Захаром Степановичем Двориным.
Без этого бака не существовало бы, наверно, лукинского дома с торчащей из стены трубой и мелодичными ударами капель по кирпичу. Или же в том, что я не мог обойтись без него, сказалась папина черта характера – пристрастие к инженерии, к точному воспроизведению деталей, наследственная уверенность в том, что лишенная практической основы фантазия означает отход от правды? В данном случае было, пожалуй, именно так, ибо игнорирование такой существенной детали, как водонапорный бак, только из-за того, что мне неприятен его цвет, означало бы выбор легкого пути.
Наконец я подобрал наиболее подходящий цвет. Рядом ложился размытый серый с зелеными наплывами.
Я подумал: как отнесется к этому мама?
Марина почти приникла щекой к альбому и с одной стороны стерла карандаш до самой деревяшки, так что больно было смотреть и невыносимо слышать, как терзал он бумагу.
– Мариночка, – сказал я, – ты себе глаза испортишь.
Она нахмурилась, дернула плечиком – точь-в-точь как моя Леля, но послушалась, села прямо и взяла другой карандаш. До чего же они похожи – тетя и племянница! Я находил общее в нетерпеливом движении их лиц, в рассеянной манере слушать – черты, которые меня раздражали в маме, трогали в бабушке и которые я с удивлением замечал в себе самом.
Как все-таки отнесется к этому мама?
«Вылитый папаша, – скажет она после того, как ошеломляющее известие – мое решение – станет известно ей, и, справившись с ним, добавит: – Жениться в двадцать лет, родить ребенка, потом расходиться – вылитый папаша!»
В глазах ее застынет брезгливое выражение судьи эпохи матриархата.
«Вылитый папаша, – скажет мама, точно давно уже предвидела эту запись в моем генетическом коде: неизбывный порок, наследственное проклятье». Да, именно так скажет она, вне зависимости от своего отношения к Кате, откажется от победы в силу неизбывной женской черты – солидарности с побежденными.
– Мои дети рисуют, – произнесла мама, заходя со спины, и я почувствовал неприятный холодок между лопатками, словно она читала мои мысли, рассматривая этюд.
Я вздрогнул и обернулся.
На какой-то миг время остановилось, как в тот раз на шоссе, когда я почувствовал легкий толчок в спину, словно кто-то сидящий сзади тронул меня за плечо. Я обернулся и увидел автобус, повисший в воздухе, в сиянии ореола сверкающих на солнце осколков стекла. Мгновение длилось, осколки не оседали, автобус висел в воздухе, чуть завалившись набок, как большой неуклюжий зверь в прыжке, потом вдруг все встало на свои места, чтобы не двигаться до приезда инспектора, а я вышел из помятой машины и некоторое время почти не мог дышать, думал, что отбиты легкие.
И теперь, как моментальный снимок (только снимок не дает ощущения, будто отбиты легкие), мамино лицо – красивое, с безумным взглядом больных одиночеством глаз, снимок, который в тот самый миг, когда оживет, перестанет быть отражением катастрофы, поскольку, что бы там ни было, все позади, и худшего не случится.
– Мама, как ты считаешь? По-моему, у Марины лучше, – неуверенно сказал я, но сестренка не могла оценить моего благородства и принять добровольную капитуляцию, поскольку ее уже не было рядом.
– Дай-ка кисточку, – попросила мама.
Она ополоснула кисть и, не выдавив из нее лишнюю воду, решительно стала смывать краску с листа: хотела свести на нет мою работу. В отместку за принадлежность к роду мужчин? Не знаю уж там за что. Мне было все равно. Этюд не удался – отдельные куски, не собранные воедино. Особенно вываливалось из плоскости листа ржавое пятно водонапорного бака.








