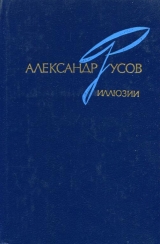
Текст книги "Иллюзии. 1968—1978"
Автор книги: Александр Русов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 26 страниц)
– Далеко уезжаешь? – поинтересовался Максим Брониславович.
– Далеко. – Рыбочкин неопределенно махнул рукой в сторону окна. – На юг.
– Не вовремя, – поморщился Максим Брониславович. – Вам скоро отчет сдавать. Кстати, где Виктор Алексеевич?
– Заболел.
– Что с ним? – участливо спросил Френовский.
– Кажется, простудился.
– Что-то молодежь пошла нынче хлипкая.
– Бывает.
– Ну-ну, – миролюбиво согласился Максим Брониславович, подписывая заявление об отпуске.
Через две недели Рыбочкин появился в институте. Первый, кто встретил его на лестнице, был Френовский.
– Что так рано вернулся? – спросил он.
– Отдохнул.
– Я ведь тебе сказал: отпуск разбивать не полагается.
– Своих навестить зашел.
Максим Брониславович ничего не ответил. Сверкнула золотистая оправа очков. Они разошлись.
– Бог мой, даже загорел! – обнял его Базанов.
– Вот, – сказал Рыбочкин, доставая из портфеля письмо.
Базанов пробежал текст глазами.
– Ну молодец, Игорь. Как удалось?
– Плевое дело. Больше всего боялся, что они свяжутся с Френовским по телефону.
– Подписать такое письмо после того, первого?
– Решили, что Френовский переиграл, раз я приехал.
– С главным инженером говорил?
– Да. И опытную партию получил в их присутствии.
Потом разразился скандал. Френовский настаивал, чтобы на Базанова и Рыбочкина наложили административные взыскания. За нарушение трудовой дисциплины. За самовольство. Но никакого нарушения не было. Рыбочкин находился в очередном отпуске. Он мог отдыхать там, где ему хотелось, и так, как считал нужным.
Поневоле стало известно, н а ч т о Рыбочкин вынужден был потратить очередной отпуск и к т о отказал ему в командировке. Выяснилось, что командировочные деньги в институте были и лишь от Максима Брониславовича зависело решение вопроса.
Колесо запущенной Френовским машины закрутилось в обратную сторону. Политическая ситуация в институте менялась на глазах. Пришел новый заместитель директора. С Базановым уже здоровались на лестницах и в коридорах. Наиболее предусмотрительные даже руку жали, заискивающе улыбались и почтительно раскланивались. Базанова начинали бояться. И уважать.
Второй этап войны выиграли базановцы. Заведенные часы адской машины продолжали стучать – теперь уже под кабинетом премьера теневого правительства.
Однако до конца войны было далеко. Еще седина не посеребрила голову доблестного Игоря Рыбочкина, еще Базанов не получил причитающийся ему микроинфаркт, а Френовский – свой первый обширный инфаркт, еще таким зыбким казался достигнутый успех. Пройдет несколько лет, и профессор Базанов признается в минуту усталости:
– Знаешь, Алик, совсем не осталось сил жить. Все у нас хорошо, а вот сил не осталось.
Трудности с заводами продолжались. Кто скажет теперь, какую часть этих трудностей отнести за счет деятельности Френовского, какую – за счет нежелания заводов рисковать, связывая свою судьбу с новым и неизведанным, и какая доля приходилась на отсутствие у Базанова деловой жилки. Ведь лозунги о техническом прогрессе – одно, а заинтересованность в этом прогрессе отдельных заводов, лиц, сторонних организаций – совсем другое. Да и сам технический прогресс может идти в разных направлениях. Технический прогресс – это те же люди. С одними легко работать, с другими – трудно. Вот приходит на завод человек с готовой авторской заявкой – но пока без фамилий авторов – и говорит, что реализация этого предложения требует минимальных усилий, а экономический эффект можно насчитать огромный. Ты только подними шлагбаум, пропусти человека на завод. Он же за это возьмет тебя в долю, впишет в число соавторов.
Другие являются с претензиями, с глобальными идеями, которые требуют существенных перестроек, а главное – суеты. Много работы, документации, затрат, согласований, сложностей.
Можно, конечно, доказать и заставить – не мытьем, так катаньем. Но кому это нужно? Одному-двум авторам, в деле непосредственно заинтересованным? И ведь на всякое действие найдется противодействие – поди преодолей его. Годы уходят, здоровье, жизнь – и ладно, если за п р е о д о л е н и е м, в н е д р е н и е м, рытьем окопов, траншей и бегом в атаку с винтовкой наперевес просматривается цель твоей жизни. А если задачи шире, цель выше, если автомобиль и загородный домик с участком – не единственный и даже не главный предмет твоих вожделений?
На войне не рассуждают, а просто роют окопы и идут в атаку. Но в мирные дни правом выбора пользуются по своему усмотрению.
Я не хочу этим сказать, что победа над Френовским даровала Базанову мир и свободный выбор. Его выбор был обусловлен талантом – читал ли он лекции, посвященные «термодинамической химии», работал ли за письменным столом, – а также слабостью, изношенностью, что ли, той части его личности, которой едва хватило на то, чтобы выиграть войну. Он был совершенно неприспособлен к ней.
Ужас в глазах профессора Базанова на фотографии, увеличенной до натуральных размеров, вызвало пустяковое, можно сказать, обстоятельство, связанное с тем, что в заводских условиях не удалось наладить точную регулировку температуры. Выход казался очевидным: заказать специальные устройства. Нет, не реальный страх перед реально безвыходной ситуацией, тут было что-то другое. Некий усиленный до чудовищных размеров сигнал, пришедший издалека и болезненно воспринятый той избитой, истонченной, кровоточащей тканью, которая отказывалась выдержать малейшую нагрузку. Именно теперь, когда все самое тяжелое осталось позади, вернулся из небытия страх школьника перед экзаменами или постоянный страх студента, уверенного почему-то, что в следующем семестре его непременно отчислят из института за неуспеваемость.
– Знаешь, Алик, совсем не осталось сил. Жизнь вроде налаживается, а сил не осталось. Раньше каждая мелочь возбуждала, тревожила, настораживала. Бывало, выпадет снег, и что-то поднимается изнутри, вот-вот перельется. Такое странное состояние. А теперь – мертвое море, и никакого будущего. Раньше весь мир сопротивлялся. Думалось: одолеть бы его, чего-то достигнуть, добиться – и начнется настоящая жизнь. Скажи, где она? Мир расслабился, сдался. Бери, владей – только зачем? Я чувствую себя побежденным, Алик. Только, ради бога, не утешай, не говори, что это временно. Я сам себя так утешаю, но это неправда. Я выжат, выхолощен, ни на что больше не годен. Все обесцвечено, лишено вкуса, запаха, смысла. Еще одна теория? Очередной эффект? Да кому он нужен? Ну, хорошо, – говоришь себе. – Есть ли у тебя какие-нибудь желания? Их больше нет, Алик. Не осталось.
Мне кажется, базановский организм навсегда запомнил болевые приемы Френовского, состоящие из переносов этапов плана, угроз закрытия темы, и теперь любое затруднение вызывало в нем поистине рефлекторную болезненную реакцию, не устранимую никакими разумными доводами. Виктор походил на молодого человека из прошлого, по принуждению женатого на старой нелюбимой женщине. Брак отбил у него не только все желания и чувства к существам противоположного пола, но с некоторых пор само слово «любовь» заставляло в смертельном страхе сжиматься бедное сердце.
А Рыбочкин считал, что шеф «прошляпил» тему, упустил. Гарышев воспользовался случаем и оттяпал лакомый кусок – давно покушался. Вот у кого вынужденный п е р е н о с э т а п а не вызвал бы не только болезненной реакции – вообще каких-либо эмоций. У Рыбочкина, пожалуй, тоже. И хотя Игорь готов был единолично заниматься практическими вопросами, за тему в целом все равно отвечал бы Базанов, она бы в и с е л а на нем, а его в прошлом могучая шея уже не выдерживала даже пустяковой нагрузки.
Во многих отношениях доведение до логического завершения собственной разработки проще и очевиднее той работы, которую Базанов взвалил на себя, взявшись за организацию лаборатории поисковых исследований. Однако, отравленный успехом, он полагал, что излечить его в состоянии лишь еще больший научный успех. Создавалась ситуация, из которой не было п р а к т и ч е с к о г о выхода.
– Ах, Алик, так хочется успеть сделать что-то еще.
Один из зачастивших в институт корреспондентов спросил его, сколь радостно ощущать себя автором новой, многообещающей теории.
– Радость непродолжительна, – ответил Базанов. – Только в самом начале и в конце, когда ставишь последнюю точку. Потом все уходит куда-то. Я бы посоветовал молодым людям как следует подумать, прежде чем устремляться в науку. Это не столько профессия, обеспечивающая существование, сколько крест, который несешь, подчас не зная, во имя чего. И потом от этого некуда деться. Стоит только начать.
Корреспондент записывал, согласно кивая. Интервью не опубликовали. Я присутствовал как член редколлегии институтской газеты и сопровождающее лицо. В течение двух-трех лет Виктор Базанов оставался бессменным кумиром нашей стенной печати.
Со временем у него появилось несколько аспирантов, и среди них – совсем юный русский мальчик с армянской фамилией Брутян. Жизнь в новой лаборатории со стороны выглядела весьма оживленной. Коллоквиумы, диссертации, статьи. Виктора пригласили в учебный институт читать лекции. Он много ездил, выступал с докладами. Ванечка Брутян тем временем брал быка за рога. Через полгода принес шефу написанную по результатам проделанных экспериментов статью.
Базанов несколько дней ходил возбужденный, радостный.
– Вот настоящий талант, Алик. Дал ему тему, а у него пошло по-другому. За несколько месяцев сделал такое… Прекрасная работа. Сам я уже ни на что не гожусь.
– Ведь это твоя идея. Направление – твое.
Базанов усмехнулся.
– Пусть думает, что все сделал сам, – заметил он не без гордости. – Для него сейчас это важно.
Бедный Виктор!
Занятие наукой он воспринимал как служение. Но служение кому? Чему? И терпеть не мог выспренних слов, вроде: «он служил своему народу и человечеству».
Удивительная вещь. Особенно светлое чувство вызывают во мне воспоминания о бесконечных базановских монологах, некогда утомлявших своей расплывчатостью. Реальная жизнь, повседневные проблемы были гораздо грубее и проще, чем те, которые целиком поглощали Базанова. Нас заботили неустроенность личной жизни, отсутствие денег, квартирные проблемы, семейные неурядицы, производственные конфликты. Базанов же всегда оказывался баловнем судьбы – всегда и во всем. Мог позволить себе жить в облаках, не опускаясь на грешную землю. Он и грешил легко, без надрыва, то есть пользовался и здесь неизвестно за что данными ему привилегиями. Многих это раздражало, но кто бы признался, что завидует ему?
Чему было завидовать? Он страдал и мучился больше любого из нас, только не выплескивал свои настроения на окружающих в виде жалоб, ожесточения, злости, приступов недружелюбия, меланхолии. Они обретали у него внешне обманчивые формы рассеянности, монологов на отвлеченные темы, увлечений случайными женщинами. Ну и, конечно, главное дело его жизни – о, эта обманчивая легкость! – было выстрадано им до конца. Единственным человеком, кто телепатически ч у в с т в о в а л Виктора безошибочно точно даже на расстоянии, была Лариса. Сопоставляя некоторые известные мне и наверняка не известные ей факты, я прихожу к выводу, что причины частых, так беспокоивших Базанова недомоганий жены, сопровождающихся подчас весьма зловещими симптомами, таились не в ней, а в нем. Она стала как бы второй его нервной системой, селезенкой, печенью, легкими, которые в критические моменты брали на себя непосильную для нежного существа нагрузку.
Разбирая фотографии, я ловлю себя на мысли, что хочу создать идеальный образ Базанова. Идеальное начало было в нем, пожалуй, наиболее выразительным, привлекательным, и с моей стороны это не попытка идеализации, а стремление выявить самое характерное и существенное в его натуре.
Идеальный. В капустинской мастерской не было более ругательного слова. Казалось, всем своим творчеством скульптор предостерегал от таящихся в нем опасностей. Мне же хотелось выявить в Базанове именно «идеальное», что могло бы послужить в некотором роде примером будущему. Боюсь, однако, что уже тем, кто придет нам на смену, этот пример покажется пыльным анахронизмом, не несущим в себе ничего жизненно важного, – только мертвым слепком истории, отголоском пустой риторики, которой так злоупотреблял порой наш бедный товарищ.
XVI
Институтские перемены последних лет, в том числе организация новой базановской лаборатории, сопровождались обновлением кадрового состава. Ребята из технических училищ, провалившиеся на вступительных вузовских экзаменах выпускники школ, стажеры и практиканты заполнили институтские комнаты, коридоры, курилки. Лаборатории и отделы постепенно превращались в площадки молодняка. Пришла совсем иная публика. Дело, конечно, не в джинсах, не в длинных волосах мальчиков и не в степени прокуренности семнадцатилетних девочек. Все они или почти все были неправдоподобно молоды, тихи и недисциплинированны. Опаздывали на работу, исчезали среди дня, являясь как ни в чем не бывало, а на замечания вежливо и покорно отвечали:
– Извините, пожалуйста.
Их прощали, им объясняли, их воспитывали. Они со всем соглашались и поступали по-своему. На них писали докладные записки, грозили увольнением, однако это не слишком беспокоило молодых людей. Твердили свое:
– Извините.
Пожалуй, самое удивительное заключалось в том, что их невозможно было обидеть, нащупать слабое место, задеть. Зацепить их разум, совесть и самолюбие. Они признавали свою вину, но не делали никаких позитивных выводов. Как цветок, придавленный камнем, изгибает свой стебель, чтобы, приспособившись к новым условиям, продолжать расти вверх, так и многие из этих ребят воспринимали наши выговоры как некое досадное препятствие, которое ни при каких условиях не могло помешать им тянуться к солнцу. Они приносили с собой на работу кассетные магнитофоны, набивались во время обеденного перерыва в одну из комнат и млели под звуки музыки, которая заменяла им даже еду. В изнуряюще монотонных мелодиях они, казалось, черпали силы и обретали смысл собственного существования.
Им было все равно, где «балдеть». Не этим ли объяснялось то спокойствие и равнодушие, с каким дети-цветы выслушивали наши окрики, замечания, угрозы?
Они безропотно трудились на овощных базах, отправлялись по разнарядке в колхоз, делали любую другую работу, содержательную и бессмысленную, – с одинаковым выражением отчуждения и покорности на лице. Готовы были подчиниться первой встречной силе, не интересуясь, какие побуждения ею движут. Их не смущала собственная беспомощность, и ничто не свидетельствовало об их желании научиться работать лучше.
Одно время меня изводила девица, которой целый день непрестанно звонили по телефону юные, вежливые голоса. Девица договаривалась о каких-то «дисках» и «ти́кетах» на какие-то концерты поп-музыки в Москве и в других городах, куда они вылетали целыми стаями с субботы на воскресенье, выезжали автобусами, а в понедельник являлись на работу только к обеду.
– Извините, пожалуйста.
Возмущенный, я шел к Базанову советоваться, но оказывалось, что и у него работает такая же девочка, и ей целый день звонят, и она посещает концерты в других городах. Откуда они брали деньги, силы, уверенность в будущем?
Конечно, разные попадались ребята; базановский любимец Ванечка Брутян был ненамного их старше. Встречались и серьезные, трудолюбивые, перспективные, но дети-цветы, составляющие некую новую разновидность, прежде всего обращали на себя внимание, доставляли особенно много хлопот.
Кроме музыки они потихоньку занимались куплей-продажей («толка́нием») каких-то импортных мелочей, но не потому, что испытывали жажду накопительства. Им просто нужны были деньги, чтобы жить так, как хотелось, как они успели привыкнуть. Подторговывать, «толкать вещи» было для них столь же естественно, как тянуться к солнцу.
Ни разу не слышал, чтобы они разговаривали о политике, литературе, даже о музыке, которую так любили. О стычках с родителями, обеспокоенными свободным образом жизни отпрысков, дети-цветы сообщали друг другу с той же равнодушно-убийственной интонацией, с какой произносили свое неизменное:
– Извините, пожалуйста.
Как-то я оказался случайным свидетелем разговора двух девушек. Они обсуждали свои дела, не стесняясь моего присутствия. Словно меня не существовало. Это так, видимо, следовало понимать: у них не бывает секретов друг от друга, от родителей и даже от посторонних. Дословно передать тот разговор невозможно. В данном случае я чувствовал себя иностранцем, который в общих чертах понимает, о чем идет речь на чужом языке, но сам объясняться не умеет.
– Мать скандал устроила, – примерно так начала одна. – Утром крик подняла: где была? Я ей: у Коли. У какого еще Коли?
– Ты разве все с Колей? – поинтересовалась другая.
– Нет, – заулыбалась красотка. – Просто мы с Сашей остались у Коли. У него большая квартира. Ну вот. Почему, кричит, дома не ночевала? Я ей: ты-то всегда дома ночуешь? Она и заткнулась.
Они знали, что я слышу. Одна из них работает в моем секторе. Я был для них тумбой, письменным столом, вытяжным шкафом. Отвратительное ощущение. На целый день был выбит из колеи. Что делать? Либо я должен бросить все и заняться воспитанием девчонки, не отпуская ее от себя ни на шаг, либо гнать в шею. Кроме нее у меня еще восемь сотрудников. Душеспасительные беседы не помогают. Выгнать тоже не могу: найти людей сейчас сложно. Отберут ставку, и кого тогда посылать на стройку, в колхоз, на овощебазу?
Иногда становится страшно. На фоне разговоров капустинских приятелей-бородачей о засилии ученых-рационалистов, губителей природы и человеческих душ, расцветают дети-цветы, и я с опаской жду, чем кончится это вселенское озеленение.
Мне приснился странный сон. Откуда-то сверху, с воздуха, с большого расстояния я фотографировал наш институт. Почему-то в поперечном разрезе.
Лабиринты лестниц, коридоров, комнат, и в них – как горох или шарики в детском настольном бильярде – люди. Чей-то палец сжимает пружину, отпускает, и бегут горошины по игральному полю. Встретив препятствие, шарик, устремившийся к пятисоточковой лунке, отскакивает в сторону, к самому борту, и медленно, вхолостую, скатывается вниз. Кто-то занимает лунки в пятьдесят, сто, двести очков. Стукнувшись о шпенек, шарик изменяет траекторию и оказывается в одной из наиболее высокооплачиваемых лунок. Но все это видимость, обман. Сжимающий пружину палец метил не в эти лунки, и совсем не важно, кто их займет. Он целил в главную, нижнюю, ничем внешне не примечательную, окруженную хитроумной системой защиты лунку, которая сто́ит всей игры. Он будет пытаться снова и снова, и опять бо́льшая часть шариков промечется по полю впустую, ударяясь о всевозможные препятствия, а меньшая займет затейливо разукрашенные углубления различного достоинства. Лишь единственный шарик в назначенный срок попадет куда надо и решит исход всей игры.
В праздники, когда подряд выдалось четыре свободных дня, забавы ради я занялся фотомонтажом. У меня скопилось огромное количество пробных фотографий. Жалко было выбрасывать.
Разумеется, я не собирался помещать Базанова в какой-нибудь немыслимой виньетке наподобие директора школы, рядом – соратников-учителей, а ниже – многочисленных учеников в виде небольших овальных изображений. Тем более, что учеников почти не было.
Поскольку с каждого кадра я делал несколько разных отпечатков, то мог теперь свободно вырезать и подгонять друг к другу произвольной формы фигуры, наклеивая их на ватман. Если образовывались щель или разрыв, я вырезал из отходов кусок нужного размера (обычно с размытым или неясным изображением) и заделывал пробел. Первые два дня возился один (жена занималась хозяйством), потом и она заразилась – взялась помогать мне.
Я говорил:
– Светлана, милая, отдохни.
– Мне нужно больше двигаться, – отвечала она.
Мы трудились с утра до вечера, вырезали, клеили, сдирали неудачные фотографии, вновь клеили. Никогда раньше я не увлекался фотоколлажем, да и теперь испытываю к нему как к техническому приему предубеждение. Но в той забаве мне чудился какой-то особый смысл. Возвращаясь к прошлому, я острее ощущал счастье настоящего. Комментируя отдельные фотографии, всматриваясь в любимое лицо жены, я с удивлением обнаруживал, что многое было для нее внове, хотя, казалось, за год совместной жизни мы узнали все не только друг о друге, но и о наших друзьях, сослуживцах, знакомых и родственниках.
У меня не было определенного замысла. И никакой особой причины затевать все это тоже не было, если не считать причиной новое счастье и тепло дома, пришедшее на смену холодным дням одиночества.
Я начал со второстепенных фигур, поместив начальника лаборатории № 35 Льва Меткина из валеевского отдела рядом с начальником 27-й лаборатории Крепышевым. Эту пару с волевыми, сильными лицами удачно соединила вклеенная фотография первого варианта новой очистительной установки. (В своей диссертации Игорь Рыбочкин поместил фотографию другой, более поздней конструкции, а эта так и осталась у меня.) Струйка дыма, поднимающаяся от сигареты, которую держит у самых губ бывший саратовец Лева Меткин, уплывая за кадр, как бы поглощается установкой, и Крепышев на другом ее конце уже дышит свежим, профильтрованным, идеально очищенным воздухом, почти таким, каким дышал в далекой своей провинции, где родился и вырос. Выражение узкого, резко очерченного Левиного лица, его прищуренные глаза (причиной тому то ли дым, то ли свет из окна), как и на фотографиях Рыбочкина, вызывает в памяти образ «стального солдата», но только Рыбочкин неизменно смотрит куда-то вбок, на колбу или под тягу, тогда как жесткий, немигающий Левин взгляд устремлен прямо в объектив. Широкоскулый, развалившийся на стуле Крепышев – своей комплекцией под стать Базанову, каким тот выглядит на маленькой фотографии из личного дела, позаимствованной мной в нашем отделе кадров.
Жаль только, что нет фотографий Меткина и Крепышева пяти-десятилетней давности. Тогда они были такими незаметными в институте мальчиками. Их словно бы и не существовало вовсе до той поры, пока не разразился скандал из-за самовольной командировки Рыбочкина. Гарышев, Крепышев и Лева Меткин появились на арене, когда Максим Брониславович понял, что без пополнения своего войска ему с Базановым не совладать.
С первыми двумя было ясно. В один прекрасный день Гарышева и Крепышева вызвал к себе начальник отдела Станислав Ксенофонтович Кривонищенко. Максим Брониславович при сей беседе присутствовал, как всегда скромно примостившись подле необозримых размеров стола начальника. В течение нескольких минут Станислав Ксенофонтович, пожалуй даже не вникнув как следует в суть происходящего, мямлил нечто расплывчатое насчет того, что давно, мол, пора выдвигать молодежь, доверять ей ответственные участки работы, а затем с видимым облегчением передал слово Максиму Брониславовичу. В свойственной ему сжатой, деловой манере Френовский поведал о том интересном направлении, которое ведется в его лаборатории. (Молодежь, как и весь институт, живо интересовалась вестями с полей сражений, но премьера теневого правительства она выслушала с таким неослабным, почтительным вниманием, будто и ведать не ведала ни о Базанове, ни о том, чем он занимается.) Суть предложения Максима Брониславовича сводилась к следующему. Пусть молодые люди возьмут на себя часть работы, с которой попросту не справляется лаборатория № 29 (то есть лаборатория Френовского, и группа Базанова в частности). Пусть подумают и дадут свои предложения – желательно в направлении разработки новых очистительных систем. Станислав Ксенофонтович в ходе предварительного обсуждения (почтительная улыбка в сторону Станислава Ксенофонтовича) любезно согласился похлопотать в дирекции об открытии долгосрочной, хорошо финансируемой комплексной темы. С начальниками лабораторий все улажено и оговорено. (С ними и оговаривать было нечего. Их просто поставили в известность. Послушные были начальники, царствие им небесное!)
Потом отдельно пригласили Леву Меткина вместе с начальником его отдела, игравшим далеко не первую скрипку в слаженном оркестре Максима Брониславовича Френовского. (Первую скрипку играл Станислав Ксенофонтович, которого за глаза Максим Брониславович ласково называл Стасиком. Отсюда, я думаю, пошло и ласковое прозвище Максик, введенное в обиход базановцами.) Разговор повторился во всех подробностях, будто был записан на магнитофонную ленту.
Таким образом, в новой боевой операции, которую условно можно назвать «козлодрание», главная роль отводилась базановским сверстникам, представителям «новой волны» – молодого в те годы поколения исследователей. Лева Меткин удачно дополнял компанию Крепышева и Гарышева, ибо без него собеседование в кабинете Стасика слишком бы походило на внутриотдельский заговор.
Фотографию Г. В. Гарышева во весь рост я поместил над лабораторной установкой Рыбочкина. Теперь Гарышев шел по ней, как по необозримой казахской степи, откуда около двадцати лет назад приехал поступать в Московский институт химического машиностроения. Самым способным из троицы Гарышев – Крепышев – Меткин был, пожалуй, Лева, а самым трудолюбивым – Г. В. Гарышев. Не случайно Базанов к ним всегда хорошо относился.
Итак, сведенная мной воедино троица в преддверии своего звездного часа с полным сознанием значимости момента приступила к обдумыванию путей оказания помощи лаборатории № 29. Ни один из них не зашел к Базанову. Ни один не подкараулил его у троллейбусной остановки, чтобы поговорить с глазу на глаз. Никто не позвонил домой, чтобы предупредить о готовящемся «козлодрании». Боялись? Не понимали, в какую историю их втягивают?
Почему-то из всей тройки Базанов невзлюбил одного Крепышева, кстати, самого безобидного. То ли в силу ограниченных способностей, то ли из-за природной осторожности Крепышев лишь делал вид, что играет в эту игру. К «козлу» он не притронулся, тогда как Гарышев, по меткому выражению Рыбочкина, «отхватил себе здоровенный кусище». Базанов недолюбливал Крепышева за то, что «от него всегда пахло мылом и ординарностью». Будущий профессор готов был скорее смириться с подлостью, чем с безвредным человеком, от которого «пахнет мылом и ординарностью». В этом был весь Базанов!
И когда на ученом совете института обсуждали скандальную историю с «Рафинитом», Виктор возмущался именно тем, что б е з д а р н ы м людям позволили потратить на бесполезные эксперименты т а к о е количество государственных денег.
Одного не могу понять, как удалось Гарышеву выйти сухим из воды, выпутаться из той истории. «Отхватив кусок» базановской темы, он умудрился стать одним из ярых его сторонников в период прихода к власти «железной пятерки». Ему все сходило с рук, все шло на пользу: травля Базанова, победа Базанова.
Дело, видимо, заключалось в том, что Базанов не видел в нем соперника, конкурента. Их взаимная симпатия зиждилась на добродушно-насмешливом отношении к разного рода ценностям, которые каждый выбрал в качестве жизненного ориентира. Для «железной пятерки», равноправным членом которой был Гарышев, они носили столь распространенный материальный, общежитейский характер, что их и перечислять не стоит, ибо за всю историю цивилизованного человечества здесь мало что изменилось. Отличие Гарышева от остальных заключалось лишь в его способности допустить возможность существования иных богов. Если Гарышев с достойной терпимостью воспринимал базановский идеализм, то остальные либо не верили в него, либо опасались.
Было бы нелепостью утверждать, что Базанов чуждался земных радостей. Вовсе нет. Но он перешагивал через них, как Гулливер через дома лилипутов, а для кого-то завоевание этих радостей стало единственно доступной пониманию философией, л и ч н о выношенной идеей, почерпнутым из л и ч н о г о опыта смыслом бытия за отсутствием иного, более общего, значительного, если не сказать в с я к о г о смысла.
Представляю, как могло раздражать, оскорблять того же Январева или Валеева пренебрежение Базанова к деньгам, должностям, отдельному кабинету с приемной и секретаршей – ко всему, что добывалось великими усилиями и должно было служить свидетельством их заслуг, предметом зависти и уважения. Всякое сомнение в истинности такого рода ценностей означало одновременно сомнение в смысле жизни тех, кто ими владел.
Став начальником отдела, Январев как-то пригрозил Базанову лишением премии. Виктор рассмеялся ему в лицо.
– Неужели ты думаешь, – воскликнул он, – что меня можно этим запугать? Батюшки-светы! Да мне не нужны деньги. Семьдесят копеек на обед и двадцать на дорогу – это все, что мне требуется.
– Если не тебе, то сыну твоему, – сердито заметил Январев.
– И Павлику ни к чему. Уверяю тебя! Чем меньше у него будет денег, тем меньше опасность, что со временем он превратится в дерьмо. Так же, как не нужны они твоей Ирочке.
При упоминании имени дочери у Январева нервически дернулась щека.
У меня оставалось слишком мало свободного места внизу, рядом с фотографией установки, для тех двоих, которые на него претендовали, – Январева, пришедшего на смену отслужившему свое начальнику отдела № 2 С. К. Кривонищенко, и упомянутого начальника отдела № 3 Валеева. Если уж выбирать, то место под установкой по праву принадлежало Январеву, ибо как новый начальник отдела он с некоторых пор стал иметь к затянувшейся теме базановского поискового исследования непосредственное отношение.
Связь Валеева с установкой Рыбочкина – почти символическая. Просто он был одним из тех, кто добивал Френовского, уже сбитого с ног двумя обширнейшими инфарктами.
Не только он. Пришел час, когда все мы так или иначе оказались втянутыми в эту войну: «бывшие» – по одну сторону, «будущие» – по другую.
Но наше участие я расцениваю как открытие второго фронта, исход войны был предрешен. Базанов брал неприятельские укрепления с ходу. Те, кто вступил в действие после успешной защиты им докторской диссертации, заботились уже не столько о победе добра над злом, сколько о разделе сфер влияния сразу после «подписания капитуляции». Именно тогда Гарышев, Крепышев, Меткин, Валеев и Январев торжественно объявили, что находятся на стороне Базанова и считают свои войска его войсками. Тогда же они жестоко подавили последние очаги сопротивления и на оккупированной территории установили свою власть.
Впрочем, со стороны все выглядело куда более мирно и благопристойно. Кто-то заболевал и добровольно отказывался от заведования отделом или лабораторией, другой уходил на пенсию, третий по состоянию здоровья просил перевести его на менее ответственную должность. Молодежь, в том числе «железная пятерка», почетная роль будущего лидера которой volens nolens отводилась Виктору Алексеевичу Базанову, проливала почти искренние, хотя и предусмотренные сценарием, слезы прощания, давала торжественные обеты хранить завещанные традиции. У сходящих со сцены стариков тоже краснели глаза, и на какое-то мгновение всех захлестывала сентиментальная волна любви и всепрощения.








