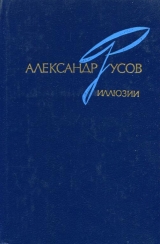
Текст книги "Иллюзии. 1968—1978"
Автор книги: Александр Русов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 26 страниц)
– Запомни, Игорь, – сказал ему как-то Френовский, – работая здесь, ты никогда не защитишь диссертацию.
Собственно, Максим Брониславович лишь повторил пророческие слова старого профессора, сказанные некогда ему самому.
Но на этот раз пророчество не сбылось. Рыбочкин защитил диссертацию и даже стал заведующим лабораторией, по числу сотрудников значительно превышающей бывшую лабораторию Френовского, которого в связи с переменой институтского климата, по состоянию здоровья и по собственному желанию, разумеется, перевели на должность руководителя группы, состоящей из трех человек. После долгих размышлений в дирекции над тем, чем же должно заниматься вновь созданное подразделение, решили, что оно будет дополнительным оперативным звеном между главком и институтом. Таким образом, группа Максима Брониславовича стала чем-то вроде группы по особым поручениям, зондеркоманды или маленькой пожарной команды, в чьи обязанности вменялось тушить время от времени загорающиеся урны с ненужными бумагами. Надо же было придумать для бывшего теневого премьера пристойное занятие.
Вплоть до защиты Рыбочкиным диссертации я не мог понять, почему в течение всех этих трудных лет он не разошелся со своей ворчливой женой. Почему не ушел от нее после очередной пилки? Почему, наконец, она не ушла после очередного его отказа подыскать себе более высокооплачиваемую работу? Абсолютное большинство тех, с кем я учился в институте, кто рано женился или вышел замуж, давно развелись, создали новые семьи, а некоторые за это время несколько раз успели поменять спутников жизни. И какие были пары! Какая любовь! Жить не могли друг без друга. На лекциях сидели, взявшись за руки.
Рыбочкин (его историю поведал мне человек, с которым Игорь учился на одном факультете) как бы насильно себя женил, назло той, которая предпочла другого. Рыбочкина н а с и л ь н о женили обстоятельства, как в старину порой женили своих детей родители.
Перед мысленным моим взором проходит целая череда браков по любви, счастливых, по всем признакам, браков, кончившихся полным, зачастую грубым разрывом. Так быстро почему-то эти прекрасные весенние цветы превратились в кучу гниющей органики.
Случай Рыбочкина озадачивал с двух сторон: семейной и производственной. С одной стороны, не совсем понятно, какая могучая сила удерживала его подле Базанова, чье положение в институте долгие годы оставалось неустойчивым. С другой – что держало его подле женщины, на которой он женился н е п о л ю б в и? Конечно, у Рыбочкина был сын, но кого в наши дни это остановит?
Внутренний голос постоянно подводит меня. Если я заблудился в чужом городе и мне нужно идти, скажем, направо, то я обязательно пойду налево. Но стоит не послушаться внутреннего голоса и пойти в противоположном направлении, как выясняется, что на этот раз внутренний голос не обманывал. Мое представление о людях, почти всегда ошибочно. Сколь редко удавалось сказать себе потом: именно таким (такой) я себе его (ее) представлял!
Мое знакомство с Галей (так звали Игореву жену) состоялось в день празднования Рыбочкиным защиты диссертации. Видно, из соображений экономии он решил устроить вечеринку дома, а не в ресторане. Оппоненты и члены ученого совета вежливо отказались принять участие в пиршестве. (Еще не прошел первый испуг, вызванный ваковскими нововведениями.)
Образ сварливой жены, мещанки, отхватившей себе по счастливой случайности т а к о г о парня, был безнадежно разрушен в первую же минуту знакомства. Прежний недоуменный вопрос пришлось изменить на прямо противоположный: как это Рыбочкину удалось жениться на т а к о й женщине? Впрочем, – подумал я, – Галя знала, за кого выходила замуж. Ей одной ночи хватило, чтобы узнать о нем в с е, что желательно знать будущей жене о своем муже. Рыбочкин, конечно, был тем фундаментом, который выдержит л ю б у ю нагрузку, любую многоэтажность семейной надстройки. Но как выдержала ее она?
Мы уселись за красивый праздничный стол в этом гостеприимном, радушном доме. Вроде как у Ларисы. Однако казавшееся естественным для базановской жены было неожиданно для той, что жила рядом с Рыбочкиным. Даже мелькнула мысль, что две эти до сих пор, кажется, не знакомые друг с другом женщины все трудные годы, подобно мощным магнитам, удерживали своих мужей в поле взаимного притяжения. Несомненно, Игорь рассказывал Гале о своих институтских делах: о Базанове, Френовском, Верижникове. Конечно, она нервничала. Наверняка жаловалась на нехватку денег. Конца войне не видно, в любую минуту их группу могут разогнать, и тогда Игорю придется начинать заново. А годы идут, сын подрастает.
Пили за виновника торжества, за его руководителя, за оппонентов, за присутствующих и за тех, «кто в море». Галя сидела рядом со своим молчаливым мужем, время от времени поднималась из-за стола, что-то приносила, уносила, хотя основную работу делали другие. Размахивал руками Базанов, шумели гости, а она, как девочка после причастия, впервые допущенная в общество взрослых, возбужденно поглядывала по сторонам, смущалась, радовалась, сияла.
Нет, – хотелось мне крикнуть, – никогда не пилила она Игоря! Да и какой он ей муж? Какая она жена? Девочка, невеста. Замолчите! Оторвитесь от своих тарелок и рюмок. Взгляните, какое у нее лицо. Разве такие лица случается видеть вам каждый день?
Я встал. За столом продолжали шуметь, смеяться, чокаться, выпивать. Наконец меня заметил Базанов, конечно же председательствовавший на этом вечере.
– Тише! – по-хозяйски прикрикнул он на разошедшихся гостей и постучал ножом по бутылке. – Алик! Давай!
Волна голосов пошла на убыль, зарокотал отлив, прошуршали камушки на берегу, и все смолкло. В наступившей тишине я произнес что-то очень обычное, стандартное, из банкета в банкет повторяемое, – про жену Рыбочкина, без которой, мол, неизвестно, защитил ли бы он свою диссертацию, про то, что, может, не его, а ее прежде следует поздравить с защитой. И ничего – о девочке-невесте, о сияющих глазах, которые выдавали ее с головой, проливая свет на мучившую меня тайну. Она т а к любила Рыбочкина, как только может любить жена, прожившая со своим нелегким мужем долгую, трудную жизнь.
Потянулись рюмки, раздались возгласы: «Примите наши поздравления!», «За вас, Галя!»
– Молодец, Алик, – хлопал меня по плечу Базанов. – Хоть один мужчина нашелся.
– Я благодарна Виктору Алексеевичу, – призналась мне потом Галя (мы стояли вдвоем, зажатые в угол танцующими). – Игорь такой человек. Вы сами знаете. Без помощи Виктора Алексеевича ему бы трудно пришлось. Игорь всегда в него верил, столько о нем хорошего рассказывал. Ведь не всем так везет с руководителями, правда?
При чем это? – подумал я. – Рядом с такой женщиной последний дурак способен на чудеса. Но Игорь не дурак. Да вы ему цену не знаете, милая Галя. С другим руководителем он бы еще быстрее диссертацию защитил.
Я понимал, что несправедлив к Базанову, но меня понесло с чудовищным ускорением – в бесконечность ее широко распахнутых глаз. Со мной иногда случалось: я терял ощущение времени и реальности. Каждому из них, моих по-разному удачливых сослуживцев, выпало редкое счастье, и внезапные вспышки, когда я готов был бог знает на какие глупости, объяснялись, видимо, чувством зависти, ослеплением ярким светом, направляемым всякий раз не на меня. Не хватало только поцеловать ее на глазах у мужа.
Мы стояли с Галей в углу, у окна, за которым открывалась постепенно поглощаемая ночью городская панорама. Первые ряды бесконечного лабиринта панельных построек начинались прямо через дорогу. Они лепились на пологом склоне, вывернутом, точно лопасть пропеллера. Городской пейзаж напоминал построенную в пустыне гигантскую промышленную установку. Я чувствовал себя пассажиром Аэрофлота, навсегда оставившим где-то там, далеко позади, единственный на белом свете по-старомодному уютный дом, где меня любят, понимают и ждут.
– Чему улыбаетесь? – спросила Галя.
– Вспомнил, как мы с вашим мужем и с Виктором Алексеевичем ехали однажды по пустыне. Он не рассказывал?
– Нет.
– Ехали ночью. Звезды до самого горизонта. Пустота. Шофер остановил машину, заглушил мотор, мы вышли и увидели, что земля маленькая и круглая, а человек – песчинка.
– Страшно?
– Не то чтобы страшно.
К нам подошел Рыбочкин.
– Я рассказываю Гале о том, как мы ездили в пустыню.
– Было дело, – настороженно заметил Рыбочкин.
Столь отвлеченный характер разговора, который я вел с его женой, вряд ли пришелся ему по вкусу. Видимо, он что-то заподозрил. Попытку п о к у ш е н и я. Мы с Галей слишком долго разговаривали.
– Поехал бы снова? – на всякий случай спросил я.
– А на фиг?
– Ну, мало ли. В командировку.
– Запросто.
Передо мной стоял стареющий представитель дворовой шпаны, каким Рыбочкин, несмотря на остепененное положение, по-прежнему становился всякий раз, когда число собеседников превышало одного.
– Говорят, пустыня тянет к себе.
– Может, какого дурака и тянет, – добил последние остатки нашего лирического настроения Рыбочкин.
Как она все-таки могла жить с этим кретином? Пусть он тысячу раз надежен и предан. Как можно с ним жить?
– Мне бы хоть раз побывать там.
– Побываете, – пообещал я. – Попросите Игоря взять вас как-нибудь с собой.
Рыбочкин затянулся сигаретой (обычно он не курил, только когда выпьет, в компании), жестом собственника, охраняющего от порчи цветок, отогнал дым от Гали и, слава богу, на этот раз промолчал. Сына отправили к бабушке, в комнате разрешалось курить.
Если бы мужем ее был не Рыбочкин и мы не отмечали сегодня его защиту, я, честное слово, сам бы предложил Гале поехать в далекий, не знающий прохлады южный городок – в страну несмолкающей музыки, которая, может, сумела бы не только успокоить, примирить с жизнью, но и сделать нас более счастливыми.
XIV
Особенно не любил Рыбочкин рассуждений об искусстве – вообще любых разговоров на эту тему, если только речь не шла о конкретном сюжете книги или картины. Я бы не сказал, что он оставался равнодушным. Напротив, такие разговоры действовали на Рыбочкина как красное на быка. Кем бы они ни велись, он однозначно воспринимал их направленность: они велись п р о т и в него. Тем не менее такие разговоры постоянно происходили в его присутствии, поскольку Рыбочкин в с е г д а находился в комнате, на своем рабочем месте, а Базанов всегда говорил о том, что его занимало в данное время, в частности о тех проблемах, которые он выносил из капустинской мастерской.
Виктор знал эту особенность Игоря, но всякий раз затевал с ним спор. То ли забывал, то ли не мог сдержаться.
Рыбочкин изо всех сил старался отвечать вежливо, но губы его при этом упрямо сжимались, взгляд становился непроницаемым. Словом, базановская несдержанность постоянно таила в себе угрозу п о к у ш е н и я на его, Рыбочкина, суверенные права экспериментатора, человека земного и реалистически мыслящего. Нужно было знать виртуозную способность Виктора связывать между собой разнородные понятия и предметы, чтобы понять причину аллергической реакции, которой крепкий организм Рыбочкина отвечал на подобные провокации. П о к у ш е н и е, исходящее от Базанова, выступало в утонченной (и поэтому наиболее опасной) форме и с к у ш е н и я, желания заразить Рыбочкина тем, чем он вовсе не хотел заражаться. Руководитель и его сотрудник оказались людьми разных культур, различных душевных состояний. Каждый из них прочно обосновался на своей территории и ни за что не желал покидать ее. Если Рыбочкин превосходил Базанова в повседневном, истовом своем труде и размеренном образе жизни, то Базанов, безусловно, был выше Рыбочкина во всем, что касалось наиболее общих проблем бытия. Рыбочкин был скромен, сдержан, обладал обостренным чувством собственного достоинства и питал отвращение ко всякого рода фальши и лжи, а Базанов отличался размахом, начитанностью, восприимчивостью к новым идеям и никогда не затухающим любопытством.
Окажись у Базанова десяток-другой разных учеников, его всегда избыточный педагогический темперамент нашел бы для себя вполне достойный выход и применение, распределился наиболее разумным образом. Он бы не стал пичкать несчастного Рыбочкина тем, в чем нуждались, видимо, другие, увы, не попавшие в число его сотрудников.
Так они мучили друг друга и мучились сами. Победи Базанов, то есть преодолей он, переломи Рыбочкина – и еще неизвестно, чем бы кончилась война с Френовским. То есть известно чем: поражением. Ведь практические результаты, сместившие долговременное равновесие сил в их пользу, были получены Рыбочкиным, которого Базанов тщетно пытался перевоспитать. Так что в определенном смысле всеми этими разговорами, стремлением перестроить практичную натуру Рыбочкина по своему, я бы сказал, романтическому образу и подобию Базанов пилил сук, на котором надежно сидел, готовил себе верную гибель. Но жажда учеников, потребность в родственной душе, желание продолжения – кто осмелится поставить все это в упрек Виктору Базанову?
Теперь многое легче увидеть, понять. Войну с Френовским помогла выиграть не только верность Рыбочкина Базанову, но и верность его самому себе.
Не будь войны, зачем понадобилась бы Игорю маска с т а л ь н о г о с о л д а т а, которая со временем так приросла к лицу, что теперь ее, пожалуй, не отодрать? Все п о к у ш е н и я и и с к у ш е н и я, от кого бы они ни исходили, он отражал с отчаянным упорством. Это был условный рефлекс. Все романтическое, туманное, в практическом отношении неясное, сомнительное он крушил на своем пути с отчаянной решимостью десятилетнего воина, врывающегося с прутиком в высокие заросли крапивы. Какое-то чутье постоянно подсказывало ему, что лишь реальной, вещественной силой, чем-то сугубо практическим можно одолеть вражескую силу. Возможно, гораздо раньше Базанова он понял, что в той войне, которая свалилась на них, живыми в плен не берут и не заключают длительного перемирия. Либо они победят, либо победят их. И все, что мешало двигаться вперед и побеждать, все чувствительное, нежное, тонкое, способное сомневаться, томиться, – короче, все, что ограничивало его не беспредельные силы, он подавлял в себе с мужеством нерассуждающего бойца.
Он подавлял в себе как раз то, что для Базанова, возможно, было единственным источником е г о, Базанова, силы и мужества, что позволяло е м у, Базанову, продвигаться вперед и громить неприятеля.
До чего они были разные! Единственное, что их объединяло, – это великая внутренняя энергия. Каждый смог обнаружить ее в себе и выявить в полной мере, не разменяв на пустяки. Их характеры усугублялись и крепли на этой войне в той же мере, в какой изменялись от взаимодействия друг с другом.
Но в дни, когда стреляли пушки, и позже, когда защищался Рыбочкин и мы праздновали это замечательное во многих отношениях событие, я не учитывал того, что Базанов и Рыбочкин не были такими. Они с т а л и такими. Такими их сделала война, и мирное время было уже не в состоянии что-либо изменить. Железо остыло и больше не поддавалось ковке.
Союз Базанова и Рыбочкина перевернул институт вверх дном, перемешал все слои, вызвал к жизни новые силы, чей приход казался немыслимым еще несколько лет назад. Почти каждый из нашего поколения что-нибудь да получил в результате этой победы: Январев и Валеев – отделы, Базанов, Гарышев, Меткин и Крепышев – лаборатории. Даже меня выделили в отдельный сектор.
Постепенно многое прояснилось, случайное отделилось от неизбежного, осознанное – от стихийного, и характеры главных участников событий воспринимаются теперь, в перспективе времени, несколько иначе, чем виделись в пороховом дыму сражений. Тогда в стычках Базанова с Рыбочкиным я чаще принимал сторону Виктора. Мне претила не только агрессивная позиция Рыбочкина, но и стиль, с помощью которого эта позиция отстаивалась.
Стоит закрыть глаза, и из пульсирующей красноватыми отблесками темноты выплывают две маленькие, как на живом негативе, фигурки, одна из которых в возбуждении размахивает руками, а другая – невидящим взглядом разглядывает содержимое колбы, ковыряет стеклянной палочкой, будто для того только, чтобы всем своим видом выказать презрительное отношение к затеянному разговору. Движущаяся фигурка напоминает распустившего хвост голубя, выделывающего круги возле неприступной голубки. Я вижу только пыль, вылетающую из-под хвоста, и след на земле, похожий на след скрепера.
Звуки и образы расщепляются в памяти. Базанова, рассуждающего о том, что наука – такое же древнее искусство улавливать гармонию, объективно присущую живой и неживой природе, как и скульптура, музыка, литература, я лучше вижу, тогда как редко подающего реплики Рыбочкина – его знаменитое: «Сочинять стихи и музыку хорошо на сытый желудок» – слышу совершенно ясно и отчетливо.
«Искусство, – вдруг поддерживает его Базанов, – повинно во многих недугах современной жизни. Может, наука с ее надежной системой ценностей является сегодня единственным страховочным тросиком, который, в случае падения, спасет нынешнего человека, идущего по канату над пропастью».
И уже вне всякой связи с Рыбочкиным память, как шум далекой волны, доносит до слуха базановские слова: «Я чувствую себя темным, необразованным, мало знающим человеком, отставшим от требований времени. Когда-нибудь это погубит меня».
Особенно странно подобные признания звучали в соседстве с замечаниями Рыбочкина, но Базанов редко соотносил свои высказывания с теми, для кого они предназначались.
Если Виктор, даже греша риторикой, был всегда самим собой, то Игорь, казалось, постоянно играл кого-то другого. Поначалу за вызывающей мальчишеской бравадой мне чудился иной человек, но позже я убедился, что это не так. Он совсем не умел притворяться. Разумеется, не без влияния Базанова, Рыбочкин менялся, оставаясь в главном все тем же.
Злые языки утверждали, будто и он повинен в том, что случилось с Виктором, но в это трудно поверить.
Да, в их совместной жизни был трудный момент. Это произошло вскоре после победы над Френовским и защиты Рыбочкиным диссертации. Связанную с прикладными аспектами проблемы тематику с молчаливого согласия Базанова передали Гарышеву. Было бы наивно утверждать: у Базанова ее отобрали, – хотя сам Виктор иногда представлял это именно так. На самом деле, столкнувшись с первыми же практическими трудностями, походив по инстанциям в связи с внедрением установки, он просто пришел к выводу, что вся эта деятельность не для него. Понял, что не приспособлен к такой жизни. Слишком привык быть независимым, чтобы снова идти в первый класс, менять характер, привычки – вообще начинать заново. Да и зачем? Ради чего?
Освободившись от организационных забот, от требований, связанных с внедрением, Базанов оставил за собой только научную работу. Так возникла лаборатория поисковых исследований. Так возникла трещина в отношениях между учителем и учеником. Базанов стал заведующим лабораторией поисковых исследований, а Рыбочкин остался старшим научным сотрудником. То, что Рыбочкин в поте лица своего сеял многие годы, предстояло жать другим.
Уйти к Гарышеву? В каком-то смысле Игорь был поставлен Базановым в безвыходное положение. И даже при всем том мог ли Рыбочкин желать его гибели?
«Знаешь, Алик, – сказал однажды Базанов, – у меня такое чувство, что я никому не нужен. Раньше не нужен был потому, что Макс хотел от меня избавиться, а теперь – потому что его уже никто не боится».
Одно из последних запомнившихся высказываний В. А. Базанова: «Необходимо установить культурный ценз для тех, кто желает идти в науку. Бездарные статьи, безграмотные диссертации, убогость мышления – сколько все это можно терпеть? Темнота и посредственность прет изо всех щелей. В конце концов, мы загубим то единственное, на что можем рассчитывать в будущем».
Не знаю, кого он имел в виду, когда говорил о цензе, – своих ли студентов, Рыбочкина, новых ли сотрудников, аспирантов и соискателей, – или просто изливал тоску по тому, в чем сам постоянно нуждался. Я почти уверен, что Капустин, за которого он сразу ухватился, скульптурная мастерская и совершенно, в общем-то, бессмысленные стычки с Рыбочкиным – что все это проистекало из мучительной, постоянно не удовлетворяемой тяги Базанова к культуре и знаниям, в которых он испытывал насущную потребность как человек и ученый. Он знал гораздо больше других, но, оторвавшись от среднего уровня, нередко черпающего уверенность в собственной ограниченности, вдруг понял, что знает слишком мало и при той нагрузке, которая с некоторых пор стала пожизненной его судьбой, никогда не наверстает упущенного.
Очередной раз поймав меня в институтском коридоре, потащил за собой.
– Алик, ты понимаешь живопись Рафаэля? – И не дождавшись ответа: – Я – нет. Это ужасно, но он меня не волнует. Целый час простоял в Дрезденской галерее перед «Сикстинской мадонной» – хоть бы что шевельнулось. Представляешь? Иван говорит: «Рафаэля чувствуют немногие. Кто не понимает в искусстве ничего или понимает все». Полукультурным, недокультурным людям Рафаэль недоступен. Видишь ли, Алик, то, что я делаю здесь, – ткнул он пальцем в пол, – каким-то образом связано с тем, что делается там, – почему-то показал он на стену. – Но если я не понимаю главного т а м, какова цена тому, что я делаю з д е с ь? Рафаэль – это пятьсот лет. Проживет ли сделанное мной пятьдесят? И с какой стати работать на такой мизерный срок? Наверняка уровень понимания великих творений оказывает влияние на долговечность того, что делаем мы. Я убежден, что здесь имеется какая-то связь. И у меня ничего не выходит потому же, почему я чего-то не воспринимаю в искусстве. Нам сорок, Алик, а его в тридцать семь уже не было. До чего не хочется повторяться, жить прошлым.
Нет, он не был сумасшедшим, хотя что-то от сумасшедшего в нем, безусловно, было. Гордыня безумца. Безрассудство. Неуправляемость. И в то же время хорошо понимал, кому можно говорить подобные вещи. Со своим Рыбочкиным таких разговоров не вел, а в моем присутствии выговаривался без стеснения. При всей амбициозности и самонадеянности мы так привыкли к ничтожности того, что делаем, так устали от обесцененности высоких слов и от собственного бессилия, с такой безоговорочной легкостью отдали все сколько-нибудь серьезное, существенное, тем более великое, прошлому и с таким снисходительным скептицизмом – будущему, что базановские заботы о бессмертии произвели на меня сильное впечатление.
Помнится, я подумал: «Ты-то, дорогой Виктор, с твоим воловьим упорством и могучими плечами, перед которыми не устоит ни одна дверь, проживешь аредовы веки, ты-то оставишь в жизни след. А вот что делать нам, у кого нет твоего таланта, твоих бицепсов?»
Ту фотографию, где Базанов читает лекцию, следует, видимо, назвать так: «Рассуждения о «термодинамической химии», или «Доводы в пользу аредовых веков».
(Это определение мы вынесли из капустинской мастерской. Глиняные скульптуры библейских долгожителей Ареда и Мафусаила (выставочное название «Старики») стоят на одном из самых видных мест. Когда мы с Наташей ощупью пробирались в направлении чердачка, лишь счастливый случай не оборвал их бесконечную жизнь.)
Если бы речь шла не о фотовыставке, посвященной памяти В. А. Базанова, то рядом с этой фотографией я бы поместил сделанную на заводе и относящуюся к периоду, когда решался вопрос о передаче Г. В. Гарышеву тематики, связанной с опытно-конструкторскими работами и технологическим освоением установки. Их контраст разителен. Вдохновенный лик ораторствующего профессора и лицо беззащитного, растерянного, жалкого человека. «Лицом к лицу с жизнью» – такой печально-насмешливый комментарий мог бы сопровождать второй портрет.
Конечно, в фотографии многое определяется моментом, случаем. Тем не менее оба снимка достаточно характерны, а помещенные рядом, они бы навели зрителя на мысль, которая по мере отбора материалов для выставки становилась все более очевидной: именно то, что служило Базанову источником силы в одной ситуации, делало его совершенно беспомощным в другой.
Основная причина постигшего Базанова несчастья заключалась, пожалуй, в том, что ему, подобно преждевременно сорванному плоду, не дали дозреть, побыть достаточный срок в том состоянии сосредоточенного уединения, отъединенности от всего и всех, в котором он пребывал в период, предшествующий «прорыву из небытия в бытие», в состоянии, из которого с самыми благими намерениями, не жалея сил, пытались извлечь его Январев и К° сначала путем проработки на студенческих собраниях, затем – всеми имеющимися в наличии подручными средствами, включая так называемое «общественное мнение», административные и иные меры воздействия, не без успеха примененные в отношении этого неисправимого, своенравного, во многих отношениях несносного индивидуалиста. Он напрягал все силы, чтобы дозреть, ибо такова была его цель, – но лишь надорвался.
Откуда эта растерянность, жалкость, испуг? Жутковатый снимок. В глазах затаился страх, ужас приговоренного. Сделав несколько пробных отпечатков, я решил взять бумагу большого формата: голова Базанова получалась почти в натуральную величину. Когда на чистом листе, опущенном в проявитель, начали проступать глаза, обрамленные тяжелой оправой очков, мне стало не по себе.
XV
Сложность ситуации, в которой оказалась базановская группа, долгое время усугублялась отсутствием связей с заводами. Френовский, конечно, делал все от него зависящее, чтобы не «пустить» Базанова ни на одно из предприятий, с которыми в процессе многолетнего сотрудничества у него установились дружеские, тесные отношения. Максим Брониславович умел находить выходы из сложных ситуаций, помогать советами, составлять и подписывать от имени института нужные заводу письма, то есть обладал высокой деловой культурой, если можно так выразиться. Все эти качества, как и совместные заявки на изобретения, приносящие авторам немалый доход, связывали заводчан с Френовским прочными узами, которые было не под силу разорвать никаким научным новациям, никаким новым принципам и теориям, во всяком случае, до тех пор, пока премьер теневого институтского правительства оставался на своем посту.
В ту азиатскую командировку, где предполагалось испытать опытную очистительную установку, Базанова и Рыбочкина направил Френовский. Первый этап войны остался позади: созданная Рыбочкиным лабораторная очистительная установка работала, и с этим надлежало считаться.
Нет, Максим Брониславович не препятствовал созданию нового, не ставил личные интересы выше общественных. Напротив, всячески способствовал усилиям базановской группы завершить начатое. Наконец-то Базанов послушался, повернулся лицом к практике. Наконец получены первые практические результаты, которых, собственно, и добивался Френовский. Ведь если разобраться, то все претензии Максима Брониславовича сводились именно к этому – к ускорению темпа работ и к получению практических результатов.
Перелом в войне наступил, часовой механизм взрывного устройства был включен. По расчету Максима Брониславовича, мина должна была сработать примерно через полгода, когда выяснится невозможность выполнения очередного этапа базановской темы и наступит пора подвести окончательные итоги. Как следствие подведения итогов – закрытие темы. Потом останется только засыпать оставшуюся от взрыва воронку землей и пройтись граблями, чтобы ничто не напоминало о прошлом.
Итак, Базанов и Рыбочкин собирались отправиться на юг с целью опробовать идею на практике. Френовский сам занимался оформлением их командировок, ходил в дирекцию, в бухгалтерию, в общий отдел, так что его заинтересованность в работе и в этой поездке на завод была видна всем и каждому.
Во время очередного вечернего чаепития в номере гостиницы Рыбочкин рассказывал:
– Мы едва выбрались сюда. Не давали денег на командировку. Френовский целую неделю выбивал.
– Деньги в институте были, – сказал я.
– Может, в других отделах.
– А у вас почему не было?
Рыбочкин пожимал плечами.
– Ты сам узнавал?
– Мне-то зачем?
Испытания прошли успешно. Когда вернулись в Москву, Максим Брониславович встретил их дружелюбно и непринужденно.
– Как съездили, Виктор Алексеевич?
– Кажется, удачно.
– Жарко, наверно?
– Тридцать восемь в тени.
– Ай-яй-яй! Заключение завода привезли?
– Они вышлют в наш адрес.
– Когда?
– Обещали через неделю.
На том и расстались.
Прошел месяц. Никакого письма. Однажды Рыбочкин сообщил Базанову: прибыл главный инженер завода, сидит в кабинете Френовского, о чем-то они совещаются вот уже около двух часов.
– Может, заглянете, поинтересуетесь, как там наши дела?
Базанов идет к Френовскому. При его появлении разговор Максима Брониславовича с главным инженером замирает.
– Я занят, Виктор Алексеевич. Чуть позже.
– Мне бы, собственно, не только с вами…
– Мы скоро кончим.
– Когда зайти?
– Позвоню.
Не позвонил. Само собой разумеется. Базанов зашел минут через сорок, в кабинете уже никого не было. Рыбочкин бросился на поиски главного инженера. Бегал по всему институту. Не нашел.
Вернулся Френовский. Озабоченный. Рассеянный. Даже как будто расстроенный.
– А я вам собрался звонить. Что-нибудь срочное?
– Хотел выяснить, почему не присылают письмо.
– Кстати, – Максим Брониславович снял очки и усталым движением потер веки, – что-то они не очень довольны результатами. Ничего не получается.
– Как? Мы вместе пробовали. Все было в порядке.
– В порядке? – голос Максима Брониславовича таил сомнение. – Они утверждают другое.
– Почему же не пригласили меня?
– Он очень спешил. Да вы не волнуйтесь, напишут.
Написали. Завод отказывался осваивать предложенную технологию. Френовский ходил с этим письмом по всему институту. Как бы ненароком показывал товарищам. На его столе оно лежало на самом видном, почетном месте.
– Я должен выяснить, Максим Брониславович, в чем тут дело. Рыбочкину или мне необходимо срочно отправиться на завод.
– Сейчас, Виктор Алексеевич, в институте нет денег.
– Деньги есть, я узнавал.
– Есть, но не для вас, – повысил голос Френовский. – Свои вы еще когда истратили. Мы дважды переносили сроки. И потом, Виктор Алексеевич, поздно. Раньше нужно было выяснять.
В тот день они просидели с Рыбочкиным в лаборатории допоздна, выкурив несчетное количество сигарет. Ночью у Базанова случился первый сердечный приступ.
На следующее утром Рыбочкин подал заявление об очередном отпуске. Просил две недели.
– Нет, Игорь, отпуск не полагается разбивать, – сказал ему Максим Брониславович. – Если хочешь, бери целиком. Куда это ты собрался в такое время?
– Отдыхать, – коротко ответил Рыбочкин и переписал заявление.








