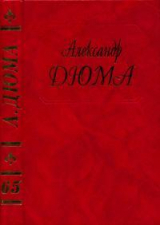
Текст книги "Капитан Арена"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 22 страниц)
Наконец утром, около шести часов, парламентер появился в третий раз: он предлагал полное, окончательное, безоговорочное помилование четверым товарищам Паскуале Бруно; что же касается его самого, то его будущее оставалось неизменным: все та же виселица.
Товарищи Паскуале хотели выстрелить в парламентера, но Паскуале остановил их повелительным жестом.
– Я согласен, – сказал он.
– Что ты делаешь? – воскликнули другие.
– Я спасаю вам жизнь, – ответил Бруно.
– Но ты? – не унимались они.
– Я? – со смехом произнес Бруно. – Да разве вы не знаете, что я переношусь куда хочу, что я по собственной воле становлюсь невидимым и что я всегда неуязвим? Я выберусь из тюрьмы и через две недели присоединюсь к вам в горах.
– Слово чести? – спросили Бруно товарищи.
– Слово чести! – ответил он.
– Тогда другое дело, – сказали они, – поступай как хочешь.
Бруно снова появился у окна.
– Так, значит, ты согласен? – спросил его парламентер.
– Да, но при одном условии.
– Каком?
– Один из ваших командиров станет моим заложником здесь, и я отпущу его лишь после того, как увижу четырех моих друзей совершенно свободными на пути в горы.
– Но ведь тебе дают слово командиры, – возразил парламентер.
– По такому же точно слову шестеро моих дядей были отправлены на каторгу; так стоит ли удивляться, что я принимаю меры предосторожности.
– Но… – начал было парламентер.
– Никаких но, – прервал его Бруно, – либо да, либо нет.
Парламентер вернулся к осаждающим. Командиры тотчас же стали держать совет, взвесили все за и против; в результате этого обсуждения три капитана ополчения тянули жребий: на кого укажет жребий, тот и станет заложником Бруно.
Три бумажки были положены в шляпу: две белые, а третья – испачканная внутри порохом. Черная бумажка и была проигрышной.
Сицилийцы – люди отважные, я уже имел случай сказать это и повторяю вновь: капитан, которому выпала черная бумажка, пожал руку своим товарищам, положил на землю свое ружье и патронную сумку и, взяв, в свою очередь, шомпол с привязанным к нему белым платком, чтобы не оставалось никакого сомнения относительно его мирной миссии, зашагал к двери замка, открывшейся перед ним. За дверью он увидел Бруно и четырех его товарищей.
– Ну что? – спросил заложник. – Ты принимаешь предложенные условия? Как видишь, мы принимаем твои условия и намереваемся выполнить их, раз я здесь.
– Я тоже их принимаю и выполню их, – ответил Бруно.
– И когда четверо ваших товарищей окажутся на свободе, вы сдадитесь мне?
– Вам, и никому другому.
– Без всяких новых условий?
– Только с одним.
– Каким же?
– Я пойду пешком в Мессину или в Палермо, смотря по тому, в какой из этих двух городов меня захотят препроводить, и пусть мне не связывают ни руки, ни ноги.
– Договорились.
– Ну и прекрасно.
Паскуале Бруно повернулся к четырем своим друзьям, обнял их одного за другим и, обнимая, каждому назначил встречу через две недели в горах, ибо без такого обещания эти отважные люди, возможно, не захотели бы его покинуть. Затем, схватив заложника за руку, чтобы тот не попытался ускользнуть, он заставил его под-нятья вместе с ним в комнату, окна которой выходили на горы.
Вскоре четверо товарищей Бруно появились: как было обещано, они вышли с оружием и совершенно свободные. Ряды ополченцев расступились перед ними, и они без помех преодолели живое кольцо, окружавшее маленькую крепость, а затем продолжили путь в горы. Вскоре они углубились в оливковую рощицу, расположенную между замком и первым холмом цепи Пелор-ских гор; потом они показались снова, взбираясь на этот холм, и, наконец, добрались до его вершины. Там все четверо, соединив руки, обернулись к Паскуале, провожавшему их долгим взглядом, и помахали ему шляпами. В ответ Паскуале помахал платком. После этих последних приветствий все четверо бросились бежать и исчезли по другую сторону холма.
Тогда Паскуале отпустил руку своего заложника, которую он крепко сжимал до той минуты, и, повернувшись к нему, сказал:
– Что ж, вы храбрец. Я предпочитаю, чтобы моим наследником стали вы, а не правосудие. Вот мой кошелек, возьмите его, там триста пятнадцать унций. Теперь я в вашем распоряжении.
Капитан не заставил себя просить; положив кошелек в карман, он спросил у Паскуале, не хочет ли тот сделать каких-либо последних распоряжений.
– Нет, – отвечал Паскуале, – хотя, пожалуй, есть одно: мне хотелось бы, чтобы моих бедных четырех псов отдали в хорошие руки. Это славные благородные животные, они сторицей отплатят хозяину за хлеб, который у него съедят.
– Я беру это на себя, – сказал капитан.
– Ну что ж, вот и все, – промолвил Паскуале. – Ах, да! Что касается моей суки Лионны, то я хочу, чтобы она осталась со мной до самой смерти: это моя любимица.
– Договорились, – ответил капитан.
– Ну вот. Больше, я думаю, ничего, – с величайшим спокойствием продолжал Паскуале Бруно. – А теперь пойдем.
И, показывая дорогу капитану, который не мог не восхищаться этой сдержанной, спокойной отвагой, он спустился первым, капитан вслед за ним, и оба в полнейшей тишине подошли к первому ряду ополченцев.
– Вот и я, – сказал Паскуале. – Ну и куда мы пойдем?
– В Мессину, – отвечали три капитана.
– Ладно, пусть будет Мессина, – согласился Бруно. – Так идем.
И он направился по дороге в Мессину, следуя между двумя рядами ополченцев и держась середины дороги вместе со своими четырьмя корсиканскими псами, которые шли с опущенной головой, словно догадываясь, что их хозяин стал пленником.
Понятно, что суд над Паскуале был недолог. Он сам опередил допрос, рассказав всю историю своей жизни. Его приговорили к повешению.
Накануне казни пришел приказ перевести осужденного в Палермо. Джемма, дочь графа ди Кастельнуово, который был убит отцом Бруно, была в большой милости при дворе, и так как она желала присутствовать на казни, то ей удалось добиться, чтобы Паскуале повесили в Палермо.
Паскуале было безразлично, где его повесят – в том или другом месте, поэтому он не выдвинул никаких возражений.
Осужденный был отправлен на почтовых под конвоем жандармского взвода и через два дня прибыл по назначению. Казнь назначили на следующий день, во вторник, и членам коллегии и судейским чинам дали свободный день, чтобы каждый мог присутствовать на этом торжестве.
Вечером в тюрьму пришел священник и увидел очень бледного и ослабевшего Бруно. Тем не менее он исповедался спокойно и твердо, но в конце исповеди признался, что отравил себя и начинает ощущать действие яда. Отсюда и эти удивившие священника бледность и слабость у такого человека, как Паскуале.
Священник сказал Бруно, что готов отпустить ему грехи за все совершенные им преступления, но не за самоубийство. Чтобы грехи его были отпущены, требовалось искупление позором. Из гордости он хотел избежать такого искупления. В глазах Господа это была провинность.
Бруно содрогнулся при мысли, что он может умереть без отпущения грехов. Этот человек, которого не могла смутить никакая человеческая сила, дрожал, как ребенок, перед вечным проклятием.
Он спросил священника, что надо сделать, чтобы избежать этого, и сказал, что все выполнит. Священник тотчас позвал тюремщика и велел ему пойти за врачом и предупредить того, чтобы он взял с собой самые сильные противоядия.
Врач прибежал. Вовремя данные противоядия возымели действие. К полуночи Паскуале Бруно был уже вне опасности, а в половине первого получил отпущение грехов.
На следующий день, в восемь часов утра, он вышел из церкви святого Франциска Сальского, проведя перед этим ночь в траурной часовне, среди пылающих свечей, и отправился на Пьяцца Марина, где должна была состояться казнь. Передвижение сопровождалось всеми страшными атрибутами итальянских казней: Паскуале Бруно был привязан к ослу, двигавшемуся задом наперед, впереди шли палач и его помощник, сзади – члены братства кающихся грешников, несшие гроб, в котором ему предстояло покоиться в вечности, а вокруг – люди в длинных рясах с одними лишь прорезями для глаз, держащие в руках копилки, которые они встряхивали, словно колокольчики, и протягивали верующим, чтобы получить милостыню, предназначавшуюся для заупокойных служб по осужденному.
Скопление народа на улице Кассаро, по всей длине которой должен был проследовать осужденный, было таким плотным, что процессии не раз приходилось останавливаться. И каждый раз Паскуале окидывал спокойным взглядом толпу, которая, чувствуя, что умереть сейчас должен был не совсем обычный человек, следовала за ним со все возрастающим, но почтительным любопытством, и при этом ни одного оскорбления не прозвучало в адрес осужденного; напротив, среди толпы ходило множество рассказов: Паскуале приписывались отважные и добрые поступки, одни из которых восхищали мужчин, другие умиляли женщин.
На площади Четырех Углов, когда процессия в очередной раз сделала остановку, вызванную людскими заторами на улицах, четыре новых монаха присоединились к кающимся грешникам, следовавшим непосредственно за Паскуале. Один из этих монахов приподнял свой капюшон, и Паскуале узнал одного из тех храбрецов, которые вместе с ним выдерживали осаду; он сразу понял, что трое других монахов тоже были его товарищами и что они пришли сюда с намерением спасти его.
Тогда Паскуале выразил желание поговорить с тем из монахов, с кем он обменялся знаками, и монах приблизился к нему.
– Мы пришли спасти тебя, – сказал монах.
– Нет, – отвечал Паскуале, – вы пришли погубить меня.
– Как это?
– Я сдался без всяких оговорок, сдался при условии, что вам сохранят жизнь, и вам ее сохранили. Я такой же честный человек, как они: они сдержали слово, я сдержу свое.
– Но… – продолжал монах, пытаясь переубедить осужденного.
– Замолчи, – сказал Паскуале, – или я скажу, чтобы вас арестовали.
Монах молча вернулся на свое место; затем, когда процессия тронулась, он обменялся несколькими словами со своими товарищами, и на первой же поперечной улице они покинули вереницу кающихся и исчезли.
Процессия прибыла на Пьяцца Марина; все балконы там были заполнены самыми красивыми женщинами и самыми богатыми вельможами Палермо. Один из балконов, расположенный как раз напротив виселицы, был, как в праздничные дни, обтянут парчовой драпировкой; этот балкон предназначался графине Джемме ди Кастель-нуово.
Подъехав к подножию виселицы, палач спешился и установил на поперечной перекладине красный флаг, сигнал казни: Паскуале тотчас развязали, он спрыгнул на землю, сам, пятясь, поднялся по роковой лестнице, подставил шею, чтобы на нее надели петлю и, не дожидаясь, когда палач толкнет его, сам бросился вниз с лестницы.
Вся толпа вскрикнула одновременно; но каким бы сильным ни был этот крик, его намного перекрыл тот, что издал осужденный, так что каждому пришла в голову мысль, будто этот второй крик испустил, покидая тело Бруно, дьявол. Толпу охватил такой ужас, что присутствующие ринулись друг на друга, и в давке, как рассказывал нам капитан Арена, его дядя, который был командиром ополчения, потерял свои серебряные пряжки и патронташ. Тело Бруно было отдано братству белых кающихся, которые взялись похоронить его; но, когда они принесли тело в монастырь и занялись подготовкой к заупокойной службе, явился палач и потребовал голову повешенного; члены братства хотели поначалу воспрепятствовать расчленению трупа, однако палач достал из кармана приказ министра юстиции, гласивший, что голова Паскуале Бруно в назидание другим будет выставлена в железной клетке на стенах баронского замка в Баузо.
Те, кто пожелает более обширных сведений об этом прославленном разбойнике, могут прочитать роман, который я опубликовал о нем, помнится, году в 1837-м или 1838-м. Здесь же просто-напросто изложена его история – такая, какой мне ее рассказал и какую собственноручно подписал в моем путевом дневнике его превосходительство дон Чезаре Аллетто, нотариус из Кальварузо.
СЦИЛЛА
Как только была закончена эта история, записанная в мой путевой дневник и скрепленная подлинной подписью достойного должностного лица, который мне ее рассказал и которого, как можно заметить, сила его разума ставила выше суеверных преданий, в какие так слепо верили матросы из нашего экипажа, мы встали и направились к тем местам, где происходила часть событий, только что развернувшихся на глазах читателей.
Первым пунктом нашего осмотра был родительский дом Паскуале: на этом доме, дверь которого, запертая им, никогда и никем больше не открывалась, лежит печать скорби, вполне соответствующая воспоминаниям, какие он вызывает; стены его покрываются трещинами, крыша оседает, ставень на втором этаже, оторвавшись, висит на одном из петельных крюков. Я попросил лестницу, чтобы заглянуть внутрь комнаты через одно из разбитых стекол, но дон Чезаре предупредил меня, что мое любопытство может быть плохо истолковано жителями деревни и навлечь на меня какие-нибудь неприятности. Поскольку эта обидчивость жителей Баузо была, по сути, выражением почитания, я ничем не хотел оскорблять их и, ради личных моих воспоминаний набросав кое-как рисунок дома, чьи стены таили столько разных несчастий и столько различных страстей, продолжил путь к баронскому замку.
Он расположен в правом конце улицы, если можно назвать улицей ряд садов, или, вернее, полей и домов, ничем не связанных между собой и взбирающихся вверх по небольшому склону. Между тем следует сказать, что огромные купы фиговых и гранатовых деревьев, которые разбросаны вдоль всей дороги и среди которых устремляется ввысь гибкий побег алоэ, придают этому пейзажу особый, не лишенный очарования характер: по мере подъема видишь, как над крышами поперечной улицы появляется сначала дымящаяся вершина Стромболи, потом становятся видны менее высокие, чем он, острова, а затем, наконец, и море, обширное пространство лазури, смыкающееся с лазурью небес.
Баронский замок, напротив которого возвышается один из тех прекрасных каменных крестов шестнадцатого столетия, что в своей грубоватой наготе исполнены особой выразительности, – это маленькое строение, которому его зубцы придают радующий глаз удалой вид. На той стороне, что обращена на крест, есть две клетки, или, вернее, чтобы дать более точное об этом представление, два фонаря без стекол. Одна из двух клеток пуста – это та, где находилась голова отца Паскуале Бруно, которую сын в порыве странного почитания сбросил оттуда, выстрелив в нее из своего карабина; в другой находится побелевший за тридцать пять лет под дождем и солнцем череп: это череп Паскуале Бруно.
Соседнее с клеткой окно было замуровано, чтобы череп не похитили; но Паскуале оставался единственным из своей семьи, и не было предпринято ни одной попытки избавить его останки от этой последней кары.
Впрочем, память о разбойнике была настолько жива в деревне, как если бы он умер накануне. Около дюжины крестьян, узнав о цели нашего приезда в Баузо, вызвалось сопровождать нас в наших розысках и, похоже, испытывая гордость, оттого что слава их земляка пересекла море, каждый из них, в соответствии со своими личными воспоминаниями или устными преданиями, добавлял какие-нибудь характерные черты этой бурной и необычной жизни, которые, словно причудливая пестрая вышивка, добавлялись к строгому историческому наброску, начертанному в моем путевом дневнике нотариусом из Каль-варузо. Среди этой свиты, которую мы вели за собой, был один семидесятичетырехлетний старик: тот самый бедняк, кому Паскуале Бруно заставил вернуть 25 унций; поэтому старик с восторгом говорил о бандите и, по его уверениям, после смерти Паскуале он каждый год заказывал заупокойную службу по нему. И вовсе не потому, добавил он, что тот в ней нуждался, ибо, по его мнению, если уж такой человек не попал в рай, то ни у кого нет права находиться там.
Из баронского замка, следуя по тропинке, проложенной посреди оливковых насаждений, мы углубились влево, на земли поместья, и приблизительно через четверть часа ходьбы оказались на небольшой круглой площадке, в центре которой располагалась крепость Кастельнуово. Это и был дворец Паскуале Бруно.
Крепость находится в состоянии разрухи, соответствующей примерно той, в какой пребывает дом Паскуале Бруно. Покинутая управляющим графа, она после смерти бандита никогда не принимала в свои стены ни одного члена или слугу этого знатного семейства. Ныне лишь нищая женщина в лохмотьях и несколько полуголых детей нашли в ней приют и занимают угол; они живут, словно дикие звери в своем логове, питаясь кореньями, фруктами и ракушками; что касается платы за жилье, то об этом, само собой разумеется, нет и речи.
Старуха показала покои, где жил Паскуале, и комнату, в которой он и его четверо товарищей около тридцати шести часов выдерживали осаду: внешние стены были изрешечены пулями, ставни всех окон и внутренние стены комнаты сильно повреждены. Я сосчитал попавшие в один из ставней пули: их оказалось семнадцать.
Когда мы спустились вниз, мне показали конуру, где были заперты четыре знаменитых корсиканских пса, оставивших в деревне память о себе почти столь же страшную, какой была память об их хозяине.
На постоялый двор мы возвратились в три часа пополудни, и, стало быть, у нас оставалось совсем мало времени, чтобы успеть вернуться в Мессину.
Только в восемь часов вечера я попал в Мессину: это было на полчаса позднее того времени, когда можно было выйти из порта и отправиться спать в Сан Джованни; к тому же своих гребцов я не предупредил, так что каждый из них несомненно составил на вечер какие-то планы, которым мое новое решение сильно помешало бы, и потому я отложил отъезд на следующее утро.
В шесть часов утра Пьетро был у моей двери вместе с Филиппо; остальной экипаж ждал меня в лодке. Хозяин постоялого двора вернул мне мой паспорт с новой визой (это предосторожность, которой никогда не следует пренебрегать, если едешь с Сицилии в Калабрию или из Калабрии на Сицилию), и мы простились с Благородной Мессиной, вероятно, навсегда; на Сицилии мы провели немногим больше двух месяцев.
Наше возвращение в Сан Джованни оказалось не столь быстрым, как отплытие в Паче: переход был тот же самый, но совершался он совсем в ином расположении духа; я предупредил своих матросов, что увожу их еще примерно на месяц, и, за исключением Пьетро, которого никогда не покидало веселое настроение, весь экипаж выглядел довольно печальным.
По прибытии я нашел оставленное Жаденом письмо: в нем сообщалось, что, начав накануне зарисовку Сциллы, он вместе с Милордом и юнгой отправился туда на рассвете, чтобы по возможности закончить ее в течение дня. Я предупредил капитана, что хочу отплыть на рассвете следующего дня; тогда он попросил мой паспорт, чтобы проставить новую визу, и дал обещание быть готовым вместе со всем экипажем к назначенному мной времени. Что касается меня, то, за неимением другого занятия, я направился к Сцилле, чтобы отыскать Жадена.
Расстояние от Сан Джованни до Сциллы примерно пять миль, однако оно кажется гораздо короче из-за живописности дороги, почти везде соседствующей с морем и идущей между рядами кактусов, гранатовых деревьев и алоэ; иногда над ней возвышается какое-нибудь ореховое или каштановое дерево с густой листвой, под сенью которого почти всегда сидят пастушок с собакой, в то время как три или четыре козы, которых он сторожит, своенравно взбираются на какой-нибудь соседний утес или встают на задние ноги, чтобы добраться до первых веток земляничника или каменного дуба. Кроме того, на дороге мне встречались порой группами по две-три девушки из Сциллы – высокие, с серьезными лицами, с красными и белыми лентами в волосах, как те, какие видишь на портретах древних римлянок; с корзинами фруктов или кувшинами козьего молока на голове они шли в Сан Джованни и останавливались, чтобы посмотреть на меня, проходившего мимо, как смотрели бы на какого-нибудь неведомого зверя, и чаще всего начинали громко смеяться, причем без всякого стеснения, над моим нарядом, который, будучи целиком принесен в жертву моему удобству, несомненно казался им весьма странным по сравнению с элегантной одеждой, какую носят калабрийские крестьяне.
В трехстах или четырехстах шагах от Сциллы я нашел Жадена, расположившегося под большим зонтом, с Милордом у своих ног и юнгой рядом; они находились в окружении калабрийских крестьян и крестьянок, в кольце которых лишь с величайшим трудом удавалось поддерживать разрыв со стороны города: из любопытства постоянно придвигаясь поближе, они в конце концов каждые десять минут образовывали живой занавес между художником и пейзажем. И тогда Жаден поступал так, как поступают пастухи: он посылал Милорда в том направлении, где ему нужно было установить просвет в этой толпе, и крестьяне, испытывая глубокий ужас перед Милордом, тотчас расступались, но, правда, минут через десять их кольцо снова смыкалось. Однако, поскольку вид у них при этом был самый благожелательный, сказать тут было нечего.
После дороги у меня разыгрался аппетит, поэтому я сразу же предложил Жадену прервать работу и пойти со мной в город пообедать; но Жаден, желавший закончить свой рисунок в течение дня, принял меры, чтобы не трогаться с места, где он устроился: по его просьбе юнга принес ему хлеба, ветчины и вина, и, когда я пришел, он только что завершил свой collazione1. Тогда я решил пообедать самостоятельно и направился к городу, проявляя меньшую осторожность, чем Эней, и на слово поверив античности, что Сциллу следует бояться, лишь когда приближаешься к ней с моря. Сейчас станет видно, что я жестоко ошибался и что лучше мне было последовать советам Анхиза, хотя даны они были три тысячи лет назад, и не мне, а другому.
Я подходил к городу, любуясь его необычным расположением. Построенный на вершине, он спускается длинной лентой по западному склону горы, затем, сделав поворот наподобие буквы S, тянется вдоль моря, которое обретает в изгибе, образуемом нижней частью города, маленький рейд, где, как мне показалось, могут причаливать лишь рыбачьи лодки и легкие суда вроде сперона-ры. Рейд этот защищен высоким скалистым выступом, на вершине которого возвышается над морем крепость, построенная Мюратом. В сотне шагов от подножия скалы, вокруг нее, причудливо выступает из воды множество рифов весьма странных форм; некоторые из них напоминают вставших на задние лапы собак: отсюда, несомненно, и происходит легенда, доставившая такую страшную известность возлюбленной морского божества Главка.
Благодаря тому, что улица шла вверх, я еще издалека заметил дом, между окнами которого висела вывеска с изображением красного пеликана: символ этой птицы, разрывающей себе грудь, чтобы накормить своих детенышей, показался мне весьма недвусмысленным намеком на обязательства, какие берет на себя хозяин постоялого двора по отношению к путникам, и я, ни минуты не задумываясь, попался на эту приманку. Между тем мне следовало помнить, что пеликан пеликану рознь и что красный пеликан – это не белый пеликан; однако змеиная осторожность, которую мне рекомендовали проявлять в отношении жителей Калабрии, на этот раз изменила мне, и я переступил порог ловушки.
Хозяин принял меня превосходно: попросив указаний относительно обеда и ответив неизменным итальянским subito1, он пригласил меня подняться в комнату, где, и в самом деле, уже поспешно накрывали на стол. Через полчаса вошел сам хозяин, держа в руках блюдо отбивных; увидев меня сидящим за столом и с жадностью набросившимся на закуски, он спросил все тем же медоточивым тоном, есть ли у меня паспорт. Не понимая важности вопроса, я небрежно ответил, что у меня его нет, что в настоящий момент я не путешествую, а просто-напросто прогуливаюсь и потому оставил паспорт в Сан Джованни, выбрав его своим временным местожительством.
Хозяин ответил мне самым что ни на есть успокаивающим Ьепопе!,ая продолжал поглощать обед, который он продолжал подавать мне со все возрастающей учтивостью.
За десертом он вышел, чтобы лично, по его словам, принести мне самые лучшие фрукты из своего сада. Я кивнул, давая понять, что терпеливо жду, как и подобает неплохо насытившемуся человеку, закурил сигарету и предался, провожая взглядом прихотливые завитки дыма, безмятежным и причудливым мыслям, обычно сопровождающим приятный процесс пищеварения.
Я пребывал в состоянии сказочного блаженства, как вдруг услышал звон трех или четырех сабель, раздававшийся на ступеньках лестницы. Вначале я не обратил на это внимания, но так как звон все приближался и приближался к моей комнате, то я, в конце концов, обернулся. В эту самую минуту дверь отворилась и в комнату вошли четверо жандармов: это и был десерт, обещанный мне хозяином.
Должен отдать справедливость городскому ополчению его величества короля Фердинанда: лишь приложив руку к своим треугольным шляпам и назвав меня превосходительством, вошедшие потребовали мой паспорт, которого, как им прекрасно было известно, у меня с собой не было. Тогда я ответил им то же самое, что сказал хозяину, и, словно для них это стало неожиданностью, они переглянулись с видом, означавшим: «Черт! Черт! Ну и скверное дело затевается!» Затем, после обмена этими знаками, капрал повернулся ко мне и, не отнимая руки от шляпы, сообщил моему превосходительству, что он обязан препроводить его к судье.
Поскольку я подозревал, что все эти проявления вежливости приведут в конечном счете к подобному дурацкому предложению, и отнюдь не был склонен пройти по всему городу в сопровождении четырех жандармов, то я подал знак капралу, что хочу поделиться с ним потихоньку неким секретом; он подошел ко мне, и я, не поднимаясь со стула, сказал ему:
– Удалите ваших солдат.
Оглянувшись по сторонам и удостоверившись, что под рукой у меня нет никакого оружия, капрал повернулся к своим приспешникам и сделал им знак оставить нас одних.
– Присаживайтесь, – сказал я капралу, указывая на стул напротив.
Он сел.
– А теперь, – продолжал я, поставив оба локтя на стол и оперев голову о ладони, – теперь, когда мы остались вдвоем, слушайте.
– Я слушаю, – ответил калабриец.
– Слушайте, мой дорогой сержант, ведь вы сержант, не так ли?
– Я должен был им стать, ваше превосходительство, но несправедливость…
– Вы им непременно станете, позвольте же мне приписывать вам это звание, которое вы так или иначе обязательно получите и которого безусловно заслуживаете во всех отношениях. Теперь, – сказал я ему, – мой дорогой сержант, вы не против, раз это ничем не может подорвать ваш авторитет, не так ли, вы не против гаванской сигары, бутылки калабрийского муската и небольшой суммы в два пиастра?
С этими словами я вынул из жилетного кармашка две монеты и покрутил ими перед носом моего собеседника, инстинктивно протянувшего к ним руку.
Это движение доставило мне удовольствие, однако я сделал вид, будто не заметил его и, положив два пиастра в свой карман, продолжал:
– Так вот, мой дорогой сержант, все это к вашим услугам, если только вы позволите мне до того, как препровождать меня к судье, послать за моим паспортом в Сан Джованни. А вы тем временем составите мне приятную компанию, мы покурим, выпьем и даже сыграем в карты, если вы любите пикет или батай; ваши люди для большей безопасности останутся у двери, а чтобы они, со своей стороны, тоже не скучали, я пошлю им три бутылки вина. Надеюсь, это хорошее предложение: оно вам подходит?
– Еще как, – отвечал капрал, – тем более, что оно находится в полном согласии с моим долгом.
– А как же! Неужели вы думаете, что я позволил бы себе неподобающее предложение? Черт возьми! Да я бы на такое не решился, мне слишком хорошо известна строгость войск его величества Фердинанда. За здоровье его величества Фердинанда, сержант! A-а! Вы не можете отказаться, или я скажу, что вы мятежный подданный.
– А я и не отказываюсь, – ответил капрал и протянул свой стакан. – Ну а что будет, ваше превосходительство, – продолжал он, воздав должное предложенному мною тосту за здоровье короля, – что будет, если вам не принесут паспорт?
– О! В таком случае, – отвечал я, – вы все равно получите два пиастра, и в доказательство – вот они, авансом, настолько я вам доверяю, и будете совершенно вольны препроводить меня от бригады к бригаде до самого Неаполя.
И я вручил ему два пиастра, которые он с непринужденностью, доказывавшей его привычку к подобного рода переговорам, положил к себе в карман.
– У вашего превосходительства имеется какое-либо предпочтение в отношении гонца, который должен пойти за паспортом? – спросил меня после этого капрал.
– Да, сержант. С вашего позволения, мне хотелось бы, чтобы один из ваших людей… Подойдите сюда.
Я подвел его к окну и показал ему вдалеке, на большой дороге, Жадена, который, даже не подозревая о том затруднительном положении, в каком я оказался, продолжал в тени большого зонта делать свою зарисовку.
– Мне хотелось бы, – продолжал я, – чтобы один из ваших людей сходил за тем юнгой, видите, вон там, возле джентльмена, который рисует.
– Прекрасно вижу.
– Он отличный ходок, и, если есть возможность дать кому-нибудь заработать три-четыре карлино, я предпочитаю, чтобы их заработал он, а не кто-либо другой.
– Я пошлю за ним.
– Чудесно, сержант. Скажите к тому же, чтобы нам доставили бутылку лучшего муската и дали три бутылки сухого сиракузского вашим людям, и принесите мне перо, чернил и бумагу.
– Сию секунду, ваше превосходительство.
Получив все это через несколько минут, я написал капитану:
«Дорогой капитан, за отсутствием паспорта я стал пленником на постоялом дворе "Красный пеликан " в Сцилле. Окажите любезность и лично принесите мне отсутствующий документ, чтобы я получил возможность предоставить колабрийским властям все сведения морального и политического порядка, какие они пожелают узнать относительно Вашего покорного слуги».
Гитар.
Через десять минут юнгу привели ко мне. Я дал ему мое письмо и вместе с ним четыре карлино, наказав бегом отправиться в Сан Джованни, а главное, не возвращаться без капитана.
Паренек, никогда не располагавший такой суммой, рванулся вперед словно ветер. Через минуту я увидел его из окна: он добросовестно отрабатывал свои четыре карлино; Жадена он миновал мерным бегом; Жаден хотел остановить его, но он лишь показал ему письмо и продолжил свой путь.
А Жаден, желавший непременно закончить начатый рисунок, с обычным своим спокойствием снова принялся за работу.
Что касается меня, то я завел с капралом беседу на моральные, научные и литературные темы, что, похоже, привело его в полный восторг. Беседа эта длилась уже часа полтора и, при всей своей занимательности, явно стала затягиваться, как вдруг я увидел на дороге не одного капитана, а весь экипаж сперонары, приближавшийся бегом; каждый на всякий случай захватил какое-либо оружие, чтобы освободить меня, если потребуется, силой. Один Нунцио остался сторожить судно.








