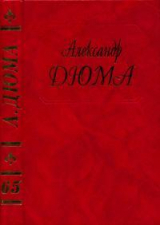
Текст книги "Капитан Арена"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 22 страниц)
Следует тут же сказать, что и ее сердце, и ее мысли были заняты иным. У графа ди Риццари был замок, расположенный всего в нескольких милях от того, где жил граф делла Брука. Старинная дружба связывала двух соседей, и потому они почти всегда гостили один у другого. Граф ди Риццари имел двоих сыновей, и младший из них, по имени Альбано, любил Костанцу и был любим ею.
К несчастью, общественное положение младшего сына в сицилийской дворянской семье довольно печально. Старшему сыну уготована обязанность поддерживать честь имени, и, следовательно, к старшему переходит все состояние. Любовь Костанцы и Альбано не только не радовала обоих отцов, но даже внушала им опасение за будущее. Они решили, что раз Костанца любит младшего брата, то вполне может полюбить и старшего; и бедного Альбано под предлогом завершения образования отправили в Рим.
Альбано уехал в отчаянии тем более сильном, что намерение отца представлялось очевидным. Бедному юноше было уготовано вступить в духовное звание, но чем глубже заглядывал он в себя, тем больше убеждался, что у него нет ни малейшего призвания к церковному служению. И все-таки ему пришлось повиноваться: на Сицилии, отстающей от всех стран на целое столетие, отцовская воля до сих пор остается святой. Со слезами на глазах молодые люди поклялись, что всегда будут принадлежать только друг другу; но, давая такое обещание, и он, и она знали ему цену. Так что оно мало обнадежило их относительно будущего.
И в самом деле, едва Альбано прибыл в Рим и разместился в своем учебном заведении, как граф делла Брука объявил дочери, что ей следует навсегда отказаться от брака с Альбано, которому семьей уготовано вступить в духовное звание, но что взамен, в виде возмещения, она может заранее считать себя супругой дона Рамиро, его старшего брата.
Дон Рамиро был красивый молодой мужчина лет двадцати пяти – двадцати восьми, отважный, элегантный, ловкий во всех физических упражнениях, и ему воздала бы должное любая женщина, чье сердце не было отдано кому-то другому. Но любовь слепа в своих антипатиях так же, как и в своих симпатиях. Всем этим блестящим качествам Костанца предпочитала застенчивую меланхолию Альбано, и, вместо того чтобы благодарить отца за выбор, который он постарался сделать для нее, она так горько и долго плакала, что в итоге было заключено своего рода соглашение: Костанца выйдет замуж за дона Рамиро, но брак этот состоится через год; на том и порешили.
Спустя некоторое время после того, как было принято это решение, кавалер Бруни попросил руки Костанцы по всей положенной форме, однако граф делла Брука ответил ему, что, к величайшему сожалению, он вынужден отказаться от чести союза с ним, так как его дочь обещана старшему сыну графа Риццари и ждали лишь когда Кос-танце исполнится восемнадцать лет, чтобы отпраздновать это бракосочетание.
Кавалер Бруни удалился без единого слова. Несколько человек, знавших мстительный и угрюмый нрав этого человека, посоветовали графу делла Брука остерегаться его. Но прошло шесть месяцев, а о нем ничего не было слышно. К концу этого срока стало известно, что он, похоже, не только утешился после полученного отказа, но и почти открыто живет с бывшей любовницей дона Рамиро, с которой тот больше не встречался с тех пор, как был решен его брак с Костанцой.
Прошло еще пять месяцев. Близился срок, назначенный самой Костанцой; начались приготовления к свадьбе, и дон Рамиро поехал в Палермо покупать свадебные подарки, которые он собирался преподнести своей невесте.
Через три дня стало известно, что между Минео и Аидо-не на дона Рамиро напала шайка грабителей. Сопровождаемый двумя преданными слугами, да и сам отличавшийся храбростью, дон Рамиро решил защищаться; но, после того как он убил двух бандитов, пуля попала ему прямо в лоб и он упал замертво. Один из его слуг был ранен, второму повезло больше: ему удалось уберечься от пуль и от преследования грабителей, и именно он принес печальное известие.
Оба графа вместе со всеми своими кампиери сели на коней и на следующий день в полдень были в Минео. В этой деревне они нашли раненого верного слугу возле его мертвого господина. Погонщики мулов, случайно проходившие по дороге через час после сражения, доставили их сюда обоих.
Граф Риццари, у которого оставалась лишь одна надежда – отомстить, сразу же получил у раненого все сведения, какие могли направить его на верный путь в преследовании убийц; к несчастью, сведения эти были весьма расплывчаты. Грабителей было семеро, и, вопреки обыкновению сицилийских бандитов, на лицах они, наверно для большей безопасности, носили маски. Среди семерых бандитов один был до того маленький и худенький, что раненый счел его женщиной. Когда молодого графа убили, один из бандитов подошел к трупу, внимательно посмотрел на него, а затем, сделав знак самому маленькому и самому худенькому подойти к нему, спросил: «Это в самом деле он?» – «Да», – коротко ответил тот, к кому обращен был вопрос. Потом оба отошли в сторону и, вполголоса поговорив о чем-то с минуту, вскочили на оседланных и взнузданных лошадей, дожидавшихся их наготове возле утеса, и исчезли, оставив другим бандитам заботу осмотреть карманы и дорожную сумку молодого графа, что они и исполнили с большим старанием.
Что же касается раненого, то он притворился мертвым, а так как было естественно предположить, что слуга менее, чем господин, обременен деньгами, то бандиты обыскали его наспех, наверняка удовлетворенные тем, что они нашли у графа. Затем, после этого короткого досмотра, стоившего ему, однако, кошелька и часов, бандиты уехали, захватив в горы трупы двух своих убитых товарищей.
Преследовать убийц не представлялось возможным, и оба графа поручили эту заботу полиции Сиракузы и Катании; в итоге убийцы остались неизвестными и безнаказанными; что же касается дона Рамиро, то его труп доставили в Катанию, и он получил там достойное его место погребения в склепе своих предков.
Это событие, каким бы ужасным оно ни было для обоих семейств, имело тем не менее, как все на свете, и хорошую, и плохую сторону: благодаря смерти дона Рамиро старшим сыном в семье становился Альбано, так что и речи не могло больше идти о его вступлении в церковное звание: отныне именно ему предстояло поддерживать честь имени и продолжать род Риццари.
И потому его отозвали в Катанию.
Мы не станем вглядываться в сердца двух молодых людей: и в самом чистом сердце имеется темный уголок, открывающий туда путь людским слабостям; увидев вновь друг друга, Костанца и Альбано почувствовали, как в этом уголке пробуждается и оживает надежда принадлежать когда-нибудь друг другу.
В самом деле, ничто не препятствовало более их союзу, поэтому такая мысль пришла в голову отцам, как она пришла в голову детям, однако свадьба была назначена на конец глубокого траура, то есть по истечении года.
В это самое время кавалер Бруни, узнав, что Костанца после смерти дона Рамиро вновь стала свободной, возобновил свое предложение. К несчастью, как и в первый раз, он приехал слишком поздно, поскольку, к великому удовольствию двух влюбленных, были уже приняты иные обязательства, и граф делла Брука ответил кавалеру Бруни, что младший сын графа Риццари, став теперь старшим сыном в семье, наследовал от него не только титул и состояние, но и союз, с давних пор намечавшийся между двумя семействами.
Как и в первый раз, кавалер Бруни удалился, не сказав ни единого слова, так что те, кто знал его характер, никак не могли понять подобной сдержанности.
Минули дни и месяцы, весьма отличные для двух молодых людей от дней и месяцев предыдущего года: на 12 сентября была назначена дата окончания траура, и 15-го молодые люди должны были сочетаться браком.
И вот, наконец, наступил этот благословенный день, который, как они полагали в своем нетерпении, никогда не наступит.
Церемония происходила в часовне замка делла Брука. На празднество была приглашена вся окрестная знать; в одиннадцать часов утра молодые люди сочетались браком. Свою судьбу Костанца и Альбано не променяли бы ни на что на свете.
После мессы все разошлись по обширным садам замка, пока колокол не возвестил час обеда. Трапеза была грандиозной: восемьдесят персон собрались за одним столом.
Двери обеденного зала с одной стороны выходили в великолепно иллюминированный сад, а с другой – в просторную гостиную, где все было приготовлено для бала; по другую сторону гостиной находилась свадебная спальня, которую должны были занимать новобрачные.
Бал начался с особым неистовством, отличающим сицилийцев; у них все чувства доходят до крайности: то, что для других народов всего лишь удовольствие, у них – страсть; новобрачные подавали в этом пример, и каждый, казалось, радовался их счастью.
В полночь в гостиную вошли две маски в нарядах сицилийских крестьян; в руках они несли манекен в длинном черном одеянии, похожий на мужчину. Этот манекен, как и они, был в маске, а на груди у него серебром было вышито слово tristizia; на мягком сицилийском наречии, превосходящем по нежной бархатистости итальянский язык, это слово означает «печаль».
Маски вошли медленным шагом и, положив манекен на оттоманку, принялись стенать вокруг него, как это принято делать возле усопших перед их погребением. С этой минуты замысел стал очевиден: после года скорби, в которой пребывали оба семейства, для них открывалось радостное будущее, и маски намекали на эту минувшую скорбь и это будущее, предавая печаль земле. И хотя, наверное, можно было бы выбрать какую-нибудь иную аллегорию, лучшего вкуса, чем эта, хозяин дома тем не менее со всей любезностью принял вновь прибывших; танцы тут же прекратились, все собрались вокруг них, чтобы ничего не упустить из мрачного и в то же время комичного зрелища, которым они столь неожиданно пришли развлечь общество.
И тогда маски, став предметом всеобщего внимания, начали выразительную пантомиму, соединяя стенания с танцами. Время от времени они прерывали свои па, чтобы приблизиться к манекену Печали и, встряхивая его, попытаться разбудить, однако, видя, что ничто не может вывести его из состояния оцепенения, продолжали свой танец, который с каждой минутой становился все более мрачным и унылым. Его фигуры были незнакомыми, ритм – медленным, кружения – длительными, и все сопровождалось печальным, однозвучным пением, постепенно наполнявшим сердца присутствующих тайным страхом, который в конце концов охватил весь зал и стал всеобщим.
В минуту молчания, когда песня перестала звучать, а присутствующие все еще вслушивались в тишину, одна струна арфы лопнула с тем резким и ясным дрожащим звуком, который проникает в сердце. Невеста тихо вскрикнула. Известно, что подобное происшествие обычно считают предвестием смерти.
И тогда чуть ли не в один голос все стали кричать двум танцорам, чтобы они сняли маски.
Но один из них, подняв палец, словно требуя тишины, ответил от своего имени и от имени своего спутника, что они не хотят открываться никому, кроме молодого графа Альбано. Его слова были справедливы, ибо на Сицилии таков обычай: если кто-то приходит в маске на бал или какой-то вечер, то снимает маску лишь для хозяина дома. Поэтому молодой граф открыл дверь соседней комнаты, давая понять маскам, что если от них требуют выдать свой секрет, то секрет этот будет, по крайней мере, известен только ему одному. Два танцора тотчас подхватили манекен и, танцуя, вошли в комнату; граф Альбано последовал за ними туда, и дверь сразу закрылась.
В эту минуту, словно лишь присутствие незнакомцев мешало продолжению праздника, оркестр подал знак к началу кадрили, образовались группы танцующих, и бал возобновился.
Между тем прошло около двадцати минут, но ни маски, ни граф так и не появлялись. Кадриль закончилась при всеобщем смятении, словно каждый почувствовал, что неведомое несчастье нависло над празднеством. Наконец, когда встревоженная невеста собралась просить отца войти в комнату, дверь отворилась и появились обе маски.
Они сменили наряды, надев черное платье на испанский манер; новое платье было более открытым, чем первое, и по тонкости талии одного из незнакомцев можно было догадаться, что это, должно быть, женщина. На руке и на шляпе у них был траурный креп, и, так же как при первом своем появлении, они несли манекен; однако красный покров, в который он был завернут, поднимался выше и спускался ниже, чем в первый раз.
Как и тогда, они положили манекен на оттоманку и снова принялись за свои символические танцы, однако эти танцы приобрели еще более зловещий характер, чем раньше. Оба танцора опускались на колени, издавая печальные стоны, воздевая руки к небу и всеми возможными способами выражая скорбь, которую они начали пародировать. Вскоре эта странно затянувшаяся пантомима стала вызывать беспокойство у присутствующих, особенно у новобрачной; встревоженная отсутствием мужа, она проскользнула в соседнюю комнату, где надеялась его найти; но едва Костанца вошла туда, как послышался крик и она, бледная и дрожащая, вновь появилась на пороге, зовя Альбано. Граф делла Брука тотчас бросился к ней узнать, что ее так напугало, но, не в силах ответить на этот вопрос, она пошатнулась, произнесла какие-то невразумительные слова, показала на спальню и потеряла сознание.
Это происшествие приковало внимание всех присутствующих к молодой женщине: каждый суетился подле нее, одни – из любопытства, другие – из сочувствия. Наконец она пришла в себя и, оглядываясь по сторонам, стала с глубоким страхом звать Альбано, которого никто так и не видел.
Тут только вспомнили о масках и обернулись в ту сторону, где их оставили, чтобы спросить, что они сделали с молодым графом. Но обе маски, воспользовавшись всеобщим смятением, исчезли.
Один лишь манекен остался лежать на оттоманке – застывший, неподвижный, укрытый своим пурпурным саваном.
К нему подошли и, приподняв край савана, ощутили человеческую руку, но судорожно сжатую и похолодевшую; в одну секунду развернули покров, скрывавший манекен, и увидели, что это труп. С него сорвали маску, и все узнали молодого графа Альбано.
Он был задушен в соседней комнате так внезапно и, несомненно, так быстро, что никто не услышал ни единого крика, а убийцы, проявляя хладнокровие, которое делало честь их бесстрастию, положили на брачное ложе кипарисовый венок.
Именно этот венок еще более, чем отсутствие ее жениха, так сильно напугал Костанцу.
Все находившиеся в зале мужчины – родственники, друзья, слуги – бросились вслед за убийцами, но поиски оказались напрасными; замок делла Брука стоял в стороне, у подножия гор, и двум жутким маскам понадобилось не более двух минут, чтобы добраться до гор и скрыться там от всех глаз.
При виде трупа своего возлюбленного Альбано у Кос-танцы начались страшные судороги, длившиеся всю ночь. На следующий день она сошла с ума.
Это помешательство, поначалу буйное, постепенно приняло характер глубокой меланхолии, но, как я уже говорил, барон Пизани не надеялся, что выздоровление Костанцы может пойти дальше.
В 1840 году в Париже я вновь встретил Лукку; он полностью вылечился и сохранил очень ясное и точное воспоминание о моем визите к нему. Первый мой вопрос был о его подруге, несчастной Костанце; но он печально покачал головой. Оба предсказания барона – и в отношении нее, и в отношении него – подтвердились. Лукка обрел свой разум, но Костанца по-прежнему оставалась безумицей.
СИЦИЛИЙСКИЕ НРАВЫ И ИСТОРИИ
Сицилийцы, как и любой народ, каждый раз подвергавшийся завоеванию другими народами, исключительно привержены свободе; однако у них, как и везде, существуют два вида свободы: свобода духовная и свобода физическая. Верхние классы выступают за свободу общественную, низшие классы – за свободу личную. Дайте сицилийскому крестьянину свободу передвигаться по всей Сицилии, имея нож за поясом и ружье на плече, и сицилийский крестьянин будет доволен; он хочет быть независимым, не понимая еще, что значит быть свободным.
Дадим представление о том, каким образом неаполитанское правительство отвечает на два эти желания.
Есть в Палермо большая площадь, которую называют Пьяцца Меркато Нуово. Прежде это было скопление домов, изрезанное узкими темными улицами; там проживало своеобразное население, вроде каталанцев в Марселе, которое называли кончапелле. С незапамятных времен эти люди не платили налогов, и хотя никакого определенного документа относительно этой привилегии не существует, есть все основания полагать, что она восходит к временам Сицилийской вечерни и была дарована им в награду за их действия в тех знаменательных обстоятельствах. Притом они никогда не расставались с оружием: чуть ли не с колыбели получая ружье, они выпускали его из рук лишь перед тем, как сойти в могилу.
В 1821 году кончапелле восстали все вместе против неаполитанцев и творили чудеса, но, когда австрийцы восстановили Фердинанда на троне, генерал Нунцианте был направлен наказать сицилийцев за эту новую Вечерню. Кончапелле ему представили как самых неисправимых в городе Палермо, и потому решено было, что королевская кара падет на них.
И вот в одну прекрасную ночь, когда кончапелле, полагаясь на старинные привилегии, спокойно спали рядом со своими ружьями, генерал Нунцианте приказал нацелить пушки на начало каждой улицы и окружить весь квартал кордоном солдат: проснувшись, бедняги оказались пленниками.
Несмотря на всю их отвагу, у кончапелле не было возможности защититься, и им пришлось сдаться на милость победителя. Первой заботой генерала Нунцианте было отобрать у них оружие: оно было погружено на тридцать тележек, а самих кончапелле изгнали за пределы Палермо, разрешив им возвращаться туда по делам, но лишь днем, и запретив проводить там ночь.
Затем, едва изгнанники оказались за порогом, их дома, под предлогом задолженности по налогам, были конфискованы и снесены.
Место, которое эти дома занимали, образует теперь, как мы уже говорили, площадь Нового рынка Палермо. Я часто пересекал ее, и почти всегда лестница, ведущая на Страда Нуова, была забита этими несчастными: сидя на ступенях, сумрачные и неподвижные, они целыми часами смотрели на пустое пространство, где раньше стояли их дома.
Праздники святой Розалии вызывают огромный энтузиазм на Сицилии, где не слишком щепетильны в отношении Бога Отца, Христа или Девы Марии, но где, однако, культ святых перерос в подлинное поклонение, поэтому их праздники похожи на череду языческих сатурналий. У каждого города есть свой особо почитаемый святой, по отношению к которому от любого чужестранца требуют точно такого же поклонения, а так как почести, воздаваемые этому заступнику, бывают иногда довольно странного свойства, то для любого человека, не понимающего в должной мере этого пронизанного звуками «з» и «дж» гортанного наречия, на котором говорит народ Сицилии, бывает достаточно опасно оказаться в гуще толпы в те дни, когда святые выходят прогуляться. Не так давно, как раз в то время, когда я прибыл в Сира-кузу, некий англичанин стал жертвой совершенной им ошибки по отношению к одному из этих блаженных.
Этот англичанин был морским офицером, сошедшим на берег, чтобы поохотиться в окрестностях города Аугусты. После пяти-шести часов, с пользой посвященных этому занятию, англичанин возвращался с ружьем на плече и охотничьей сумкой за спиной; внезапно на углу какой-то улицы он увидел, что навстречу ему движется с громкими криками исступленная толпа: она тащила на передвижных подмостках, запряженных лошадьми, которые были украшены султанами, и окруженных облаком ладана, огромную золоченую статую святого Себастьяна. При виде этой шумной процессии офицер прижался к стене и, желая увидеть столь новое для него зрелище, остановился, чтобы пропустить святого; но, так как он был в мундире и к тому же еще с ружьем, его неподвижная поза показалась толпе непочтительной, и ему стали кричать, требуя, чтобы он взял на караул. Англичанин ни слова не понимал по-сицилийски, а потому не шелохнулся, застыв, несмотря на полученное приказание, словно античный межевой столб. Тогда толпа стала угрожать ему, выкрикивая невразумительный для него приказ воздать воинские почести блаженному великомученику. Обеспокоенный всем этим шумом, англичанин решил удалиться, однако у него не было возможности преодолеть грозную преграду, возникшую вокруг него: со все более громкими криками и все более возбужденными жестами одни показывали ему на ружье, другие – на святого. Вскоре, однако, англичанин, не понимая, что весь этот гнев обращен против него, ибо он ничего не сделал, чтобы вызвать подобное негодование, подумал, что оно направлено на святого: в книге миссис Кларк он читал, что итальянцы имеют обыкновение оскорблять и бить святых, которыми они недовольны. Это воспоминание становится для него лучом света: очевидно, святой Себастьян совершил какой-то проступок и за это его хотят наказать; а поскольку указания по поводу его ружья продолжались, он решил, что удовлетворить толпу можно, лишь добавив пулю к тем стрелам, которыми был утыкан святой. Поэтому он прицеливается в огромную фигуру и сносит ей голову.
Не успела голова святого упасть на землю, как англичанин уже получил двадцать пять ножевых ударов.
Но не следует думать, что приключения всегда кончаются на Сицилии столь трагичным образом и что если чужестранцы подвергаются там некоторым опасностям, то эти опасности не окупаются.
Один из моих друзей приехал на Сицилию в 1829 году с двумя попутчиками, французами, как и он, и такими же, как он, любителями приключений. Прибыв в конце января в Катанию, наши путешественники узнают, что 5 февраля там состоятся великолепная ярмарка и торжественное шествие в связи с праздником святой Агаты, покровительницы города. Тотчас собравшись, троица французов решает, что повод слишком заманчивый, упустить его нельзя, и они остаются.
Неделя, отделявшая день, когда они приняли это решение, от праздничного дня, прошла в попытках подняться на Этну, дело в ту пору невыполнимое, и в посещении достопримечательностей Катании, на осмотр которых требуется всего день. Поэтому легко понять, что, имея в своем распоряжении более чем достаточно времени, три товарища не пропускали ни одной прогулки, ни одного торжественного кортежа. В итоге их знал весь город.
Подоспел праздник. Я уже слишком часто заставлял своих читателей присутствовать на шествиях, чтобы описывать им еще и этот: крики, гирлянды, фейерверки, снопы разноцветных огней, песни, танцы, иллюминация – недостатка не было ни в чем.
После религиозной процессии началась ярмарка. Эта ярмарка, на которой присутствуют не только все обитатели города, но еще и все жители окрестных деревень, является предлогом для своеобразного обычая.
Женщины кутаются в большую черную накидку и накрывают голову, а затем, такие же неузнаваемые, как если бы на них были домино и маска на лице, эти туппа-нелл и – так их называют – останавливают своих знакомых, собирая пожертвования для бедных; такие пожертвования называются ярмарочным подаяни-е м. Обычно никто в нем не отказывает; это и есть начало карнавала.
Итак, шествие закончилось и началась ярмарка, как вдруг к моему другу – если позволите, я назову Орасом, ибо у меня не было возможности спросить у него разрешения поставить здесь его настоящее имя, поскольку сейчас, полагаю, он находится в Сирии – так вот, повторяю, как вдруг к моему другу, который по своему неведению этого обычая вышел из гостиницы, имея при себе всего несколько пиастров, и опустошил уже свои карманы, подошли две туппанелли, которых по голосам, осанке и по кокетливости накидок, отделанных кружевами, он счел молодыми девушками. Молодые просительницы, как известно, всегда благотворно влияют на сбор пожертвований. Орас более, чем кто-либо другой, поддавался подобному влиянию, и потому он тщательно проверил оба кармана своего жилета и оба кармана брюк, чтобы удостовериться, не уберегся ли от расхищения какой-нибудь дукат. Но поиски оказались тщетными: Орас вынужден был признаться самому себе, что в данную минуту у него нет ни единого байокко.
Как ни унизительно это было, пришлось сделать таковое признание туппанелли; но, несмотря на его правдивость, ответом ему было глубочайшее недоверие. И напрасно Орас протестовал, клялся, предлагал найти своих друзей, чтобы попросить у них денег, или вернуться в гостиницу и порыться в своем денежном сундучке – все его предложения были отвергнуты; он имел дело с неумолимыми кредиторами, на все извинения отвечавшими: никакой отсрочки, никакой жалости, деньги – немедленно, а не то – плен.
Мысль стать пленником двух молодых и, наверное, хорошеньких женщин представлялась не столь ужасной перспективой, чтобы Орас отверг этот mezzotermine[6], предложенный одной из женщин как способ уладить дело. Поэтому он вольно или невольно признал себя пленником, после чего в сопровождении двух туппанелли стал прокладывать путь через толпу, пересекая ярмарку, и в конце концов очутился на углу улочки, которую трудно было распознать в темноте, рядом с изящным, но без гербов, экипажем, куда его заставили подняться. Когда они оказались в экипаже, одна из его проводниц сняла у себя с шеи шелковый платок и завязала пленнику глаза. Затем обе они сели рядом с ним по бокам, каждая взяла его за руку, несомненно, чтобы он не пытался снять повязку, и экипаж тронулся.
Насколько в подобных обстоятельствах можно судить о времени, Орас подсчитал, что ехали они примерно с полчаса, хотя ясно, что это ровным счетом ничего не означало, ведь его стражницы могли дать указание кучеру сделать крюк, чтобы сбить пленника с толку. Наконец экипаж остановился. Орас решил, что настал момент увидеть, где он находится, и сделал движение, попытавшись поднести правую руку к повязке, однако соседка остановила его, сказав: «Еще не время!» Орас повиновался.
Ему помогли выйти, заставили его подняться на три ступеньки, затем он переступил порог, и дверь за ним закрылась. Он сделал еще шагов примерно двадцать, потом ступил на лестницу. Орас насчитал двадцать пять ступенек; на двадцать пятой открылась вторая дверь, и ему показалось, что он вошел в коридор. Он сделал двенадцать шагов по этому коридору и, пройдя в третью дверь, ощутил под ногами ковер. Тут не покидавшие его проводницы остановились.
– Дайте нам честное слово, – сказала одна из них, – что вы снимете вашу повязку, лишь когда пробьет девять часов. Сейчас без двух минут девять, так что ждать вам недолго.
Орас дал честное слово, и проводницы тотчас отпустили его. Вскоре он услышал скрип закрывающейся двери. Минуту спустя пробило девять часов. При первом ударе Орас сорвал с себя повязку.
Он находился в маленьком круглом будуаре в стиле Людовика XV, все еще, как правило, принятом во внутренних покоях сицилийских дворцов. Будуар был затянут розовым атласом с рисунком в виде длинных ветвей, на которых висели цветы и фрукты натурального цвета; мебель, покрытая тканью, похожей на ту, которой были обиты стены, состояла из канапе, одной из тех козеток со спинкой, какие производят еще и в наши дни, из трехчетырех стульев и кресел и, наконец, пианино и стола с французскими и английскими романами, на котором имелись все письменные принадлежности.
Свет проникал с потолка, а рама, сквозь которую он проходил, открывалась снаружи.
Орас заканчивал свое исследование, когда вошел слуга с письмом в руке; слуга был в маске.
Орас взял письмо, поспешно открыл его и прочитал следующее:
«Вы наш пленник по всем законам Божеским и человеческим , а главное, по праву сильного.
Мы можем по собственной воле сделать Ваше заключение суровым или приятным, мы можем поместить Вас в темницу или оставить в будуаре, где Вы находитесь теперь.
Выбирайте».
– Черт возьми! – воскликнул Орас. – Мой выбор сделан; ступайте и скажите этим дамам, что я выбираю будуар, но, как можно предположить, выбор мне предоставляют с каким-то условием, так вот, скажите им, что я прошу сообщить мне это условие.
Слуга удалился, не проронив ни единого слова, а через минуту вернулся со вторым письмом в руке; Орас взял его с не меньшим нетерпением, чем первое, и прочитал следующее:
«Вот при каких условиях Ваше заточение сделают приятным:
Вы дадите слово не предпринимать в течение пятнадцати дней никаких попыток бегства;
Вы дадите слово не пытаться увидеть, пока будете находиться здесь, лиц особ, которые держат Вас в плену;
Вы дадите слово, что, ложась спать, погасите все свечи и не оставите никакого скрытого света.
При исполнении этих обязательств Вы получите по истечении пятнадцати дней свободу, не платя выкупа.
Если эти условия Вам подходят, напишите внизу:
«Приняты под честное слово». А так как нам известно, что Вы француз, мы доверимся этому слову».
Ввиду того, что в конечном счете выдвинутые условия были не слишком суровыми и, похоже, обещали некоторое возмещение за его пленение, Орас взял перо и написал:
«Принимаю под честное слово, полагаясь на великодушие моих прекрасных тюремщиц.
Орас».
Затем он вернул договор слуге, который тут же исчез.
Минуту спустя пленнику почудились звуки передвигаемого столового серебра и бокалов; он подошел к одной из двух дверей, которые вели в его будуар, и, приложив к ней ухо, удостоверился, что по другую ее сторону накрывают на стол. Необычность положения, в какое он попал, не давала ему до тех пор вспомнить о голоде, и он почувствовал признательность к своим хозяйкам, подумавшим об этом за него.
Впрочем, он не сомневался в том, что обе туппанелли составят ему компанию во время трапезы. В таком случае они были бы чересчур хитры, если бы не позволили ему, завсегдатаю балов в Опере, мельком увидеть руку, краешек плеча или подбородка, с помощью которых он, подобно Кювье, смог бы восстановить весь облик этих особ. К несчастью, эта первая надежда была обманута: когда слуга открыл дверь, соединяющую будуар со столовой, пленник увидел, что, хотя ужин, судя по количеству блюд, был рассчитан на три или четыре персоны, на столе стоял только один прибор.
Тем не менее, весьма расположенный воздать должное трапезе, Орас сел за стол. В исполнении этого похвального намерения ему оказывал содействие слуга в маске, который, следуя правилам челяди из хорошего дома, опережал любое его желание. В итоге Орас поужинал отлично и, благодаря сиракузскому вину и ли-парийской мальвазии, за десертом оказался в самом веселом расположении духа, в каком только может оказаться узник.
Покончив с трапезой, Орас вернулся в будуар. Вторая дверь тоже была открыта; она вела в очаровательную небольшую спальню, стены которой были сплошь покрыты фресками. Эта спальня соединялась с туалетной комнатой. Тут и заканчивались покои, ибо никакого видимого выхода из туалетной комнаты не было. Таким образом, пленник имел в своем распоряжении четыре помещения: упомянутую туалетную комнату, спальню, будуар, являвшийся одновременно гостиной, и столовую. Именно столько и требовалось холостяку.








