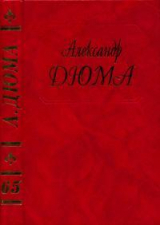
Текст книги "Капитан Арена"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 22 страниц)
Часы пробили полночь: настало время сна. Поэтому, тщательно осмотрев свои покои и удостоверившись, что дверь в столовую закрылась за ним, узник вернулся в спальню, лег в постель и, согласно полученному предписанию, старательно задул обе свечи.
Хотя узник признал превосходство кровати, в которой улегся, над всеми прочими кроватями, которые ему попадались со времени его пребывания на Сицилии, он продолжал бодрствовать: то ли потому, что странность его положения прогнала сон, то ли потому, что ожидал какого-то нового сюрприза. И в самом деле, примерно через полчаса или три четверти часа ему показалось, будто он слышит скрип скользящей деревянной панели, затем что-то вроде тихого шуршания шелкового платья; наконец, под легкими шагами скрипнул паркет, шаги приблизились к его кровати, но на некотором расстоянии замерли, и снова все стихло.
Орас слышал много разговоров о привидениях, выходцах с того света и призраках, и ему всегда хотелось их увидеть. То был как раз час вызывания духов, и Орас питал надежду, что его желание наконец-то сбудется. А потому он протянул руки в ту сторону, где ему послышался шорох, и его рука встретила чью-то руку. Но и на этот раз надежда на встречу с обитателем иного мира не сбылась. Рука эта, маленькая, тонкая и дрожащая, принадлежала живому телу, а не какой-то тени.
К счастью, узник был одним из тех оптимистов со счастливым характером, которые никогда не просят у Провидения больше того, что оно расположено им даровать. Из этого следует, что ночному посетителю, кем бы он ни был, не пришлось жаловаться на оказанный ему прием.
Проснувшись, Орас огляделся вокруг, но никого не увидел. Ни малейшего следа от таинственного посещения не осталось. Ему показалось лишь, что он слышал, будто во сне, как кто-то сказал: «До завтра».
Соскочив с кровати, Орас подбежал к окну и открыл его; оно выходило во двор с высокими стенами, поверх которых ничего нельзя было увидеть, и потому пленник остался в сомнении: находится ли он в городе или за его пределами.
В одиннадцать часов дверь в столовую отворилась, и Орас вновь увидел слугу в маске и обнаружил готовый завтрак. За завтраком он попробовал расспросить слугу, но, на каком бы языке ни задавались вопросы – английском, французском или итальянском, – верный слуга неизменно твердил non capisco[7].
Окна столовой выходили на тот же двор, что и окна спальни. Стены всюду были одинаковой высоты, так что ничего нового и здесь узнать было нельзя.
Пока он завтракал, спальня оказалась прибранной, словно по волшебству.
День прошел за чтением и музыкой. Орас сыграл на пианино все, что знал на память, а с листа – все, что нашел из романсов, сонат, партитур и прочего. В пять часов был подан обед.
Та же прекрасная кухня, то же молчание. Орас предпочел бы* получить чуть менее вкусный обед, лишь бы иметь возможность с кем-нибудь поговорить.
Лег Орас в восемь часов, надеясь ускорить появление ночной гостьи, на которое он рассчитывал, дабы вознаградить себя за дневное одиночество. Как и накануне, свечи были старательно погашены, и, как накануне, по прошествии получаса он действительно услышал легкий скрип панели, шуршание платья, шум шагов по паркету; как и накануне, он протянул руку и встретил чью-то руку: однако ему показалось, что эта рука была не той, что накануне; та была маленькая и тонкая, а эта большая и пухлая. Орас был человеком, способным оценить такое внимание своих хозяек, которые хотели, чтобы одна ночь не походила на другую.
В следующий раз он вновь обнаружил маленькую ручку, через день – пухлую, и так в течение всех четырнадцати дней, или, вернее, четырнадцати ночей.
На пятнадцатую ночь он обнаружил две руки вместо одной. Около трех часов утра две эти руки надели ему каждая по кольцу на палец; затем, после того как ему было велено снова дать честное слово не пытаться снять платок, которым они повяжут ему глаза, обе хозяйки призвали его готовиться к отъезду.
Орас дал честное слово. Десять минут спустя глаза его были завязаны, а еще через четверть часа он оказался в экипаже, сидя между своими двумя тюремщицами; через час экипаж остановился, и Орас ощутил, как та и другая рука своим пожатием простились с ним навсегда.
Дверца открылась. Едва соскочив на землю, Орас сорвал повязку, закрывавшую ему глаза, но не увидел ничего другого, кроме все того же кучера, того же экипажа и двух туппанелли, да и времени разглядеть их у него не было, ибо в ту минуту, когда он снимал платок, экипаж стремительно помчался прочь. Впрочем, доставили Ора-са на то же самое место, откуда взяли.
Орас воспользовался первыми проблесками рассвета, чтобы сориентироваться. Вскоре он очутился на ярмарочной площади и узнал улицу, которая вела к его гостинице: увидев его, коридорный громко вскрикнул от радости.
Все думали, что Ораса убили. Два товарища пропавшего прождали его целую неделю; но, видя, что он не появляется и что о нем ничего не слышно, они, в конце концов, потеряли всякую надежду; тогда они сделали заявление властям об исчезновении своего приятеля, вещи его передали на хранение хозяину гостиницы, а на тот маловероятный случай, если Орас вновь появится, оставили письмо, где указывали ему путь, по которому собирались следовать.
Орас пустился в погоню за ними, но догнал их лишь в Неаполе.
Верный своему слову, он не стал предпринимать попыток разузнать, кому принадлежали тонкая и пухлая руки.
Что же касается двух колец, то они были совершенно одинаковы, поэтому их нельзя было отличить одно от другого.
За несколько лет до нашего путешествия произошло одно событие, которое вызвало большой скандал: событием этим была ни больше ни меньше как война между двумя монастырями одного и того же ордена. Однако один из них был монастырем капуцинов, а другой – монастырем терциариев. Действие происходило в Сан Филиппо д'Арджиро.
Оба строения соприкасались: стена двух садов была общей, и, по-видимому из-за такой близости, соседи ненавидели друг друга.
У капуцинов был великолепный сторожевой пес по имени Дракон, которого они спускали по ночам в свой сад, опасаясь, что кто-то украдет там плоды. Непонятно, как это произошло, но только однажды он перебрался из одного сада в другой. Но уж если монахи ненавидят, то ненавидят всерьез: не имея возможности отомстить своим соседям, они отыгрались на бедном Драконе, до смерти избив его палками и бросив затем через стену.
При виде трупа собаки великая скорбь охватила общину, поклявшуюся отомстить тем же вечером.
И действительно, весь день капуцины провели, запасаясь оружием и боеприпасами; они собрали все, что можно было найти по части сабель, ружей, пороха и пуль, и приготовились в тот же вечер брать приступом монастырь братьев-терциариев.
Со своей стороны, братья-терциарии были предупреждены об этом и настроились на оборону.
В шесть часов капуцины под водительством своего настоятеля взобрались на стену и спустились в сад братьев-терциариев: те ожидали их со своим настоятелем во главе.
Началась битва, длившаяся больше двух часов; наконец, после героического сопротивления, монастырь терциариев был взят приступом, и побежденные монахи разбежались по окрестным полям.
Два капуцина были убиты на месте: отец Бенедетто из Пьетра Перциа и падре Луиджи из Сан Филиппо. Первый получил две пули в нижнюю часть живота, а второй – пять пуль, две из которых пробили ему грудь навылет. Со стороны терциариев два молодых брата-мирянина были настолько серьезно ранены, что один скончался от своих ран, а другой оправился с большим трудом; что же касается легких ранений, то их даже не считали: немного нашлось бойцов с обеих сторон, которые не получили хотя бы одно.
Легко понять, что дело замяли: если бы оно дошло до суда, то выглядело бы чересчур скандальным.
Обратимся теперь к временам более далеким.
В конце прошлого века жил в Мессине судья по имени Камбо; это был вечный труженик, человек честный и добросовестный, словом, магистрат, которого уважали все, кто его знал, и упрекнуть которого можно было лишь в том, что он слишком буквально понимал законодательство, определявшее в ту пору жизнь Сицилии.
И вот однажды утром Камбо поднялся до зари, чтобы приняться за работу, и вдруг слышит, что на улице зовут на помощь; он бросается к своему балкону и открывает окно как раз в ту минуту, когда какой-то человек наносит другому удар кинжалом. Человек, получивший удар, упал замертво, а убийца, которого Камбо не знал, но лицо которого он успел рассмотреть, убежал, оставив кинжал в ране; в пятидесяти шагах от места убийства он бросил стеснявшие его ножны кинжала, а затем кинулся на поперечную улицу и исчез.
Через несколько минут из дома выходит подручный булочника, натыкается ногой на ножны, подбирает их, рассматривает, кладет в карман и идет своей дорогой. Поравнявшись с домом Камбо, который по-прежнему стоял, спрятавшись за жалюзи своего балкона, он оказывается возле убитого. Первым его побуждением было посмотреть, не может ли он оказать ему помощь; приподняв его, он понимает, что тот уже мертв; в эту минуту слышатся шаги патрульных, подручный булочника думает, что он вот-вот окажется замешанным как свидетель в деле об убийстве, и бросается в приоткрытый проход между домами. Однако движение его было не столь быстрым, чтобы остаться незамеченным: патрульные подбегают, видят труп и окружают дом, куда, как они полагают, вошел убийца. Булочник арестован, у него обнаруживают найденные им ножны, сравнивают их с кинжалом, оставшимся в груди убитого, – футляр и клинок в точности соответствуют друг другу. Сомнений нет: пойман убийца.
Судья все видел: убийство, бегство убийцы, арест невиновного, и все-таки он молчит, никого не окликает и, не противодействуя этому, позволяет увести булочника в тюрьму.
В семь часов утра судья официально уведомлен начальником полицейской стражи о том, что произошло; он выслушивает свидетелей, составляет протокол, отправляется в тюрьму, допрашивает арестованного, записывая с абсолютной точностью свои вопросы и его ответы: само собой разумеется, несчастный булочник стоит на своем и полностью отрицает все обвинения.
Начинается судебное разбирательство: Камбо председательствует в суде; свидетели заслушаны и продолжают показывать против обвиняемого; но основная улика против него – найденные при нем ножны, в точности соответствующие кинжалу, который был обнаружен в ране; Камбо давит на обвиняемого всеми способами, задает ему тысячу вопросов, которыми судья обычно запутывает виновного. Булочник по-прежнему все отрицает, за отсутствием свидетелей взывает к Небу, клянется всеми богами, что он невиновен, и тем не менее видит, как, благодаря красноречию представителя прокуратуры, против него собирается множество полудоказательств, достаточных для того, чтобы потребовать применения пытки. Такое требование было направлено Камбо, и он написал внизу документа: «Согласен».
На третий день пыток дыбой мука становится такой нестерпимой, что несчастный булочник, не в силах больше сносить ее, заявляет, что он и есть убийца. Камбо выносит смертный приговор.
Осужденный просит о помиловании: просьба отклонена.
Через три дня после отклонения просьбы о помиловании осужденный был повешен!
Прошло полгода: настоящего убийцу арестовали в тот момент, когда он совершал другое убийство. В свою очередь осужденный, он признает тогда, что вместо него был казнен невинный и что это он совершил первое убийство, за которое повесили несчастного булочника.
– Но самое удивительное то, – добавил он, – что приговор был вынесен судьей Камбо, который должен был все видеть, так как сквозь жалюзи он прекрасно разглядел произошедшее.
Задали вопрос судье, не пытается ли осужденный обмануть правосудие; Камбо ответил, что все сказанное – абсолютная правда и что он действительно от начала до конца был зрителем кровавой драмы, происходившей у него под окном.
Король Фердинанд, находившийся тогда в Палермо, узнает об этом странном случае. Он повелевает привести к нему Камбо.
– Почему, – спросил он его, – став свидетелем всех подробностей убийства, ты позволил осудить невиновного и не разоблачил истинного преступника?
– Потому, государь, – отвечал Камбо, – что закон не оставляет сомнений: в нем говорится, что судья не может быть ни свидетелем, ни обвинителем; так что я поступил бы незаконно, если бы обвинил преступника или свидетельствовал в пользу невиновного.
– Но ты мог бы, по крайней мере, не осуждать его, – сказал Фердинанд.
– Нельзя было поступить иначе, государь: улик набралось достаточно, чтобы применить к нему пытку, а во время пытки он признал себя виновным.
– Верно, – согласился Фердинанд, – это не твоя вина: виновата пытка.
Пытку отменили, а судью оставили на прежней должности.
Странный был человек король Фердинанд; мы еще встретимся с ним в Неаполе и тогда поговорим о нем.
Одна из особенностей, которые более всего удивили меня по прибытии на Сицилию, это разница характера неаполитанского и характера сицилийского: один день плавания разделяет две столицы, пролив в четыре мили разделяет два королевства, а можно подумать, что они находятся в тысяче льё друг от друга. В Неаполе вас ожидают крики, жестикуляция, нескончаемый и беспричинный шум; в Мессине или в Палермо вы вновь обретете тишину, сдержанность жестов и чуть ли не молчаливость. Спросите о чем-нибудь жителя Палермо: ответом вам будет знак, слово или, как исключение, фраза; спросите неаполитанца, и он не только ответит вам пространно и многословно, но еще и сам, в свою очередь, тут же станет расспрашивать вас, и вы уже не сможете от него отделаться. Житель Палермо тоже кричит и жестикулирует, но только в минуты гнева и страсти, а неаполитанец – всегда. Обычное состояние одного – это шум, привычное состояние другого – молчание.
Две отличительные черты сицилийца – это отвага и бескорыстие. Князь ди Бутера, которого можно назвать образцом знатного палермского вельможи, за один день подал пример обеих этих добродетелей.
В Палермо произошел бунт, и привел к этому бунту денежный кризис. Народ буквально умирал от голода и рассудил так: уж лучше умереть от пули или пушечного ядра, ибо агония в таком случае будет не столь долгой и менее тягостной.
Король и королева, у которых и на себя не хватало денег, не могли купить зерна и не хотели снижать налоги, а потому нацелили пушки на все улицы, собираясь ответить народу этим ultima ratio regum[8].
Одна из пушек обороняла подступы к улице Толедо в том месте, тде она выходит на площадь Королевского дворца: народ шел приступом на дворец и, следовательно, шел прямо на пушку; артиллерист с зажженным фитилем стоял наготове, однако народ продолжал двигаться вперед; и тогда артиллерист подносит фитиль ближе к запалу, но в эту минуту князь Эрколе ди Бутера выходит из поперечной улицы и, не говоря ни слова, не подавая никакого знака, садится на жерло пушки.
А так как это был самый популярный человек на Сицилии, то народ, узнав его, разражается криками радости.
Князь подает знак, что он хочет говорить; артиллерист, пришедший в изумление после того, как он трижды пытался поднести фитиль к запалу, а князь даже не обращал на это внимания, опускает фитиль к земле. Народ смолкает, словно по волшебству: он готов слушать.
Князь произносит длинную речь, в которой объясняет народу, как двор, изгнанный из Неаполя, разоренный англичанами и не имеющий других доходов, кроме сицилийских, сам умирает от голода. Он рассказывает, как король Фердинанд ходит на охоту, чтобы прокормиться, и что сам он несколько дней назад присутствовал на обеде у короля, и этот обед состоял лишь из убитой им дичи.
Люди слушают, признают справедливость рассуждений князя ди Бутера, разряжают свои ружья и, перекинув их через плечо, расходятся.
Фердинанд и Каролина все видели из своих окон: они велят привести князя ди Бутера, который теперь весьма обоснованно говорит им о том, что казна приведена в расстройство. И тогда оба монарха в один голос предлагают князю ди Бутера должность министра финансов.
– Ваше величество, – отвечает князь ди Бутера, – мне никогда не приходилось ничем управлять, кроме своего состояния, и я его промотал.
С этими словами князь откланялся королевской чете, которую он только что спас, и удалился в свой дворец на Пьяцца Марина, будучи королем в большей степени, чем король Фердинанд.
В 1818 году, через три года после неаполитанской Реставрации, на Сицилии упразднили майораты и субституции; такое нововведение сразу разорило всех богатых вельмож, не обогатив их арендаторов; в выигрыше оказались одни лишь кредиторы.
К несчастью, такими кредиторами почти сплошь были евреи и ростовщики, дававшие ссуду под сто и сто пятьдесят процентов людям, которые сочли бы для себя бесчестьем вмешиваться в их дела; некоторые никогда ногой не ступали в свои владения, безвыездно оставаясь в Неаполе или Палермо. У князя ди П… спросили как-то, где находятся земли, имя которых он носит.
– Толком не знаю, – отвечал он. – Думаю, где-то между Джирдженти и Сиракузой.
Они находились между Мессиной и Катанией.
До того, как были введены французские законы, после смерти сицилийского барона его наследник, которому не приходилось принимать наследство условно, чтобы не отвечать по долгам покойного своим имуществом, начинал с того, что завладевал всем, а затем посылал кредиторов ко всем чертям. Тогда кредиторы, со своей стороны, соглашались удовольствоваться процентами; предложение казалось разумным, и на это шли: нередко, когда такое предложение поступало, кредиторы, благодаря огромным процентным ставкам, под которые ссужались деньги, к этому времени уже возвращали свой капитал, и все, что они получали теперь, было, таким образом, чистой “прибылью, которой они с готовностью довольствовались за неимением лучшего.
Но с того времени, как были упразднены майораты и субституции, все изменилось: кредиторы стали тянуть руку к землям; младшие братья, в свою очередь, стали кредиторами старших; чтобы осуществить раздел, приходилось продавать имения, и вскоре оказалось, что продавцов больше, чем покупателей; в итоге стоимость земли упала на восемьдесят процентов; мало того, эти земли, над которыми тяготели судебные тяжбы, в ожидании решения перестали обрабатывать, и Сицилия, которая некогда тем, что оставалось лишним для ее двенадцати миллионов жителей, кормила всю Италию, не собирала уже в достаточном количестве зерна, чтобы обеспечить существование оставшихся у нее одиннадцати сотен тысяч чад.
При этом налоги, разумеется, остались прежними.
И потому в целом мире мало найдется стран таких бедных и таких несчастных, как Сицилия.
Из-за этой бедности отсутствуют искусство, литература, торговля и, следовательно, цивилизация.
Я где-то сказал, уж не помню где, что на Сицилии не трактирщики кормят путешественников, а напротив, путешественники кормят трактирщиков. Эта аксиома, которая на первый взгляд кажется парадоксальной, на самом деле является истинной правдой: путешественники едят то, что они с собой привозят, а трактирщики питаются остатками с их стола.
Из этого вытекает, что наименее развитая отрасль сицилийской цивилизации – это, конечно же, кухня. Трудно вообразить, что заставляют вас есть в лучших гостиницах, подавая это под видом знакомых и достойных уважения блюд, на которые то, что вам приносят, ничем не похоже, по крайней мере на вкус. У дверей одной лавки я увидел кровяную колбасу и, вернувшись в гостиницу, попросил подать мне это кушанье на следующий день. Мне принесли ее в самом аппетитном виде, хотя исходящий от нее запах никак не соответствовал тому, какой я ожидал. И так как я уже немного привык к кулинарным сюрпризам, которые при каждом взмахе вилкой подстерегают вас на Сицилии, то лишь едва надкусил поданную мне колбасу. И хорошо сделал: если бы я взял в рот целый кусок, то счел бы себя отравленным. Я позвал хозяина гостиницы.
– Как это у вас называется? – спросил я его, показывая предмет, только что доставивший мне столь глубокое разочарование.
– Кровяная колбаса, – отвечал он.
– Вы уверены?
– Совершенно уверен.
– А из чего делают кровяную колбасу в Палермо?
– Из чего? Ну как же! Из свиной крови, шоколада и огурцов.
Я узнал то, что хотел знать, и спрашивать что-нибудь еще мне не требовалось.
Полагаю, что жители Палермо услышали однажды от какого-нибудь французского путешественника о некоем кушанье под названием «кровяная колбаса» и, не зная, как раздобыть сведения относительно столь сложной рецептуры, просто заполучили какой-то рисунок из Парижа.
И вот в соответствии с этим рисунком они разработали состав кровяной колбасы, которую и едят теперь в Палермо.
Одно из главных притязаний сицилийцев – это красота и несравненный вкус их фруктов, однако на Сицилии нельзя найти никаких превосходных фруктов, кроме апельсинов, инжира и гранатов; остальные вообще несъедобны. К сожалению, по этому пункту у сицилийцев есть вполне правдоподобный ответ на жалобы путешественников; они предъявляют вам злополучный отрывок из своей истории, в котором рассказывается, что Нарсес привлек лангобардов в Италию, послав им сицилийские фрукты. И так как это напечатано в книге, возразить нечего, если только не высказать предположение, что в ту пору сицилийские фрукты были лучше, чем сегодня, или что лангобарды никогда не пробовали ничего, кроме яблок, предназначенных для приготовления сидра.
ЭКСКУРСИИ НА ЭОЛИЙСКИЕ ОСТРОВА Липари
Как и сказал наш капитан, мы нашли своих матросов в порту. Наша маленькая сперонара, юркая, изящная и грациозная, раскачивалась в двадцати – тридцати шагах от берега среди огромных судов, словно зимородок среди стаи лебедей. У пристани нас ждала пришвартованная лодка: мы сели в нее и через несколько минут оказались на борту сперонары.
Признаюсь, я с большим удовольствием вновь очутился среди своих добрых, славных матросов, на такой чистой и так хорошо вымытой палубе сперонары. Я заглянул в каюту: наши две койки были на своих местах. После всех этих простыней сомнительной чистоты было так упоительно видеть сияющие белизной простыни. Я с трудом не поддался искушению лечь, чтобы ощутить их свежесть.
Все это должно казаться странным читателю; но любой человек, которому довелось пересечь Романью, Калабрию или Сицилию, легко поймет меня.
Едва мы очутились на борту, как наша сперонара пришла в движение, скользя с помощью усилий четырех гребцов, и мы стали удаляться от берега. И тогда Палермо начал разворачиваться у нас на глазах, являя собой великолепное зрелище: сначала это была чуть смутная масса, которая затем стала расширяться, растягиваться, рассыпаться на белые виллы в окружении апельсиновых деревьев, каменных дубов и пальм. Вскоре вся эта роскошная долина, которую древние называли Золотой раковиной, открылась начиная от Монреале до моря, от горы Санта Розалия до мыса Дзафферано. Счастливый Палермо пускал в ход свои чары, чтобы заставить нас сожалеть о расставании – нас, кого он не сумел удержать и кто, по всей вероятности, покидал его, чтобы никогда больше с ним не встретиться.
Когда сперонара выходила из порта, подул слабый ветер, и мы подняли парус; однако около полудня ветер полностью стих, и нашим матросам пришлось снова взяться за весла. День стоял великолепный; небо и море были одинаковой синевы; жар солнца смягчался легким бризом, живительным и освежающим, постоянно пробегавшим по морской глади. Чтобы ничего не упустить из этой необъятной поэтической картины, мы велели постелить ковер на крышу нашей каюты; нам зажгли чубуки, и мы улеглись на нем.
То были самые сладостные часы путешествия, часы, когда мы бездумно предавались мечтам, когда на память приходили далекая страна и отсутствующие друзья – будто облака с очертаниями человека, что тихо скользят по лазурному небу, меняя форму, соединяясь, распадаясь и вновь соединяясь по двадцать раз за час. Часы летели, но мы не ощущали ни их прикосновения, ни шороха их крыльев; потом неведомо как наступал вечер, зажигая одну за другой звезды на потемневшем Востоке, а тем временем Запад, приглушая постепенно свет солнца, катил золотые волны, переливаясь всеми цветами радуги от огненно-багряного до светло-зеленого; и тогда над водой поднималось что-то вроде наполненной гармонией дымки; рыбы выскакивали из моря, похожие на серебряные вспышки; кормчий вставал, не выпуская из рук руля, и в ту самую минуту, когда угасал последний луч света, начиналась «Аве Мария».
Как бывает почти всегда, ветер поднялся лишь с восходом луны: по его горячей влажности мы узнали сирокко; капитан первый предложил нам вернуться в каюту, и мы последовали его совету, но при условии, что экипаж хором споет свою обычную песню.
Не было ничего прелестнее этой мелодии, звучавшей ночью и своим ритмом сопровождавшей легкое колыхание судна. Помнится, сквозь сон я часто слышал ее и тогда, не просыпаясь совсем и не засыпая глубоко, целыми часами внимал этой неясной мелодии. Быть может, услыхав ее при других обстоятельствах и в любом другом месте, а не там, где нам довелось тогда находиться, мы даже не обратили бы на нее внимания. Но ночью, посреди моря, возносясь над нашим хрупким суденышком в окружении могучих волн, она пронизывалась ароматом грусти, который я встречал лишь в некоторых мелодиях автора «Нормы» и «Пуритан».
Когда мы проснулись, ветер толкал нас на север, и мы лавировали, пытаясь обогнуть Аликуди, что с большим трудом позволяли нам сирокко и греко, дувшие одновременно. Чтобы дать им возможность прийти к согласию или время стихнуть, мы велели капитану подойти как можно ближе к острову и лечь в дрейф. Поскольку на Аликуди нет ни гавани, ни рейда, ни бухты, у нас не было никакой возможности пристать к берегу, находясь на сперонаре, и нам предстояло воспользоваться для этой цели маленькой шлюпкой, хотя это было довольно рискованно из-за волн, с неистовой силой разбивавшихся о скалы, которые к тому же были гладкими и скользкими как лед и представляли серьезную опасность для того, кто отваживался бы ступить на них ногой.
И все-таки с помощью Пьетро и Джованни нам удалось пристать к берегу; правда, Пьетро упал в море, но так как на наших матросах никогда не было ничего, кроме штанов и рубашки, да и плавали они, словно рыбы, то мы, в конце концов, даже перестали обращать внимание на подобные происшествия.
Аликуди – это древняя Эрикода Страбона, которому, кстати, как и другим античным авторам, были известны лишь семь Эолийских островов: Стронгила, Липара, Вулкания, Дидима, Феникода, Эрикода и Звоним. Этот последний остров, бывший тогда, возможно, самым значительным из всех, настолько изъеден пожиравшим его внутренним огнем, что его осевшие кратеры образовали несколько морских проливов, а несколько его вершин, одиноко возвышающихся сегодня над волнами, образуют острова Панареа, Базилуццо, Лиска Нера, Лиска Бьянка и Даттило. Кроме того, еще несколько разбросанных утесов, составляющих, без сомнения, часть той же самой земли, черные и голые, поднимаются над поверхностью моря: они называются Формикали.
Трудно представить себе что-либо более печальное, более мрачное и более унылое, чем этот несчастный остров, образующий западный угол Эолийского архипелага. Этот забытый в дни сотворения мира кусок земли остался таким, каким он был во времена хаоса. Ни одна дорога не ведет к его вершине и не тянется вдоль берега; лишь какие-то извилистые промоины, оставленные дождевыми водами, дают возможность передвигаться ногам, израненным острыми камнями и неровностями лавы. На всем острове нет ни единого дерева, ни клочка зелени, на котором могли бы отдохнуть глаза; лишь кое-где в расщелинах скал, в зазорах вулканического шлака видны редкие стебли вереска: потому Страбон и называет иногда этот остров Эрикуссой. Это пустынная, полная опасностей дорога Данте, где среди утесов и осколков переставлять ноги можно, лишь опираясь на руку.
А между тем на этом куске красноватой лавы живут в жалких лачугах сто пятьдесят или двести рыбаков, пытаясь использовать редкие наделы земли, пережившие всеобщее уничтожение. Один из этих несчастных людей возвращался на своей лодке; за 3 карлино (примерно 28 су) мы купили у него всю пойманную им рыбу.
На свое судно мы вернулись с щемящим от вида такой нищеты сердцем. В самом деле, есть существования, каких понять нельзя, живя в определенном мире и ведя определенный образ жизни. Кто поселил этих людей на потухшем вулкане? Или они там выросли, подобно вереску, давшему ему свое имя? Какие соображения мешают им покинуть столь ужасное место жительства? Нет уголка в мире, где бы им не было лучше, чем здесь. Значит, эта сожженная огнем скала, эта застывшая на ветру лава, эти изрезанные штормовыми водами вулканические шлаки и есть родина? То, что ты здесь родился, это постижимо, человек родится там, где ему укажет судьба; но, обладая способностью двигаться, свободной волей, дающей возможность искать лучшую долю, лодкой, способной доставить тебя куда угодно, оставаться здесь? Понять такое невозможно, объяснить такое, я уверен, не сумели бы и сами эти горемыки.
Часть дня мы лавировали, и все это время дул встречный ветер; мы последовательно осмотрели острова Са-лина, Липари и Вулкано и при каждом проходе между Салиной и Липари видели на горизонте Стромболи, извергавший сноп огня. А каждый раз, возвращаясь к Вулкано, целиком окутанному горячим влажным паром, мы более явственно различали три его кратера, наклоненные к западу: один из них изрыгал море лавы, чей темный цвет контрастировал с красноватой землей и близлежащими отложениями серы. На самом деле это два острова, которые оказались объединены в один извержением, заполнившим промежуток между ними; тем не менее один из них был известен с незапамятных времен – это Вулкано; другой же ведет свой отсчет с 550 года от основания Рима. Соединившее их извержение произошло примерно в середине шестого века; оно образовало две гавани: Порто ди Леванте и Порто ди Поненте.
Наконец, после восьми часов тщетных усилий, нам удалось проскользнуть между Липари и Вулкано, и, оказавшись под укрытием этого последнего острова, мы на веслах добрались до порта Липари, где около двух часов пополудни бросили якорь.
Липари с его укрепленным замком, построенным на скале, и домами, повторяющими изгибы местности, представляет собой на редкость живописное зрелище. Времени у нас, впрочем, было предостаточно, чтобы налюбоваться его местоположением, ввиду бесчисленных препятствий, которые нам чинили, прежде чем позволить выйти на берег. Власти, которым мы имели неосторожность признаться, что приехали не ради торговли пемзой, единственного промысла острова, и которые не понимали, что можно приехать на Липари ради чего-то иного, всеми силами не хотели пускать нас туда. Наконец, когда мы передали через решетку свои паспорта, которые из страха перед холерой взяли у нас из рук огромными щипцами, власти, удостоверившись, что мы приплыли из Палермо, а вовсе не из Александрии или Туниса, открыли нам решетку и согласились пропустить нас.








