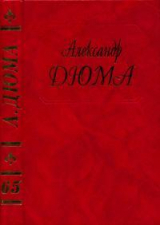
Текст книги "Капитан Арена"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 22 страниц)
– Хорошо! Но при чем тут эти пятьсот унций? Был он виновен или не был?
– Не был! Не был! – воскликнул Пьетро. – Его вызвали на это! Бедный Гуиджа, да это сама доброта! Так вот, когда они увидели, что у него есть деньги, то договорились с ним, пошли на уступку: он регулярно платит небольшую сумму, и его не трогают.
– А кому он платит эту сумму? Семьям тех, кого убил?
– Нет, нет, нет, что вы! Зачем?.. Нет, нет – полиции.
– Это другое дело, теперь я понимаю.
Я подошел к нашему хозяину со всем уважением, которого заслуживали только что полученные мною сведения на его счет, и как можно вежливее спросил, нельзя ли заказать обед на четыре персоны; затем, получив утвердительный ответ, я попросил Пьетро сесть в экипаж и съездить в Кальварузо за нотариусом.
Пока жарились отбивные, а Пьетро катил в экипаже, мы спустились на берег моря. Со взморья Баузо открывается восхитительный вид. От этих берегов мыс Бьянко, плоский и вытянутый, уходит далеко в море; с другой стороны отвесно обрываются над волнами, словно утесы, горы Пелоро. Вдали вырисовываются очертания Вулка-но, Липари и Лиска Бьянки, над которой возвышается дымящийся Стромболи.
Вдалеке на дороге мы увидели возвращавшийся экипаж и в нем – двух людей; стало быть, Пьетро отыскал своего нотариуса: было бы нечестно заставлять ждать достойного человека, давшего себе труд приехать ради нас, поэтому мы двинулись в обратный путь к постоялому двору и прибыли туда в ту минуту, когда экипаж остановился.
Пьетро представил мне синьора Чезаре Аллетто, нотариуса из Кальварузо. Славный человек привез не только все устные предания, выразителем которых он являлся, но еще и часть документов, касающихся судебного процесса, который привел на виселицу знаменитого бандита, чьим биографом я рассчитывал стать.
Обед был готов: метр Гуиджа превзошел самого себя, и я вслед за Пьетро стал думать, что он не так уж виновен, как его представляли, и что это peccatto[16] – досаждать такому славному человеку.
После обеда дон Чезаре Аллетто спросил, желаем ли мы сначала услышать историю подвигов Паскуале Бруно или посетить прежде арену этих подвигов. Мы ответили, что, как нам кажется, хронологически лучше начать с истории, ибо после того, как она будет рассказана, каждая последующая подробность приобретет больший интерес и большую ценность.
Итак, мы начали с истории.
Паскуале Бруно был сыном Джузеппе Бруно; Джузеппе Бруно имел шестерых братьев.
Паскуале Бруно было три года, когда его отец, родившийся во владениях князя Монкада Патерно, обосновался в Баузо – деревне, в окрестностях которой жили шестеро его братьев и которая принадлежала графу ди Кастельнуово.
К несчастью, у Джузеппе Бруно была красивая жена, а граф ди Кастельнуово был большим ценителем красивых женщин; он влюбился в мать Паскуале и сделал ей предложения, от которых она отказалась. Граф ди Кастельнуово не привык получать подобные отказы в своих владениях, где каждый, будь то мужчина или женщина, шел навстречу его желаниям. Он возобновил свои предложения, удвоил, утроил их, но так ничего и не добился. Наконец терпение его истощилось, и, не думая о том, что у него нет никакого права на жену Джузеппе, так как она даже родом была не из его владений, однажды, когда муж отсутствовал, он велел четверым мужчинам похитить ее, доставить в его охотничий домик, а затем изнасиловал ее. Безусловно, он оказывал большую честь такому бедняге, как Джузеппе Бруно, снизойдя до его жены; однако у Джузеппе мозги были устроены иначе, чем у других: он ни в чем не упрекнул несчастную женщину, но пошел и сел в засаду на пути графа ди Кастельнуово и, когда тот проходил мимо него, нанес ему под шестое ребро слева удар кинжалом, от которого граф через два часа умер, так что у него было мало времени, чтобы примириться с Богом, но вполне достаточно, чтобы назвать убийцу.
Джузеппе Бруно сбежал и укрылся в горах, куда шестеро его братьев по очереди носили ему еду; об этом стало известно, и всех шестерых арестовали как соучастников убийства графа. Джузеппе, не желавший, чтобы братья расплачивались за него, написал, что он готов сдаться, если отпустят его братьев. Ему это пообещали, он сдался и был повешен, а братьев сослали на каторгу. Это не вполне соответствовало тому обязательству, которое взяли на себя власти в отношении Джузеппе; но если бы властям приходилось исполнять все свои обязательства, то, понятно, это завело бы их чересчур далеко.
И вот бедная мать осталась в деревне Баузо с маленьким Паскуале Бруно, которому тогда было пять лет. Но так как, согласно обычаю и в назидание примером, голову Джузеппе выставили в железной клетке и эта картина была для вдовы слишком тягостна, однажды она взяла своего сына за руку и исчезла в горах. Минуло пятнадцать лет, и никто ничего не слышал ни о ней, ни о нем.
Но по истечении этого времени Паскуале объявился. Это был красивый молодой человек в возрасте примерно двадцати одного года, с лицом мрачным, голосом суровым, рукой проворной, развитию природной силы и ловкости которого весьма способствовала дикая жизнь. Если не считать печали, отражавшейся в его чертах, он, казалось, полностью забыл причину, заставившую его покинуть Баузо; однако, проходя мимо клетки, где была выставлена голова его отца, он опускал голову, чтобы не видеть ее, и становился еще бледнее, чем обычно. Впрочем, он не стремился к общению, никогда ни с кем не заговаривал первым, довольствовался тем, что отвечал, если к нему обращались, и жил один в доме, в котором прежде жила его мать и который пятнадцать лет стоял запертым.
Никто не понял, зачем он вернулся в Баузо, и все задавались вопросом, что он собирается делать в этом краю, откуда столько горестных воспоминаний должны были гнать его, как вдруг начал распространяться слух, будто Паскуале влюблен в девушку по имени Тереза, которая была молочной сестрой молодой графини Джеммы, дочери графа ди Кастельнуово. Определенную достоверность этому слуху придало то, что один парень из деревни, возвращаясь ночью со свидания со своей возлюбленной, видел, как Паскуале спускался со стены сада, прилегающего к дому, где жила Тереза. Тогда сравнили время возвращения в деревню Баузо Терезы, которая обычно жила в Палермо, со временем появления Паскуале, и заметили, что возвращение одной и появление другого случились на одной неделе; но главным, что отмело последние сомнения по поводу отношений, существовавших между двумя молодыми людьми, было то, что, когда Тереза вернулась в Палермо, Паскуале на другой день после ее отъезда исчез и дверь материнского дома снова оказалась запертой, как это было в минувшие пятнадцать лет.
Прошло еще три года, в течение которых никто не знал, что с ним сталось, и вот в один прекрасный день (это был день праздника деревни Баузо) его вдруг увидели в наряде богатых калабрийских крестьян, то есть в островерхой шляпе с ниспадающей на плечо лентой, в бархатной куртке с пуговицами чеканного серебра, с многоцветным шелковым кушаком, какие изготавливают в Мессине, в коротких бархатных штанах с серебряными пряжками и кожаных гетрах с разрезом на икрах. На плече его висел английский карабин, а за ним следовали четыре великолепных корсиканских пса.
Среди разных забав, устраиваемых в этот торжественный день, была одна, без которой на Сицилии почти никогда не обходятся события подобного рода, – это состязание на приз за стрельбу из ружья. По старинному местному обычаю, каждый год состязание это проходило напротив высоких стен замка, на высоте двух третей которых в железной клетке вот уже двадцать лет белел череп Джузеппе Бруно.
Среди всеобщего молчания Паскуале подошел к месту состязания. Увидев его с таким превосходным оружием и с таким надежным сопровождением, каждый подумал про себя, что сейчас должно произойти нечто необычное. Между тем со стороны молодого человека никто не заметил проявления каких-либо враждебных намерений. Он подошел к палатке, где продавали пули, купил одну, сверив ее с калибром своего карабина, затем зарядил оружие с тщательными предосторожностями, свойственными обычно в таких случаях стрелкам.
Участников состязания вызывали следуя алфавитному порядку, каждый по очереди занимал положенное место и выпускал одну пулю. Купить их можно было до шести, но какое бы количество пуль ни покупалось, сделать это надо было за один раз, пополнять их запас потом не разрешалось. Стало быть, купив одну пулю, Паскуале Бруно мог сделать лишь один выстрел, но, хотя он оставил за собой всего один слабый шанс, беспокойство среди других стрелков, которые знали о его ловкости, вошедшей во всей округе чуть ли не в поговорку, не уменьшалось.
Бруно явился, когда дошли до буквы «Н», поэтому перебрали все буквы алфавита, прежде чем вернуться к первой; затем снова начали с буквы «А», потом вызвали «Б»; Бруно вышел.
Если все смолкли, когда лишь увидели появившегося Бруно, то понятно, что воцарилась еще большая тишина при виде того, как он готовится привести публичное доказательство той ловкости, о которой ходило столько разговоров, хотя никто, однако, не мог сказать, что видел воочию ее проявление. Итак, под неотступными взглядами всех собравшихся молодой человек подошел к веревке, обозначавшей границу, и, казалось, не замечая, что он вызвал всеобщее внимание, оперся на правую ногу, сделал движение, чтобы расправить руки, прижал ружье к плечу и начал наводить его на цель снизу вверх.
Легко понять, с какой тревогой соперники Паскуале Бруно следили за движением дула ружья, по мере того как оно поднималось. Вскоре оно оказалось на уровне цели, и внимание всех удвоилось; но, к величайшему удивлению присутствующих, Паскуале продолжал поднимать дуло своего карабина, отыскивая другую цель; но вот, когда оно оказалось направлено на железную клетку, он остановился и замер на мгновение, словно и сам он, и его оружие были из бронзы; наконец, столь долгожданный выстрел прозвучал, и освобожденный, из железной клетки череп упал к подножию стены. Бруно тотчас перешагнул через веревку, медленно, не сделав ни одного торопливого движения, подошел к страшному трофею, ставшему доказательством его ловкости, благоговейно поднял его и, ни разу не обернувшись к тем, кого поверг в изумление его поступок, направился в горы.
Через два дня по всей Сицилии пронесся слух о другом событии, в котором Бруно тоже сыграл неожиданную и еще более трагическую роль, чем та, какую он только что исполнил. Тереза, та самая юная молочная сестра графини ди Кастельнуово, о которой мы уже говорили, вышла замуж за одного из кампиери вице-короля, и вот в день свадьбы, вечером, когда молодые супруги собирались открыть бал тарантеллой, посреди танцоров внезапно появился Бруно с парой пистолетов за поясом. Он подошел к новобрачной и под предлогом того, что она обещала танцевать прежде всего с ним, а не с кем-либо другим, потребовал, чтобы муж уступил ему свое место. Вместо всякого ответа тот выхватил нож, но Паскуале одним выстрелом из пистолета уложил новобрачного замертво; затем, со вторым пистолетом в руке, он заставил молодую жену, бледную и почти умирающую, танцевать тарантеллу возле трупа мужа; наконец, через несколько секунд, не в силах вынести муки, наложенной на нее в наказание за ее клятвопреступление, Тереза упала в обморок.
Тогда Паскуале направил на нее дуло второго пистолета, и все решили, что он собирается прикончить бедную женщину; но, подумав, верно, что в ее положении жизнь страшнее смерти, он опустил руку, разрядил пистолет, снова сунул его за пояс и исчез, причем никто даже не шелохнулся, чтобы попытаться остановить его.
Эту новость, которой сначала не решались верить, подтвердил вскоре сам вице-король; придя в ярость из-за смерти одного из самых храбрых своих служителей, он отдал строжайший приказ арестовать Паскуале Бруно. Но это легче было приказать, чем сделать. Паскуале Бруно стал разбойником, но разбойником на манер Карла Моора, то есть бандитом по отношению к богатым и могущественным, с которыми он был безжалостен, зато, напротив, слабые и бедные могли не сомневаться, что они найдут в нем защитника и друга. Рассказывали, что все банды, рассеянные до той поры по горной цепи, которая начинается в Мессине и сходит на нет в Трапани, собрались вокруг него и назначили его своим главарем, что поставило его чуть ли не во главе армии; а между тем всякий раз, когда его видели, он был один, вооруженный карабином и пистолетами и сопровождаемый своими четырьмя корсиканскими псами.
С тех пор как Паскуале Бруно, став вести новый образ жизни, приблизился к Баузо, управляющий, живший в маленьком замке Кастельнуово, угодьями которого он заведовал по поручению молодой графини Джеммы, перебрался в Чефалу, опасаясь, как бы с ним не случилось какое-нибудь несчастье, если он окажется вовлеченным в орбиту мести разгневанного парня. И замок был заперт, так же как и дом Джузеппе Бруно, как вдруг однажды, проходя возле стен замка, какой-то крестьянин увидел, что все двери там открыты, а в одном из окон заметил облокотившегося на него Бруно.
Несколько дней спустя Бруно повстречал другой крестьянин: бедняга, хотя и остался совсем без урожая, нес положенный оброк своему господину; оброк этот составлял пятьдесят унций, и, чтобы собрать такую сумму, крестьянин оставил жену и детей почти без хлеба. Бруно велел ему прежде всего рассчитаться со своим господином, а через день прийти на это же место, чтобы встретиться с ним, с Бруно. Крестьянин продолжил свой путь, наполовину успокоенный, ибо в голосе разбойника ему послышалось некое обещание, и он не ошибся.
Действительно, через день, когда крестьянин пришел на условленную встречу, Бруно, подойдя к нему, вручил ему кошелек; в этом кошельке оказалось двадцать пять унций, то есть половина оброка. Это было освобождение от части долга, на которое по просьбе Бруно согласился землевладелец, ведь, как все знали, просьбы Бруно были равносильны приказаниям.
Через некоторое время до Бруно дошел слух, что один молодой человек из деревни не может сочетаться браком с девушкой, которую он любил, потому что у девушки было кое-какое состояние и ее отец требовал, чтобы будущий супруг внес столько же, сколько она, в совместную собственность, а именно, сто унций. Молодой человек впал в отчаяние. Он хотел завербоваться в английские войска, хотел стать ловцом кораллов, у него было еще множество других планов, столь же бессмысленных, как эти, ибо они, вместо того чтобы приближать его к возлюбленной, все до единого лишь отдалили бы его от нее. И вот однажды люди увидели, как Бруно вышел из своей маленькой крепости, пересек деревню и вошел в дом к бедному влюбленному; он провел с ним взаперти примерно с полчаса, и на следующий день молодой человек явился к отцу своей возлюбленной и принес сто унций, которые тот требовал. Через неделю состоялась свадьба.
Или вот еще одна история. Пожар уничтожил часть деревни и обрек на нищенство всех несчастных, ставших его жертвой. Через неделю денежный обоз, направлявшийся из Палермо в Мессину, был похищен между Мистреттой и Торторичи, а два жандарма, сопровождавшие его, убиты на месте. На следующий день после этого события каждый погорелец получил от Паскуале Бруно пятьдесят унций.
Понятно, что такого рода действиями, повторявшимися чуть ли не каждый день, Паскуале Бруно снискал огромную признательность, которая обеспечивала ему безопасность: в самом деле, как только предпринималась какая-нибудь операция против Паскуале Бруно, он в тот же миг узнавал об этом через крестьян, причем крестьянам вовсе не было надобности идти в замок, а Бруно спускаться в деревню. Довольно было любого напева, флажка, водруженного на крышу дома, да просто, наконец, какого-то сигнала, которого полиция никак не могла распознать, чтобы вовремя предупрежденный Бруно, благодаря своему скакуну из Валь ди Ното, наполовину сицилийскому, наполовину арабскому, оказался за двадцать пять льё от того места, где его видели накануне и где надеялись застать завтра. А не то еще, как рассказывал мне Пьетро, Бруно бежал на берег, садился в первую попавшуюся лодку и проводил таким образом два-три дня с рыбаками, которые, получив щедрое вознаграждение, и не думали выдавать его; потом он высаживался в каком-нибудь месте на побережье, где его не ждали, уходил в горы, проделывал за ночь двадцать льё и на следующий день, оставив некое воспоминание о себе в самом удаленном от его ночного перехода месте, оказывался в своей маленькой крепости Кастельнуово. Такая скорость передвижения породила тогда странные слухи: рассказывали, будто Паскуале Бруно во время одной грозовой ночи заключил договор с ведьмой и будто бы в обмен на душу, которую отдал ей бандит, ведьма дала ему камень, который делает человека невидимым, и крылатую метлу, которая мгновенно переносит его из одного места в другое. Паскуале, понятное дело, поощрял подобные слухи, ибо они способствовали его безопасности; однако ни подобная скорость передвижения, ни возможность оставаться невидимым не внушали ему в этом отношении особого доверия, и потому он ухватился за представившийся ему случай заставить поверить еще и в свою неуязвимость.
Хотя Паскуале был прекрасно обо всем осведомлен, однажды случилось так, что он попал в засаду; но так как солдат было всего человек двадцать, они не осмелились вступить с ним в рукопашную схватку, ограничившись стрельбой на расстоянии тридцати шагов. Поистине чудом ни одна пуля его не задела, в то время как его лошади досталось семь, и она сразу была убита, рухнув на своего хозяина; но Паскуале, на редкость проворный и сильный, вытащил ногу из-под трупа, оставив, однако, под ним свой башмак, добрался до вершины почти отвесного утеса, скатился сверху вниз и исчез в долине. Два часа спустя он уже был в своей крепости, оставив на дороге к ней свою бархатную куртку, продырявленную тринадцатью пулями.
Эта куртка, найденная каким-то крестьянином, переходила из рук в руки и наделала много шума: как это куртка могла быть продырявлена таким образом, а тело осталось невредимым? Это казалось настоящим чудом, объяснить которое могло лишь колдовство. Стало быть, без колдовства не обошлось, и вскоре все уверились, что Паскуале обладает не только возможностью мгновенно переноситься с одного конца острова на другой и даром оставаться невидимым, но к тому же еще, и это была самая бесспорная из его способностей, так как о ней свидетельствовала куртка, которую можно было держать в руках, свойством быть неуязвимым.
Все бесплодные попытки, которые были предприняты против Паскуале и неудачи которых приписали сверхчеловеческим силам, использованным бандитом, внушили неаполитанским властям такой ужас, что они оставили Паскуале Бруно более или менее в покое. Бандит же, чувствуя себя свободным, стал еще более дерзким; он ходил молиться в церкви не в одиночестве и не в те часы, когда его не мог видеть никто, кроме Бога, а днем и во время мессы; он являлся на деревенские праздники, танцевал с самыми красивыми крестьянками и завоевывал награды за стрельбу из ружья, отбирая их у самых ловких; наконец, и это казалось невероятным, он бывал на представлениях то в Мессине, то в Палермо, правда, переодетым; но каждый раз, позволив себе выходку такого рода, он тем или иным способом старался дать о ней знать начальнику полиции или начальнику гарнизона. Словом, мало-помалу Паскуале Бруно привыкли терпеть как некую власть, если и не по праву, то по факту.
Тем временем политические события вынудили короля Фердинанда покинуть столицу и укрыться на Сицилии; понятно, что прибытие властелина, а главное, присутствие англичан, понуждали власти к большей строгости; между тем, желая избежать, насколько возможно, столкновения с Паскуале Бруно, у которого по-прежнему предполагали наличие скрытых в горах значительных сил, ему предложили поступить на службу в войска его величества в чине капитана или же сделать из своей банды вольный отряд и вести вместе с ним партизанскую войну против французов. Но Паскуале ответил, что у него нет другой банды, кроме его четырех корсиканских псов, а что касается войны против французов, то он скорее готов оказать им помощь, так как они пришли, чтобы вернуть свободу Сицилии, как вернули ее Неаполю, и что, следовательно, его величеству, которому он желает всяческих благ, не стоит на него рассчитывать.
Дело стало более серьезным после этого изложения политических взглядов; высокомерие отказа возвеличивало Бруно: пока еще он был вожаком банды, но вполне мог сменить такое звание и стать вожаком партии. Решено было не оставить ему для этого времени.
Губернатор Мессины велел арестовать судей Баузо, Сапонары, Кальварузо, Рометты и Спадафоры и препроводить их в крепость. Там их, всех пятерых, заперли в одной камере, после чего он потрудился самолично нанести им визит, чтобы известить их, что они останутся его пленниками до тех пор, пока не искупят свою вину, выдав Паскуале Бруно. Судьи возроптали и спросили губернатора, как же, по его мнению, из глубины своей темницы они выполнят то, чего не сумели сделать, когда были на свободе. Но губернатор ответил, что его это не касается, что им самим надлежит поддерживать спокойствие в их деревнях, как поддерживает его он в Мессине, и что он не спрашивает у них совета, если ему надо подавить какой-нибудь бунт, а потому, следовательно, не обязан советовать им, когда и как они должны схватить бандита.
Судьи прекрасно поняли, что с человеком, наделенным подобной логикой, шутить не приходится; каждый из них написал своей семье, и им удалось собрать сумму в 250 унций (около 4 000 франков); затем, собрав эту сумму, они попросили губернатора оказать им честь вторым визитом.
Губернатор не заставил себя ждать. И тогда судьи сказали ему, что, как им кажется, они нашли способ схватить Паскуале Бруно, но для этого надо позволить им связаться с неким Плачидо Томмазелли, его близким другом. Губернатор ответил, что нет ничего проще и что на следующий день этот человек будет в Мессине.
И случилось то, что предвидели судьи: взамен суммы в 250 унций, в тот же час врученной Томмазелли, и такой же суммы, которую было обещано вручить ему на другой день после ареста Паскуале Бруно, он обязался выдать его.
Приближение французов заставило принять необычайно суровые меры внутри острова: вся Сицилия была под ружьем, словно во времена Джованни да Прочида; во всех деревнях были организованы отряды ополчения, и эти отряды, вооруженные и снабженные боеприпасами, готовы были выступить в любой день.
Однажды вечером ополченцы из Кальварузо, Сапона-ры и Рометты получили приказ собраться около полуночи между мысом Бьянко и взморьем Сан Джакомо. Поскольку указанное место встречи находилось на берегу моря, каждый подумал, что они должны воспрепятствовать высадке французов. А так как мало кто из сицилийцев разделял добрые чувства Паскуале Бруно по отношению к нам, то все ополчение, исполненное жара, сбежалось на место встречи. Там командиры поздравили своих бойцов с проявленным ими усердием и, развернув их спиной к морю, разделили всех на три отряда, приказали им соблюдать тишину и начали продвигаться в горы; один отряд прошел через деревню Баузо, а два других проследовали вдоль нее по бокам. В результате этого простейшего маневра маленькая крепость Кастельнуово оказалась полностью окружена. Тут только ополченцы поняли, с какой целью их собрали: предупрежденные об этой цели заранее, большинство тех, из кого состояли отряды, не пришли бы; но раз уж они были здесь, стыд поступить иначе, чем другие, удержал их, и потому каждый старался сохранять самообладание.
Окна замка Кастельнуово были ярко освещены, и не приходилось сомневаться, что у его обитателей намечалось празднество; в самом деле, Паскуале Бруно пригласил на ужин несколько своих друзей, в числе которых был и Томмазелли.
Внезапно посреди этого ужина любимая сука Паскуале, лежавшая у его ног, встала, забеспокоившись, подошла к окну, поднялась на задние лапы и печально завыла. Почти сразу же три собаки, привязанные во дворе, ответили яростным лаем. Ошибки быть не могло: Паскуале угрожала какая-то опасность.
Он бросил испытующий взгляд на своих гостей: четверо из них казались сильно встревоженными, и только пятый, Плачидо Томмазелли, изображал величайшее спокойствие. На губах Паскуале промелькнула едва заметная улыбка.
– Я думаю, нас предали, – произнес он.
– И кто же нас предал? – воскликнул Плачидо.
– Понятия не имею, – отвечал Бруно, – но думаю, так оно и есть.
С этими словами он встал, шагнул прямо к окну и распахнул его.
В ту же минуту прогремели выстрелы, семь или восемь пуль влетели в комнату, и два или три стекла в окне, разбитых по бокам и над головой Паскуале, разлетелись на куски вокруг него. Что же касается его самого, то случай будто взял на себя заботу подтвердить странные слухи, распространившиеся на счет Паскуале: ни одна пуля не задела бандита.
– Я же говорил вам, – спокойно продолжал Бруно, повернувшись к своим гостям, – что среди нас есть иуда.
– К оружию! К оружию! – воскликнули четверо гостей, те, что с самого начала казались встревоженными и были преданы Паскуале. – К оружию!
– К оружию! А зачем? – возразил Плачидо. – Чтобы всех нас убили? Уж лучше сдаться.
– Вот он, предатель, – сказал Паскуале, направляя дуло пистолета на Томмазелли.
– Смерть! Смерть Плачидо! – кричали гости, бросаясь к нему, чтобы заколоть его лежавшими на столе ножами.
– Постойте, – сказал Бруно.
И взяв Плачидо, бледного и дрожащего, за руку, он спустился с ним в погреб, расположенный как раз под комнатой, где был накрыт стол, и показал ему при свете лампы, которую он держал в другой руке, на три пороховые бочки, соединенные друг с другом общим фитилем, который, поднимаясь по стене, соединялся через потолок с комнатой, где проходил ужин.
– А теперь, – сказал Бруно, – ступай к командиру отряда и скажи ему, что если он попытается взять меня приступом, то я взорву себя и всех его людей. Ты меня знаешь и тебе известно, что я попусту не угрожаю. Ступай и расскажи, что ты видел.
И он вывел Томмазелли во двор.
– Но где же мне выйти? – спросил тот, увидев, что все двери преграждены завалами.
– Вот приставная лестница, – ответил Бруно.
– Но они подумают, что я хочу сбежать, и выстрелят в меня! – воскликнул Томмазелли.
– Черт возьми, а это уже твое дело, – сказал Бруно. – Какого дьявола! Когда вступаешь в сделку, рассчитывать на верный успех не приходится.
– Но я предпочитаю остаться здесь, – заявил Томмазелли.
Не проронив в ответ ни единого слова, Паскуале вытащил из-за пояса пистолет, одной рукой направил его на Томмазелли, а другой указал на лестницу.
Томмазелли понял, что возразить тут нечего, и стал подниматься, в то время как Бруно отвязывал трех своих корсиканских псов.
Предатель не ошибся; едва он высунулся над стеной до половины, как раздались пятнадцать или двадцать выстрелов и одна пуля попала ему в руку.
Томмазелли хотел было вернуться во двор, но Бруно стоял сзади с пистолетом в руке.
– Парламентер! – крикнул Томмазелли. – Парламентер! Я Томмазелли, не стреляйте, не стреляйте!
– Не стреляйте, это друг, – послышался голос, по приказному тону которого нетрудно было распознать командира.
Тут Паскуале Бруно страшно захотелось всадить в спину предателя пулю из пистолета, которым он уже трижды угрожал ему, однако он решил, что лучше предоставить Томмазелли возможность выполнить данное ему поручение, а не совершать бесполезную месть. Впрочем, Томмазелли рассудил, что ему нельзя терять время, и, не дав себе труда перекинуть лестницу на другую сторону стены, тотчас спрыгнул вниз.
Паскуале Бруно, услыхав его удаляющиеся шаги, сразу же поднялся к своим товарищам.
– Теперь, – сказал он, – мы можем спокойно сражаться: среди нас нет больше предателей.
В самом деле, через десять минут началось сражение. Благодаря предупреждению, сделанному Томмазелли, ополченцы не осмеливались идти на приступ, так как они опасались, что, как сказал Бруно, он взорвет их всех вместе с собой, и дело ограничилось перестрелкой, а этого только и надо было бандиту, который таким образом выигрывал время и надеялся, что, благодаря своей ловкости и ловкости своих друзей, он сумеет добиться почетной капитуляции.
Все позиционные преимущества были на стороне Бруно. Под прикрытием стен он и его товарищи стреляли наверняка, в то время как ополченцы подвергались обстрелу на открытом пространстве, поэтому каждая выпущенная по ним пуля достигала цели, и, хотя на одиночные выстрелы они отвечали групповым огнем, человек двадцать из них уже были убиты, а из четырех осажденных никто еще не получил ни единой царапины.
Около одиннадцати часов утра один из ополченцев, привязав носовой платок к шомполу, подал знак, что у него есть предложение. Паскуале тотчас встал у окна и крикнул, чтобы тот приблизился.
Ополченец подошел поближе: от имени командиров осаждающих он явился предложить осажденным сдаться. Паскуале спросил, на каких непременных условиях это может произойти: для него это была виселица, а для четырех его товарищей – каторга. В положении осажденных уже наметилось улучшение, так как если бы их захватили без капитуляции, то безусловно повесили бы всех пятерых. Тем не менее предложение не показалось Паскуале Бруно достаточно выгодным, чтобы с восторгом принять его, и он отправил парламентера с отказом.
Сражение возобновилось и продолжалось до пяти часов вечера. В пять часов вечера у ополченцев насчитывалось более шестидесяти выведенных из строя, в то время как Бруно и один из его товарищей все еще были целы и невредимы, а двое других получили пока лишь легкие ранения.
Однако боеприпасы у них таяли: не порох, конечно, его хватило бы, чтобы выдержать трехмесячную осаду, – истощались запасы пуль. Один из осажденных подобрал все те, какие через окна попали внутрь помещения, и, пока трое других продолжали отвечать на огонь ополчения, он переделывал их под калибр карабинов своих товарищей.
Появился все тот же парламентер: вместо пожизненной каторги он пришел предложить срочную каторгу, предлагая тотчас же обсудить срок. Что же касается Пас-куале Бруно, то участь его была решена, и никакое соглашение, само собой разумеется, не могло смягчить ее.
Паскуале Бруно ответил, что это уже лучше, чем в первый раз, и что если его товарищам пообещают свободу, то, быть может, есть способ договориться.
Парламентер вернулся в ряды ополченцев, и перестрелка возобновилась.
Ночь стала роковой для осаждающих. Паскуале, видя, что его боеприпасы на исходе, стрелял только наверняка и советовал своим товарищам действовать точно так же. Ополченцы потеряли еще двадцать человек. Несколько раз командиры хотели заставить их пойти на приступ, но перспектива, ожидавшая ополченцев в таком случае, ярко описанная Томмазелли, постоянно держала их на расстоянии, и ни обещания, ни угрозы не сумели склонить осаждающих к этому подвигу, который сами они называли безумием.








