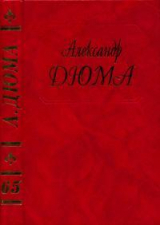
Текст книги "Капитан Арена"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 22 страниц)
На мгновение эта группа остановилась возле Жадена, но так как он был осведомлен о моем приключении несравнимо меньше, чем капитан, получивший мое письмо, то и вопросы стал задавать именно он. Тогда капитан, чтобы не терять время, вручил ему мое послание и продолжил путь. Прочитав написанное, Жаден покачал головой, что означало: «Ну-ну, только и всего?», аккуратно положил листок в один из многочисленных карманов своей куртки, чтобы пополнить этой запиской свою коллекцию автографов, и снова принялся усердно работать.
Через пять минут постоялый двор «Красный пеликан» был взят приступом моим экипажем, и капитан устремился ко мне в комнату, держа в руке мой паспорт.
Мы с капралом стали такими добрыми приятелями, что, по правде говоря, у меня почти уже не было необходимости в паспорте.
Тем не менее я был крайне доволен, что не пришлось подвергать чересчур суровому испытанию мою нарождающуюся дружбу, и потому с гордостью протянул капралу свой паспорт. Небрежно глянув на него, он открыл дверь и произнес:
– У его превосходительства графа Гишара с документами все в порядке, пропустите его.
Все двери тотчас распахнулись. С помощью своих двух пиастров я стал графом.
– Скажите-ка, дорогой сержант, – обратился я к нему, – если случайно мне встретится на пути хозяин постоялого двора, вас сильно раздосадует, если я его поколочу?
– Меня, ваше превосходительство? – отвечал бравый капрал. – Нисколько, вот только остерегайтесь ножа.
– Это уж мое дело, сержант.
И я спустился вниз со сладкой надеждой уладить оба своих счета с хозяином «Красного пеликана». К несчастью, он наверняка догадывался об этом, и потому счет за обед мне представил его помощник, а что касается его самого, то он стал совершенно неуловимым.
По дороге мы захватили с собой Жадена, и я во главе нашего экипажа торжественно вернулся в Сан Джованни.
ПРОРОК
Прибыв на борт, мы увидели, что кормчий сидит, по своему обыкновению, у руля, хотя судно стояло на якоре, и, следовательно, делать старику на этом месте было нечего. Услышав шум, который мы произвели, поднимаясь на борт, он поднял голову над крышей каюты и подал знак капитану, что ему надо поговорить с ним. Капитан, разделявший то уважение, с каким все относились к Нунцио, тотчас прошел на корму.
Беседа продолжалась около десяти минут; тем временем матросы собрались вместе, образовав группу, которая выглядела весьма озабоченной; мы подумали, что речь идет о приключении в Сцилле и не обратили особого внимания на эти признаки беспокойства.
По прошествии десяти минут капитан появился вновь и направился прямо к нам.
– Их превосходительства по-прежнему желают выйти завтра? – спросил он.
– Ну да, если это возможно, – ответил я.
– Видите ли, старик сказал, что погода скоро изменится и при выходе из пролива нас ожидает встречный ветер.
– Черт возьми! – воскликнул я. – Он в этом уверен?
– О! – вмешался в разговор Пьетро, который подошел к нам вместе со всем экипажем. – Если старик это сказал, так оно наверняка и будет. Он это сказал, капитан?
– Сказал, – серьезным тоном ответил тот, к кому был обращен вопрос.
– О! Мы сразу поняли: что-то не так. У него был такой насупленный вид, правда, ребята?
Весь экипаж согласно кивнул в знак того, что каждый, как Пьетро, заметил озабоченность старого пророка.
– Но ведь, – спросил я, – когда этот ветер задувает, он имеет обыкновение дуть долго?
– Конечно! – ответил капитан. – Восемь, десять дней, иногда больше, иногда меньше.
– И тогда невозможно выйти из пролива?
– Невозможно.
– А в котором часу задует ветер?
– Эй, старик! – крикнул капитан.
– Я здесь! – откликнулся Нунцио, показываясь из-за каюты.
– В котором часу начнется ветер?
Нунцио отвернулся, внимательно оглядел все небо, вплоть до самого крохотного облачка, и, снова повернувшись к нам, сказал:
– Капитан, это случится сегодня вечером, между восемью и девятью часами, сразу как зайдет солнце.
– Это случится между восемью и девятью часами, – повторил капитан с такой уверенностью, будто ответ, который он передавал нам, был получен им от Матьё Ленсберга или Нострадамуса.
– Но в таком случае, – обратился я к капитану, – не могли бы мы отплыть немедленно? Ведь к тому времени мы окажемся в открытом море, а нам бы только добраться до Пиццо, большего я не требую.
– Если вы непременно этого хотите, – ответил кормчий, – мы попробуем.
– Ну что ж! Тогда попробуйте!
– Хорошо, хорошо, – сказал капитан. – Мы отплываем! Все по местам.
Мгновенно и без всяких возражений все принялись за работу; якорь подняли, и судно, медленно развернувшись бушпритом в сторону мыса Пелоро, пошло вперед на четырех веслах; что касается постановки парусов, то об этом нечего было и думать: в воздухе не чувствовалось даже дуновения ветерка.
Между тем было очевидно, что, хотя наш экипаж без всяких замечаний повиновался отданному приказу, в путь он отправлялся неохотно; однако, полагая, что причиной такого рода нерадивости могло стать также сожаление, которое испытывал каждый, покидая свою жену или возлюбленную, мы не обратили на это особого внимания и продолжали надеяться, что на сей раз Нунцио изменила его обычная непогрешимость.
Около четырех часов наши матросы мало-помалу, причем скрывая свое намерение, приблизились к берегам Сицилии и оказались примерно в получетверти льё от деревни Паче, после чего побережье заполнили женщины и дети. Я прекрасно понимал цель этого маневра, приписываемого всего-навсего течению, и пошел навстречу желанию славных людей, позволив им если и не высадиться – без карантинного патента они не могли это сделать, – то хотя бы подойти к берегу на достаточно близкое расстояние, чтобы отплывающие и остающиеся могли еще раз проститься. Матросы воспользовались этим разрешением и после двадцати взмахов весел оказались на расстоянии слышимости. После получаса переговоров капитан первым напомнил, что нам нельзя терять время; тут все начали махать платками и подбрасывать шляпы, как это обычно бывает при подобных обстоятельствах, и мы тронулись в путь по-прежнему на веслах; в воздухе все также не ощущалось ни малейшего дуновения – напротив, становилось все более душно.
Подобное состояние атмосферы совершенно естественно располагало ко сну, и к тому же я столь подолгу и столь часто наблюдал берега как Сицилии, так и Калабрии, что не испытывал к ним большого любопытства и потому, оставив Жадена на палубе курить трубку, отправился спать.
Я проспал примерно три или четыре часа, даже во сне инстинктивно ощущая, что вокруг меня происходит нечто странное, и окончательно проснулся от топота матросов, бегавших у меня над головой, и от хорошо знакомого крика: «Burrasca! Burrasca![17]» Я попытался встать на колени, что из-за качки судна было для меня делом нелегким; наконец мне это удалось, и, любопытствуя узнать, что же происходит, я ползком добрался до задней двери каюты, выходившей к месту, отведенному для рулевого. Тут мне сразу все стало ясно: в то мгновение, когда я открывал дверь, волна, которой не терпелось ворваться в каюту в ту самую минуту, когда мне хотелось оттуда выйти, ударила меня прямо в грудь и отбросила на три шага назад, обдав водой и пеной. Я поднялся, но в каюте началось настоящее наводнение; я позвал Жадена, чтобы он помог мне спасти от потопа наши постели.
Жаден прибежал вместе с юнгой, который нес фонарь, в то время как Нунцио, ничего не упускавший из вида, тянул на себя дверь каюты, чтобы вторая волна окончательно не затопила наше помещение. Быстро свернув матрасы, которые, по счастью, были кожаные и не успели промокнуть, мы положили их на козлы, чтобы они парили над водами, подобно Духу Божьему, а простыни и одеяла развесили на вешалках, которыми были снабжены внутренние перегородки нашей спальни; затем, предоставив юнге собирать губкой два дюйма воды, в которой нам приходилось шлепать, мы выбрались на палубу.
Как и предсказывал кормчий, поднялся ветер, причем в указанный им час, и опять-таки, в согласии с его пророчеством, ветер этот был встречный. Тем не менее, поскольку нам удалось выйти из пролива, наши дела обстояли не так уж плохо, и мы лавировали в надежде продвинуться немного вперед; но в результате этих маневров волны теперь били нам прямо в борт и судно иногда кренилось так сильно, что концы рей окунались в море. Среди всей этой суматохи наши матросы бегали с носа на корму по наклонной, как крыша, плоскости, причем с быстротой, какой нам, кто мог удержаться на месте, лишь ухватившись за что-нибудь изо всех сил, просто не дано было понять. Время от времени снова раздавался крик: «Burrasca! Burrasca!» Тотчас же на сперонаре убирали все паруса и, развернув ее бушпритом к ветру, ждали шквала. С шумом налетавший ветер с дождем принимался со свистом гулять между наших мачт и голых снастей, в то время как волны, подхватив снизу сперонару, под-брасывали ее словно ореховую скорлупку. В то же самое время при вспышке двух-трех молний, сопровождавших каждый порыв ветра, мы видели, в зависимости от того, куда приближали нас галсы, то берега Калабрии, то берега Сицилии, причем всегда на одном и том же расстоянии, а это означало, что мы не слишком-то продвигались вперед. Впрочем, наше суденышко вело себя превосходно и экипаж предпринимал невероятные усилия, чтобы справиться с дождем, морем и ветром.
Так мы упорствовали в течение трех или четырех часов, и надо сказать, что за эти три-четыре часа наши матросы не высказали ни единого упрека в адрес того, кто по своей воле толкнул их на противоборство с самой невозможностью. Наконец, по истечении этого времени, я спросил, какой путь мы проделали с тех пор, как начали лавировать, а прошло с тех пор уже пять или шесть часов. Рулевой спокойно ответил, что мы прошли пол-льё. Тогда я осведомился, сколько времени может продолжаться шквалистый ветер, и узнал, что, по всей вероятности, нам предстоит сражаться с ним еще часов тридцать шесть – сорок. Если предположить, что мы и дальше будем одерживать над морем и ветром столь же ничтожную победу, то за два дня нам удастся пройти около восьми льё: игра не стоила свеч, и я сказал капитану, что если он пожелает вернуться в пролив, то мы на время откажемся двигаться дальше.
Едва я успел выразить это мирное намерение, как оно, немедленно переданное Нунцио, в ту же минуту, как по волшебству, стало известно всей команде; латинский парус и кливер развернулись во тьме, и маленькое суденышко, все еще содрогаясь от борьбы, понеслось при попутном ветре с резвостью беговой лошади. Через десять минут юнга пришел сообщить нам, что если мы желаем вернуться в каюту, то там совершенно сухо и мы снова найдем в ней свои постели, ожидающие нас в наилучшем состоянии. Мы не заставили повторять это приглашение дважды и, окончательно успокоенные насчет бури, вестником которой наше судно мчалось впреди нее, спустя несколько минут заснули.
Проснулись мы, когда судно уже стояло на якоре, точно на том же месте, откуда оно вышло накануне: нам не оставалось ничего другого, как считать, что мы и не трогались с места, а лишь пережили немного беспокойный сон.
Так как предсказание Нунцио сбылось по всем статьям, мы подошли к старику с еще большим, чем обычно, почтением, чтобы спросить о новых пророчествах в отношении погоды. Его прогнозы были неутешительны: по мнению рулевого, погода совершенно испортилась дней на восемь – десять; мало того, в воздухе ощущалось что-то весьма странное, чего он не понимал. Таким образом, из атмосферных наблюдений Нунцио следовало, что к Сан Джованни мы прикованы по меньшей мере на неделю. Что же касается предпринятой нами попытки выйти из пролива, оказавшейся столь неудачной, то о повторении ее нечего было и думать.
Наше решение было принято в ту же минуту. Мы заявили капитану, что отводим ветру шесть дней на то, чтобы он решился дуть не с севера, а с юго-востока, а если по истечении этого времени он все-таки не отважится перемениться, то, прихватив с собой ружья, мы преспокойно отправимся в путь по суше, через равнины и горы, продвигаясь то пешком, то на мулах; тем временем ветер, возможно, изменит в конце концов направление, и наша сперонара, воспользовавшись первым его благоприятным дуновением, встретится с нами в Пиццо.
Ничто не приносит телу и душу большего облегчения, чем принятое решение, пусть даже оно прямо противоположно тому, какое предполагалось избрать. Едва наше решение было принято, мы тут же занялись нашим жилищным обустройством: ни за что на свете мне не хотелось бы вновь оказаться в Мессине. Поэтому мы условились, что останемся жить на нашей сперонаре, и, соответственно, озаботились немедленно вытащить ее на сушу, чтобы нам не пришлось сносить надоедливый плеск волн, которые в плохую погоду ощущаются даже в проливе. Все принялись за дело, и через час сперонару, подобно античному кораблю, вытащили на прибрежный песок, закрепив ее с обеих сторон двумя огромными стойками; левый борт украсили трапом, по которому с палубы можно было сходить на твердую землю. Кроме того, позади грот-мачты был натянут навес, чтобы укрывать нас от солнца и дождя, когда мы прогуливаемся, читаем или работаем. Благодаря этим несложным приготовлениям, наше жилище получилось несравнимо более удобным, чем самый лучший постоялый двор в Сан Джованни.
Время, которое нам предстояло провести таким образом, не должно было пропасть напрасно: Жадену нужно было доработать его наброски, а я во время долгих ночных мечтаний под небом Сицилии составил примерный план моей пьесы «Поль Джонс», и мне оставалось лишь более четко обрисовать несколько характеров и доделать несколько сцен. Так что я решил воспользоваться этим своеобразным карантином, чтобы закончить подготовительную работу, которая в Неаполе должна была получить свое завершение, и тем же вечером принялся за нее.
На следующий день капитан попросил у нас разрешения для себя и своих людей уйти в деревню Паче на все то время, пока будет дуть северный ветер; двое матросов останутся на борту, чтобы обслуживать нас, сменяясь раз в два дня. На таких условиях разрешение было дано.
Как и предсказывал Нунцио, ветер все время дул встречный, однако после шквала, бушевавшего две ночи и весь день, погода несколько улучшилась. По вечерам из-за гор Калабрии вставала полная луна и превращала пролив в серебряное озеро, а Мессину – в один из тех фантастических городов, о каких грезит поэтический резец Мартина. Именно такое время я предпочтитал выбирать для работы, и, по всей вероятности, покою этих прекрасных сицилийских вечеров характер главного героя моей пьесы обязан лежащим на нем отпечатком религиозности и мечтательности, который, возможно, в большей степени, чем драматические сцены, определил успех этого произведения.
Но и через шесть дней ветер ничуть не переменился, продолжая по-прежнему противостоять нам. Не желая менять принятого нами решения, мы надумали отправиться в путь утром седьмого дня и попросили передать капитану, чтобы он вернулся и вместе с нами наметил маршрут. Капитан не только вернулся, но еще и привез с собой весь экипаж: славные люди не хотели отпускать нас не простившись. Так что около трех часов мы увидели, как они подплывают в шлюпке. Я тотчас отдал Джованни распоряжение достать все, что можно найти из съестного, а дежурившему с ним Филиппо велел накрыть на палубе стол; что касается десерта, то я подозревал, что нам не придется об этом беспокоиться, так как всякий раз, возвращаясь из деревни, матросы обязательно приносили из своих садов превосходнейшие фрукты.
Хотя и застигнутый врасплох, Джованни с обычной для него ловкостью вышел из положения: через полтора часа у нас был готов вполне приличный ужин. Правда, мы имели дело с весьма снисходительными сотрапезниками.
Когда ужин, на котором присутствовала часть населения Сан Джованни, закончился и столы были убраны, речь зашла о том, чтобы станцевать тарантеллу. И тогда мне пришла мысль послать Пьетро в деревню, чтобы найти там двух музыкантов – флейтиста и гитариста; вскоре я услыхал приближающихся оркестрантов: один дул в свой флажолет, другой пиликал на виоле; за ними следовала вся остальная деревня. Тем временем Джованни приготовил целую иллюминацию, и через несколько минут сперонара засияла огнями.
Я попросил капитана пригласить его знакомых подняться на судно, и мгновенно у нас на борту появилось человек двадцать танцоров и танцовщиц. Мы усадили музыкантов на крышу каюты, поставили на баке стол со стаканами и бутылками, и торжественный прием начался, к великой радости актеров и даже зрителей.
Тарантелла, напомним, была вершиной успеха Пьетро, так что ни один из калабрийских танцоров и не пытался оспорить его победу. Поговаривали, правда, потихоньку о некоем Аньоло, который, как утверждалось, и в одиночку, присутствуй он здесь, сумел бы поддержать честь Калабрии против всей Сицилии, но его не было. Как только стало известно, что готовятся танцы, Аньоло всюду стали искать, но так и не нашли: по всей вероятности, он находился в Реджо или Сцилле, что было чревато большой бедой для национального самолюбия жителей Сан Джованни. Впрочем, надо полагать, что известность вышеупомянутого Аньоло перешагнула пролив, ибо капитан, наклонившись к моему уху, шепотом произнес:
– Я не хочу принизить Пьетро, он, конечно, талантлив, но счастье для него, что здесь нет Аньоло.
Едва он произнес эту фразу, как на берегу поднялся громкий крик и толпа зрителей расступилась перед красивым парнем лет двадцати – двадцати двух, одетым в праздничную одежду. Этот красавец и был Аньоло, а задержался он, приводя себя в порядок.
Было очевидно, что его появление не очень приятно для наших матросов, и в особенности для Пьетро, которому грозила утрата первенства или, по крайней мере, необходимость разделить с соперником аплодисменты собравшихся. Между тем капитан не мог позволить себе не пригласить человека, на которого разговоры кругом указывали нам как на предмет всеобщего восхищения, и потому он подошел к борту сперонары, в десяти шагах от которой, скрестив руки, с вызывающим видом стоял Аньоло, и пригласил его принять участие в празднике. Аньоло не без учтивости поблагодарил его и, не дав себе труда подойти к трапу, находившемуся с другой стороны, уцепился, подпрыгнув, правой рукой за обшивку судна, затем подтянулся на руках, словно учитель эквилибристики, и опустился на палубу. Это означало, как говорят за кулисами, подготовить свой выход. И Аньоло, более удачливому с этой точки зрения, чем многие известные актеры, посчастливилось произвести должное впечатление.
И тут между ним и Пьетро началось настоящее танцевальное состязание. Мы полагали до этого, что узнали Пьетро за то время, как свели с ним знакомство, однако теперь вынуждены были признать, что истинный Пьетро впервые являлся нам во всем своем блеске. Быстрые движения ног, притопывания, тройные повороты, в которые он вкладывал всю душу, были чем-то фантастическим; но все, что делал Пьетро, мгновенно, словно его тенью, повторялось Аньоло и, надо признать, с ббльшим совершенством. Пьетро танцевальный дар дала природа, Аньоло – цивилизация; Пьетро исполнял свои па с определенным напряжением ума и тела: видно было, как он комбинирует их сначала в голове, а потом ноги подчиняются данному им приказу; у Аньоло – не так: все у него происходило мгновенно, искусство стало походить на вдохновение, что, как всем известно, является высшей ступенью, какой может достигнуть искусство. В итоге Пьетро, едва переводя дух, запыхавшись, совсем выбившись из сил и исчерпав весь свой репертуар, упал, скрестив ноги и издав привычный свой крик, означавший отказ от дальнейшей борьбы, что не имело значения, когда все происходило перед нами, то есть в своем кругу, но приобретало совсем иной смысл перед лицом такого соперника, как Аньоло.
Что же касается Аньоло, то для него праздник только-только начинался, поэтому он дал Пьетро несколько минут на то, чтобы прийти в себя, а затем, увидев, что его противник несомненно нуждается в более длительной передышке, раз он не поднимается, попросил музыкантов сыграть еще одну тарантеллу и продолжил исполнять танцевальные фигуры.
На этот раз Аньоло, которому уже не приходилось ни с кем соперничать, был самим собой, то есть поистине прекрасным танцором, но не так, как понимают это во французской гостиной, а как того требуют в Испании, на Сицилии и в Калабрии. Показаны были все фигуры тарантеллы, исполнены все пассы; его кушак, шляпа, букет по очереди становились деталями маленькой хореографической пьесы, которая выражала одну за другой все ступени страсти и, начавшись почти равнодушной встречей танцора и танцовщицы, пройдя разные фазы отвергнутой, а потом разделенной любви, закончилась неистовым восторгом взаимного счастья.
Вместе с другими мы подошли поближе, чтобы увидеть это поистине театральное представление и, рискуя ранить самолюбие нашего бедного Пьетро, присоединили свои аплодисменты к аплодисментам толпы, как вдруг послышались крики: «Танец Портного! Танец Портного!» Сначала это были голоса двух или трех человек, затем им с неистовой силой стали вторить не только находившиеся на борту приглашенные, но и зрители, заполнявшие берег. Аньоло повернулся к нам, словно желая сказать, что раз он наш гость, то без нашего согласия не станет ничего делать; и тогда мы присоединили свою просьбу к настоятельным требованиям всех остальных. Тут Аньоло, любезно поклонившись толпе, подал знак, что готов уступить высказанному пожеланию. Такая снисходительность была тотчас встречена единодушными аплодисментами, и музыканты заиграли странную ритурнель, мгновенно вызвавшую у присутствующих взрыв веселья.
Я имею несчастье с трудом воспринимать балет и потому подошел к капитану, чтобы спросить, что это за «танец Портного».
– О! – воскликнул он в ответ. – Это одна из тех дьявольских историй, какие у них в горах насчитываются сотнями. А что вы хотите? Тут нет ничего удивительного, в Калабрии они все колдуны и колдуньи.
– И все же, с какими обстоятельствами связано появление этого танца?
– Дело в том, что один разбойник-портной из Ка-тандзаро, папаша Теренцио, бесплатно сшил дьяволу штаны, выставив условие, что дьявол заберет его жену. Бедная женщина! Дьявол ее в конце концов и забрал.
– Ба!
– Честное слово!
– Каким образом?
– Играя на скрипке. О ней никто больше никогда не слышал, никогда.
– В самом деле?
– Ну да, Боже ты мой! А он до сих пор жив. Если вы окажетесь в Катандзаро, то сможете его увидеть.
– Кого? Дьявола?
– Нет, этого прощелыгу Теренцио. А случилось это лет десять тому назад, не больше, причем на глазах у всех. Впрочем, в Калабрии они все колдуны и колдуньи, дело известное.
– О капитан! Вы расскажете мне эту историю?
– Ну, я-то не очень хорошо ее знаю, – признался капитан. – К тому же я не слишком люблю говорить о всех этих историях, где замешан дьявол, вы ведь знаете, что в моей семье была уже одна история с колдуньей. Вы вот собираетесь пересечь Калабрию, так дай-то Бог, чтобы с вами ничего не случилось! А про историю папаши Терен-цио вы, слава Богу, можете спросить у первого встречного. Она известна всем, и вам ее расскажут.
– Вы думаете?
– О! Я в этом уверен.
Я взял свой путевой дневник и написал сверху большими буквами:
«Не забыть попросить рассказать мне историю папаши Теренцио из Катандзаро, который бесплатно сшил дьяволу штаны, выставив условие, что дьявол заберет его жену».
Затем я вернулся к Аньоло.
Занавес был поднят, и под музыку, еще более странную, чем ритурнель, необычность которой меня уже поразила, Аньоло только что начал танец своего сочинения, ибо Аньоло был не только исполнителем, но еще и сочинителем; ничто не может дать представление об этом танце, который имел бы бешеный успех в опере «Искушение», если бы можно было перенести туда все вместе: музыкантов, музыку и танцора. К несчастью, зная лишь название балета и еще не услышав программы, я лишь весьма поверхностно мог понять смысл исполнявшегося действия, которое показалось мне в высшей степени интересным и запутанным. Время от времени я видел, как Аньоло делает жесты человека, который шьет, утюжит штаны, пьет из стакана вино; но все эти жесты, на мой взгляд, представляли собой, если можно так выразиться, лишь эпизоды драмы, суть которой по-прежнему оставалась для меня неясной. Что же касается Аньоло, то его пантомима становилась все более яркой и живой, а его танец, шутовской и в то же время фантастический, был исполнен почти магического воодушевления. Видны были усилия, какие он делал, чтобы сдерживать себя, но музыка увлекала его за собой. Что же касается флейтиста и гитариста, то первый дудел до изнеможения, а второй пиликал, чуть ли не вывихивая себе руки. Присутствующие притопывали ногами, Аньоло подпрыгивал, мы с Жаденом вместе с другими целиком отдавались этому дьявольскому зрелищу, как вдруг я увидел Нунцио, который, пробившись сквозь толпу, подошел к капитану и шепотом сказал ему несколько слов. Капитан тотчас же протянул руку и тронул меня за плечо:
– Ваше превосходительство!
– В чем дело? – спросил я.
– Ваше превосходительство, старик уверяет, что в атмосфере творится что-то неладное и, вместо того чтобы смотреть на танцы, которые возмущают Господа Бога, нам бы следовало лучше помолиться.
– И что там может происходить в атмосфере, по мнению Нунцио?
– Боже правый! – воскликнул капитан. – Похоже, все дрожит.
И сразу же после этого справедливого замечания раздался всеобщий крик ужаса. Судно покачнулось, будто оно все еще находилось в открытом море. Одна из двух поддерживающих подпорок скользнула вдоль корпуса сперонары, и та, опрокинувшись, точно повозка, у которой с одной стороны разом отвалились оба колеса, отправила нас всех вперемешку – танцоров, музыкантов и зрителей – кубарем на песок.
На мгновение воцарились ужас и смятение, не поддающиеся описанию; поднявшись, каждый бросился бежать, сам не зная куда. Я же, потеряв из-за только что проделанного мной кульбита всякое представление о топографии местности, направился прямо в море, когда чья-то рука схватила и остановила меня: это был кормчий.
– Куда вы идете, ваше превосходительство? – спросил он.
– Ей-Богу, кормчий, понятия не имею! А вы куда? Я пойду с вами, мне все равно куда идти.
– Нам никуда не надо идти, ваше превосходительство. Самое лучшее, что мы можем сделать, это ждать.
– Ну и ну! – появляясь в свою очередь и выплевывая набившийся в рот песок, произнес Жаден. – Вот так прыжок!
– С вами все в порядке? – спросил я.
– Со мной все в порядке; я упал на Милорда, чуть не задушив его, а больше ничего. Бедняга Милорд, – продолжал Жаден, сладчайшим фальцетом обращаясь к своему псу, – ты спас жизнь своему хозяину!
Поднявшись, Милорд энергично завилял хвостом, что свидетельствовало о том удовольствии, какое он испытывал, совершив, сам того не подозревая, столь прекрасный поступок.
– Но в чем все-таки дело? – спросил я. – Что произошло?
– А произошло то, – сказал Жаден, пожав плечами, – что эти дурни плохо закрепили стойки, и, когда одна опора сдвинулась, сперонара уподобилась Милорду, стряхивающему с себя блох.
– Дело в том, – подхватил кормчий, – что это земля стряхнула с себя своих.
– Каким образом?
– Послушайте, что они кричат, разбегаясь.
Я повернулся в сторону деревни и увидел наших гостей, бежавших, как безумные, с криком: «Terremoto, ter-remoto![18]»
– Что это значит? Неужели землетрясение? – спросил я.
– Ни больше ни меньше, – ответил кормчий.
– Честное слово? – оживился Жаден.
– Честное слово! – подтвердил Нунцио.
– Ну и ну! Дайте руку, кормчий, я в восторге.
– От чего? – озабоченно спросил Нунцио.
– От того, что мне удалось ощутить землетрясение. Неужто вы полагаете, что такое случается каждое воскресенье? Бедняга Милорд, ему довелось видеть бури, ему довелось видеть вулканы, ему довелось видеть землетрясение, а стало быть, он все повидал!
Я невольно рассмеялся.
– Да, да, – произнес кормчий, – смейтесь. Я прекрасно знаю, что вы, французы, над всем смеетесь. А ведь в эту минуту пол-Калабрии, возможно, перевернуло вверх дном. Невелика беда, ясное дело, однако калабрийцы тоже люди.
– Полноте, кормчий! – возразил я. – Неужели вы думаете, что из-за такого маленького толчка, который мы почувствовали…
– Видите ли, ваше превосходительство, движение шло с севера на юг, мы же находимся как раз на краю сапога и потому мало что почувствовали, а вот в стороне Никастро и Козенцы, должно быть, пришлось хуже всего. Не говоря уже о том, что это, может, еще и не конец.
– Вот как! – воскликнул Жаден. – Вы полагаете, что нас снова ждет это удовольствие? Ну что же, хорошо. В таком случае закурим трубку.
И в ожидании второго толчка он стал высекать огонь.
Но мы прождали напрасно: второго толчка не последовало, и через десять минут наш экипаж, который в первое мгновение разбежался в разные стороны, собрался вокруг нас. Никто не пострадал, за исключением Джованни, вывихнувшего себе запястье, и Пьетро, уверявшего, что у него растяжение связок.
– Ну как, кормчий, – произнес капитан, – что теперь будем делать?
– О Боже мой! Не так уж много, капитан, – отвечал старый пророк. – Поставим сперонару на ее многострадальный киль, поскольку, я думаю, на этом пока все кончилось.
– Давайте, ребята, за работу! – сказал капитан и, повернувшись к нам, добавил: – Если бы их превосходительства были так любезны…
– Что надо сделать, капитан, говорите.
– Помочь нам. Нас все же маловато, если мы хотим справиться с этим делом, ведь эти бездельники-калабрийцы годятся лишь на то, чтобы пить, есть да танцевать, а вот что касается работы, то на них нельзя рассчитывать. Взгляните: ни одного не осталось!
В самом деле, на берегу было пусто: мужчины, женщины, дети – все исчезли, что мне, впрочем, показалось довольно естественным, а потому обижаться на них не стоило.
И хотя нам пришлось ограничиться собственными силами, мы, тем не менее, благодаря искусному приспособлению, придуманному кормчим, сумели поставить судно в строго вертикальное положение. Соскользнувшая стойка была возвращена на место, трап снова прикреплен к левому борту, и примерно через час на сперонаре все было чисто и в полном порядке, словно не случилось ничего необычного.
Ночь прошла без всяких происшествий.
ПОРТНОЙ ТЕРЕНЦИО
На следующий день, в шесть часов утра, мы увидели, что прибыл проводник с двумя мулами, о чем мы просили накануне. Никакого значительного урона деревня не понесла: упали три или четыре трубы, только и всего.
И тогда мы договорились с капитаном о наших действиях. Чтобы добраться по суше до Пиццо, нам требовалось три дня; ему же, при условии, что ветер переменится, требовалось двенадцать – пятнадцать часов, и между нами было решено, что если он первым прибудет на встречу, то подождет нас, а если, напротив, мы опередим его, то должны ждать два дня; затем, если по прошествии этих двух дней он так и не появится, мы оставим ему письмо в главной гостинице города и укажем место новой встречи.








