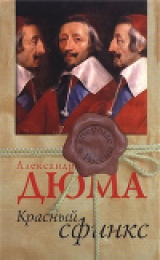
Текст книги "Красный сфинкс"
Автор книги: Александр Дюма
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 41 страниц)
XII. СЕРЫЙ КАРДИНАЛ
Было хорошо известно, что отец Жозеф – второе «я» кардинала, и едва он появился, как все ближайшие сотрудники министра мгновенно исчезли, точно присутствие Серого кардинала в кабинете Ришелье обладало способностью создавать вокруг себя пустоту.
Госпожа де Комбале, как и остальные, не избежала этого влияния – ей стало не по себе при безмолвном появлении отца Жозефа. Едва он вошел, она подставила кардиналу лоб для поцелуя и сказала:
– Прошу вас, милый дядя, не засиживайтесь слишком поздно.
Затем она удалилась, радуясь, что выйдет в дверь, противоположную той, в какую вошла, и ей не придется проходить мимо монаха, безмолвно и неподвижно стоящего на полпути от двери до письменного стола кардинала.
В эпоху, о которой мы рассказываем, все монашеские ордена, за исключением ордена ораторианцев Иисуса, основанного в 1611 году кардиналом Берюлем и утвержденного после долгого сопротивления Павлом V в 1613 году, были практически объединены в руках кардинала-министра. Он был признанным покровителем бенедиктинцев Клюни, Сито и Сен-Мора, премонтранцев, доминиканцев, кармелитов и, наконец, всего этого монашеского семейства последователей святого Франциска: миноритов, минимов, францисканцев, капуцинов и т. д. и т. д. В благодарность за покровительство все эти ордена, которые проповедуя, нищенствуя, миссионерствуя, мелькали, бродили, рыскали повсюду, стали для Ришелье услужливой полицией, имевшей то преимущество, что основным источником поступающих сведений были исповедальни.
Вот эту-то бродячую полицию, трудившуюся с неуемным рвением к разведыванию, и возглавлял состарившийся в интригах капуцин Жозеф. Как впоследствии Сартин, Ленуар, Фуше, он обладал талантом шпионажа. Его брат, Леклер дю Трамбле, был по протекции Жозефа назначен комендантом Бастилии; таким образом, арестанта, выслеженного, разоблаченного и арестованного дю Трамбле-капуцином, брал под стражу, сажал в камеру и охранял дю Трамбле-комендант. Если же арестант умирал в заключении, что было не редкостью, его исповедовал, причащал и хоронил дю Трамбле-капуцин, и таким образом заключенный, однажды схваченный, оставался в руках одной семьи.
У отца Жозефа было нечто вроде подминистерства, состоявшего из четырех отделений, возглавляемых четырьмя капуцинами. Был у него секретарь по имени отец Анж Сабини – его собственный отец Жозеф. До вступления в эту должность ему приходилось совершать дальние поездки; он проделывал их верхом, и сопровождал его отец Анж тоже на лошади. Но однажды, когда отец Жозеф сел на кобылу, а отец Сабини – на нехолощеного жеребца, эти четвероногие неожиданно образовали группу, в которой капюшоны монахов выглядели столь комично, что отец Жозеф из чувства собственного достоинства отказался от этого способа передвижения и впредь путешествовал на носилках или в карете.
Но при обычном выполнении своих функций, когда нужно было сохранять инкогнито, отец Жозеф ходил пешком, надвинув капюшон на глаза, чтобы его не узнавали, что было нетрудно, ибо улицы Парижа в ту эпоху наводнены были монахами всевозможных орденов в одеяниях всевозможных цветов.
В этот вечер отец Жозеф тоже пришел пешком.
Кардинал тщательно проследил, чтобы одна дверь закрылась за капитаном его телохранителей, а другая за племянницей, и после этого, усевшись за бюро и повернувшись к отцу Жозефу, спросил:
– Ну, вы хотите что-то мне сказать, милейший дю Трамбле?
Кардинал сохранил привычку называть капуцина по фамилии.
– Да, монсеньер, – отвечал тот, – и я приходил дважды, надеясь иметь честь вас увидеть.
– Я знаю, и это даже дало мне надежду, что вы добыли какие-то сведения о графе де Море, о его возвращении в Париж и о причинах этого возвращения.
– Я еще не располагаю всеми сведениями, какие желает получить ваше высокопреосвященство, однако полагаю, что нахожусь на верном пути.
– А-а! Моим Белым Плащам удалось кое-что сделать!
– Не так уж много. Они узнали всего лишь, что граф де Море остановился в особняке Монморанси у герцога Генриха Второго и что ночью он вышел, дабы отправиться к любовнице, проживающей на улице Вишневого сада, напротив особняка Ледигьер.
– На улице Вишневого сада, напротив особняка Ледигьер? Но там живут две сестры Марион Делорм!
– Да, монсеньер, госпожа де ла Монтань и госпожа де Можирон; но неизвестно, которой из них он любовник.
– Хорошо, это я узнаю, – сказал кардинал.
И, сделав капуцину знак подождать, он написал на листке бумаги:
«Любовником которой из ваших сестер является граф де Море? И кто любовник другой? Есть ли несчастливый любовник?»
Потом он подошел к стенной панели, одним нажатием кнопки открывавшейся на всю высоту кабинета.
Эта открытая панель дала бы возможность пройти в соседний дом, если бы по ту сторону стены тоже не было двери.
Между этими двумя дверьми находились две ручки звонков – одна справа, другая слева: изобретение настолько новое или, во всяком случае, малоизвестное, что было оно только у кардинала и в Лувре.
Кардинал подсунул листок под дверь соседнего дома, потянул ручку правого звонка, закрыл панель и снова уселся на свое место.
– Продолжайте, – сказал он отцу Жозефу, следившему за его действиями с видом человека, не удивляющегося ничему.
– Итак, я говорил, монсеньер, что братья из монастыря Белых Плащей сделали не так уж много; зато Провидение, особо пекущееся о вашем высокопреосвященстве, сделало намного больше.
– Вы уверены, дю Трамбле, что Провидение особо печется обо мне?
– Разве оно могло бы найти себе лучшее занятие, монсеньер?
– Ну что ж, – улыбнулся кардинал, которому очень хотелось поверить в слова отца Жозефа, – посмотрим, что докладывает Провидение о господине графе де Море.
– Так вот, монсеньер, я возвращался из монастыря Белых Плащей, где узнал всего лишь, как я уже имел честь докладывать вашему высокопреосвященству, что господин граф де Море уже неделю в Париже, что живет он у де Монморанси и имеет любовницу на улице Вишневого сада, – как видим, немного.
– Я нахожу, что вы несправедливы к достойным отцам: делающий то, что он может, исполняет свой долг. Все может лишь Провидение. Посмотрим же, что оно совершило.
– Оно свело меня лицом к лицу с самим графом.
– Вы его видели?
– Как имею честь видеть вас, монсеньер.
– А он? – быстро спросил кардинал. – Он вас видел?
– Видел, но не узнал.
– Садитесь, дю Трамбле, и расскажите-ка мне об этом!
У Ришелье была привычка из притворной любезности приглашать капуцина садиться, а у того – привычка из притворного смирения оставаться стоять.
Он поблагодарил кардинала поклоном и продолжал:
– Вот как все случилось, монсеньер. Выйдя из монастыря Белых Плащей и получив там эти сведения, я вдруг увидел, что люди бегут в сторону улицы Вооруженного Человека.
– Кстати, насчет Вооруженного Человека, вернее, улицы Вооруженного Человека, – перебил его кардинал, – там есть гостиница, требующая вашего присмотра; называется она «Крашеная борода».
– Именно туда и бежала толпа, монсеньер.
– И вы побежали вместе с толпой?
– Ваше высокопреосвященство понимает, что я не мог упустить случая. Там только что было совершено нечто вроде убийства одного бедняги по имени Этьенн Латиль, ранее служившего у господина д'Эпернона.
– У господина д'Эпернона? Этьенн Латиль? Запомните его имя, дю Трамбле, этот человек может однажды оказаться нам полезным.
– Сомневаюсь, монсеньер.
– Почему?
– Полагаю, он отправился в путешествие, откуда мало шансов вернуться.
– Ах, да, понимаю, ведь это его убили.
– Именно так, монсеньер; в первый миг его сочли мертвым, но он пришел в себя и потребовал священника, так что я оказался там как раз кстати.
– Опять Провидение, дю Трамбле! И вы, я полагаю, приняли его исповедь?
– До последнего слова.
– Сказал он вам что-нибудь важное?
– Монсеньер сможет об этом судить, – с улыбкой ответил капуцин, – если соблаговолит освободить меня от соблюдения тайны исповеди.
– Хорошо, хорошо, – сказал Ришелье, – освобождаю.
– Так вот, монсеньер, Этьенн Латиль был убит за то, что отказался убить графа де Море.
– Но кому может быть нужно убийство этого молодого человека, не участвовавшего – по крайней мере, до сегодняшнего дня – ни в одном заговоре?
– Соперничество в любви.
– Вы об этом знаете?
– Я так думаю.
– И вы не знаете, кто убийца?
– Ни я, монсеньер, ни сам Латиль: он знает только, что его противник горбун.
– У нас в Париже среди отъявленных дуэлянтов только два горбуна: маркиз Пизани и маркиз де Фонтрай. Пизани исключается – он сам получил вчера в девять часов вечера у дверей особняка Рамбуйе удар шпагой от своего друга Сукарьера; значит, вам надо установить наблюдение за Фонтраем.
– Я так и сделаю, монсеньер; но пусть ваше высокопреосвященство соблаговолит немного подождать: мне осталось рассказать самое необычайное.
– Рассказывайте, рассказывайте, дю Трамбле, меня чрезвычайно интересует ваш отчет.
– Самым необычайным, монсеньер, было вот что: в то время как я исповедовал умирающего, граф де Море собственной персоной вошел в комнату, где проходила исповедь.
– Как? В гостиницу «Крашеная борода»?
– Да, монсеньер, сам граф де Море вошел в гостиницу «Крашеная борода» переодетый мелкопоместным баскским дворянином; он подошел к раненому, бросил на стол, где тот лежал, полный золота кошелек, сказав: «Если ты выживешь, вели отнести себя в особняк герцога де Монморанси. Если ты умрешь, не беспокойся о своей душе: в мессах за ее спасение недостатка не будет».
– Похвальное намерение, – сказал Ришелье, – а все-таки скажите моему медику Шико, чтобы он осмотрел беднягу. Важно, чтобы он поправился. Но уверены ли вы, что граф де Море не узнал вас?
– Совершенно уверен.
– Что он мог делать, переодетый, в этой гостинице?
– Может быть, нам и удастся это узнать. Ваше высокопреосвященство не догадывается, кого я встретил на углу улиц Платр и Вооруженного Человека?
– Кого же?
– Да еще переодетую пиренейской крестьянкой.
– Говорите скорее, дю Трамбле; уже поздно, и у меня нет времени отыскивать разгадки.
– Госложу де Фаржи.
– Госпожу де Фаржи, выходящую из гостиницы? – воскликнул кардинал. – Она была одета по-каталонски, он по-баскски. Это было свидание.
– Я сказал себе то же самое, но свидания бывают разные, монсеньер. Дама не очень строгих нравов, а молодой человек – сын Генриха Четвертого.
– Нет, это не любовное свидание, дю Трамбле. Молодой человек возвращается из Италии, он проезжал через Пьемонт. Голову даю на отсечение, что у него были письма к королеве или даже к королевам. О, пусть он поостережется, – добавил Ришелье, и лицо его приняло угрожающее выражение, – два сына Генриха Четвертого уже сидят у меня под замком.
– Короче говоря, монсеньер, таковы результаты моего вечера; я счел их достаточно важными, чтобы доложить вам.
– И правильно сделали, дю Трамбле; так вы говорите, что молодой человек живет у герцога де Монморанси?
– Да, монсеньер.
– Уж не замешан ли и он в заговоре? Может быть, он уже забыл, что я отрубил голову одному носителю этого имени? Он хочет стать коннетаблем, как его отец и дед. Он и стал бы им, если б не Креки, вообразивший, что этот титул принадлежит ему как мужу одной из Ледигьер. До чего же, выходит, легко его носить, меч Дюгеклена! Но, во всяком случае, герцог – верный и преданный рыцарь. Я пошлю за ним. Его меч коннетабля находится под стенами Казаля, пусть он за ним туда отправится. Как вы сказали, дю Трамбле, вечер сегодня удачный, и я надеюсь хорошо его завершить.
– Какие приказания будут у монсеньера?
– Наблюдайте, как я вам сказал, за гостиницей «Крашеная борода», но не слишком явно; не спускайте глаз с вашего раненого, пока он не окажется в земле или не поправится. Что касается графа де Море, он, думаю, занят другой женщиной, а не этой Фаржи, у которой уже есть Крамай и Марийяк. В конце концов, дю Трамбле, существует Провидение и, как вы сказали, оно занимается этим делом. Но вы знаете, что Провидение не может со всем справиться в одиночку.
– А на этот случай создана поговорка или, вернее, максима: «Помоги себе сам, и Бог тебе поможет».
– Вы весьма проницательны, дорогой дю Трамбле, и для меня было бы большим несчастьем вас лишиться. Так что дайте мне время оказать папе услугу, избавив его от испанцев, которых он боится, и от австрийцев, кото¬рых он ненавидит, и мы устроим, чтобы первая же красная шапка, прибывшая из Рима, размером пришлась по вашей голове.
– Если бы она оказалась мне мала или велика, я по¬просил бы монсеньера подарить мне свою старую в знак того, что, каких бы милостей ни удостоило меня Небо, я никогда не буду считать себя равным вам, а всегда останусь вашим покорнейшим слугой.
И отец Жозеф, сложив руки на груди, смиренно поклонился.
В дверях он встретил Кавуа; тот посторонился, давая ему дорогу, как сделал это и при входе капуцина.
Когда Серый кардинал скрылся, Кавуа сказал:
– Монсеньер, он здесь.
– Сукарьер?
– Да, монсеньер.
– Значит, он был дома?
– Нет, но его слуга сказал, что, вероятно, он в игорном доме на улице Вильдо, куда нередко заглядывает; там я его и нашел.
– Пригласите его.
Кавуа, опустив глаза, не двинулся с места.
– В чем дело? – спросил кардинал.
– Монсеньер, я хотел обратиться к вам с просьбой.
– Говорите, Кавуа; вы знаете, что я вас ценю и рад буду доставить вам удовольствие.
– Я хотел узнать: когда господин Сукарьер уйдет, позволено ли мне будет провести остаток ночи дома? Со времени нашего возвращения в Париж, монсеньер, вот уже пять дней или, точнее, пять ночей я не ложился в постель.
– И вам надоело бодрствовать?
– Нет, монсеньер, это госпоже Кавуа надоело спать.
– Следовательно, госпожа Кавуа до сих пор влюблена?
– Да, монсеньер, но влюблена в своего мужа.
– Прекрасный пример для придворных дам! Кавуа, вы проведете эту ночь со своей женой.
– О, благодарю, монсеньер!
– Я разрешаю вам отправиться за ней.
– Отправиться за госпожой Кавуа?
– Да, и доставить ее сюда.
– Сюда? Что вы имеете в виду, монсеньер?
– Мне нужно с ней поговорить.
– Поговорить с моей женой? – вскричал Кавуа вне себя от изумления.
– Я хочу сделать ей подарок в возмещение бессонных ночей, проведенных ею по моей вине.
– Подарок? – переспросил Кавуа, все более удивляясь.
– Пригласите господина Сукарьера, Кавуа, и, пока я буду разговаривать с ним, отправляйтесь за вашей женой.
– Но, монсеньер, – робко заметил Кавуа, – она будет уже в постели.
– Велите ей встать.
– Она не захочет прийти.
– Возьмите с собой двух стражников.
Кавуа расхохотался.
– Что ж, пусть будет так, монсеньер. Я вам ее доставлю, но предупреждаю, что у госпожи Кавуа язык хорошо подвешен.
– Тем лучше, Кавуа, я люблю такие языки, ведь ред¬ко встретишь при дворе людей, которые говорят все, что думают.
– Так вы серьезно отдаете мне это распоряжение, монсеньер?
– Серьезнее не бывает.
– Будет исполнено, монсеньер.
Кавуа, все еще не до конца убежденный, поклонился и вышел.
Кардинал, пользуясь тем, что он остался один, быстро подошел к стенной панели и открыл ее.
На том же месте, где был оставлен вопрос, оказался ответ.
Он был составлен столь же лаконично, что и вопрос.
Вот что в нем значилось:
«Граф де Море – любовник г-жи де ла Монтань, а Сукарьер – г-жи де Можирон. Несчастливый любовник – маркиз Пизани».
– Удивительно, – пробормотал кардинал, закрывая панель – как все сходится сегодня вечером. Поневоле начнешь, как этот дурак дю Трамбле, верить в Провидение.
В эту минуту секретарь Шарпаньте отворил дверь и, заменяя камердинера или придверника, возвестил:
– Мессир Пьер де Бельгард, маркиз де Монбрён, сеньор де Сукарьер.
Что касается Кавуа, то он, не теряя времени, отправился за своей женой.
XIII. ГЛАВА, В КОТОРОЙ ГОСПОЖА КАВУА СТАНОВИТСЯ КОМПАНЬОНКОЙ ГОСПОДИНА МИШЕЛЯ
Человек, велевший доложить о себе этим помпезным нагромождением титулов, был – наши читатели это знают – не кто иной, как наш друг Сукарьер, чей портрет мы бегло набросали в начале этого тома.
Сукарьер вошел с непринужденным видом и поклонился его высокопреосвященству с развязностью, которую в его положении можно было счесть наглостью.
Кардинал, казалось, стал искать взглядом, где свита, приведенная с собой Сукарьером.
– Простите, монсеньер, – спросил тот, изящно вытянув ногу и округлив руку, в которой держал шляпу, – кажется, ваше высокопреосвященство что-то ищет?
– Я ищу тех людей, о ком доложили одновременно с вами, господин Мишель.
– Мишель? – переспросил Сукарьер, притворяясь удивленным. – А кого так зовут, монсеньер?
– По-моему, вас, сударь мой.
– О, монсеньер находится в серьезном заблуждении, и я не могу его в нем оставить. Я признанный сын мессира Роже де Сен-Лари, герцога де Бельгарда, великого конюшего Франции. Мой знаменитый отец еще жив, и можно обратиться к нему за необходимыми сведениями. Меня зовут сеньором де Сукарьером по купленному мной имению. Титул маркиза я получил от госпожи герцогини Николь Лотарингской по случаю моего брака с благородной девицей Анной де Роже.
– Дорогой господин Мишель, – произнес кардинал де Ришелье, – позвольте мне рассказать вам вашу историю. Я знаю ее лучше, чем вы, а для вас она будет поучительна.
– Я знаю, – отвечал Сукарьер, – что великие люди, подобные вам, после утомительного дня нуждаются в небольшом развлечении. Счастливы те, кто может, пусть в ущерб себе, предоставить это развлечение столь великому гению.
И Сукарьер, в восторге от комплимента, который ему удалось придумать, склонился перед кардиналом.
– Вы ошибаетесь решительно во всем, господин Мишель, – продолжал Ришелье, упорно называя собеседника этим именем, – я не устал, не нуждаюсь в развлечении и не намерен получить его за ваш счет. Но поскольку я собираюсь сделать вам некое предложение, то хочу доказать, что меня не могут, как остальных, одурачить ваши имена и титулы; если я обращаюсь к вам с предложением, то лишь по причине ваших личных достоинств.
И кардинал сопроводил последнюю фразу одной из тех тонких улыбок, что были ему свойственны в минуты хорошего настроения.
– Мне остается лишь выслушать ваше высокопреосвященство, – сказал Сукарьер, несколько озадаченный тем, какой оборот принимает беседа.
– Итак, я начинаю, не так ли, дорогой господин Мишель?
Сукарьер поклонился с видом человека, лишенного возможности оказать какое бы то ни было сопротивление.
– Вы знаете улицу Бурдонне, не правда ли, господин Мишель? – спросил кардинал.
– Надо быть из Катая, монсеньер, чтобы ее не знать.
– Что ж, тогда вы должны были в юности знать одного славного кондитера, который содержал гостиницу «Дымоходы», предоставляя каждому кров и пищу. Этого достойного человека – в его заведении была отличная кухня, и я нередко к нему заглядывал, будучи епископом Люсонским, – звали Мишель, и он имел честь быть вашим отцом.
– Мне казалось, я уже сказал вашему высокопреосвященству, что я признанный сын господина герцога де Бельгарда, – продолжал, хотя и с меньшей уверенностью, настаивать сеньор де Сукарьер.
– Сущая правда, – ответил кардинал. – Я даже расскажу вам, как это признание было осуществлено.
У достойного кондитера была весьма красивая жена, и за ней ухаживали все сеньоры, посещавшие гостиницу «Дымоходы». В один прекрасный день она почувствовала, что беременна; у нее родился сын. Этот сын вы, дорогой мой господин Мишель, а поскольку вы родились в законном браке при жизни господина вашего отца (или, если вам угодно, мужа вашей матери), вы не можете носить никакого другого имени, кроме того, что принадлежит вашему достопочтенному отцу и вашей достопочтенной матери. Только короли – не забывайте этого, дорогой господин Мишель, – имеют право узаконить внебрачных детей.
– Дьявол! Дьявол! – пробормотал Сукарьер.
– Итак, о вашем признании. Из хорошенького ребенка вы стали красивым молодым человеком, искусным во всех телесных упражнениях, играющим в мяч, как д'Алишон, фехтующим, как Фонтене, и умеющим передернуть карту, как никто другой. Дойдя до такой степени совершенства, вы решили употребить эти разнообразные таланты на то, чтобы составить себе состояние, и для начала отправились в Англию, где были столь удачливы во всех играх, что вернулись оттуда с полумиллионом франков. Так?
– Да, монсеньер, с разницей примерно в несколько сот пистолей.
– И вот однажды утром к вам явился с визитом некто Лаланд, тот, что обучал игре в мяч его величество нашего короля. Он вам сказал следующее или примерно следующее (может быть, я не воспроизведу его слов буквально, но смысл их был именно таков):
«Черт побери, господин де Сукарьер!» Ах, простите, я и забыл: не знаю, что внушило вам неизменную антипатию к имени Мишель – по-моему, оно одно из самых приятных – до такой степени, что на первые заведшиеся у вас деньги вы купили за тысячу пистолей какую-то лачугу, обратившуюся в развалины и именуемую в тех краях, то есть в окрестности Гробуа, Сукарьер. Так что вы стали называться уже не Мишель, а Сукарьер, потом сеньор де Сукарьер. Простите за это долгое отступление, но мне оно казалось необходимым для понимания рассказа.
Сукарьер поклонился.
– Итак, маленький Лаланд сказал вам:
«Черт побери, господин Сукарьер, вы хорошо сложены, обладаете умом и сердцем, ловки в играх, счастливы в любви; вам не хватает только происхождения. Я знаю, что мы не вольны выбирать себе родителей, иначе каждый захотел бы иметь отцом пэра Франции, а матерью – герцогиню с табуреткой. Но если человек богат, всегда найдется средство подправить эти мелкие ошибки случая».
Я не был при вашем разговоре, дорогой господин Мишель, но представляю себе ваше лицо при этом вступлении.
Лаланд продолжал: «Вы понимаете, остается только выбрать среди вельмож, имевших любовные отношения с вашей матушкой, того, кто не будет слишком щепетилен, например господина де Бельгарда. Приближаются дни большого юбилея; ваша матушка, счастливая от возможности сделать вас дворянином, разыщет главного конюшего и скажет, что вы родились от него, а вовсе не от кондитера; ее совесть не может допустить, чтобы вы пользовались имуществом человека, не являющегося вашим отцом; память у герцога не очень хорошая, и ему не вспомнить, был ли он любовником вашей матушки, а поскольку в результате признания его ждут тридцать тысяч франков, он вас признает». Разве не так все происходило?
– Должен признаться, монсеньер, все было почти так. Однако ваше высокопреосвященство забыли одну вещь.
– Какую же? Если моя память меня подвела, хоть она и лучше, чем у господина де Бельгарда, я готов признать свою ошибку.
– Дело в том, что кроме пятисот тысяч франков, упомянутых вашим высокопреосвященством, я привез из Англии изобретение – портшез – и вот уже три года не могу получить на него привилегию во Франции.
– Ошибаетесь, дорогой господин Мишель, я не забыл ни об изобретении, ни об адресованной мне просьбе относительно привилегии, позволяющей пустить его в ход; наоборот, я послал за вами вот так, частным образом, чтобы поговорить об этом. Но все должно идти по порядку. Как сказал один философ, порядок – это половина гениальности. Мы же дошли только еще до вашей женитьбы.
– А не могли бы мы избежать разговора о ней, монсеньер?
– Невозможно: что станет тогда с вашим титулом маркиза, ведь он был пожалован вам герцогиней Николь Лотарингской по случаю вашей женитьбы? О вас и об этой достойной герцогине в ту пору ходило немало слухов; вы не считали нужным их опровергать, и, когда она полгода назад умерла, вы надели траур на своего пятилетнего мальчугана; но, поскольку каждый вправе одевать своих детей, как ему вздумается, я вас за это не упрекаю.
– Монсеньер очень добр, – произнес Сукарьер.
– Как бы то ни было, вы вернулись из Лотарингии, увезя оттуда с собой молодую девицу – мадемуазель Анну де Роже. Вы утверждали, что она дочь знатного сеньора; на самом деле она дочь герцогини. Вы говорите, что по случаю вашего брака вас сделали маркизом де Монбрёном; но чтобы этот акт был действителен, следовало сделать маркизом господина Мишеля, а не господина де Бельгарда, поскольку, будучи внебрачным ребенком, вы не могли быть признаны; а коль скоро вы не имели права зваться де Бельгардом, вас нельзя было сделать маркизом под именем, которое не является и не может стать вашим.
– Вы слишком суровы ко мне, монсеньер.
– Совсем напротив, дорогой господин Мишель, я мягок, как патока, и вы сейчас это увидите.
Госпожа Мишель, не ведавшая, сколь счастливым жребием для нее был брак с таким человеком, как вы, позволила ухаживать за собой Вилландри. Тому Вилландри, младшего брата которого убил Миоссан. Проведав кое о чем, вы хотели было бросить ее в канал Сукарьера; но полной уверенности у вас еще не было, и, будучи в сущности не злым человеком, вы решили подождать более убедительного доказательства. Это доказательство появилось в связи с волосяным браслетом, подаренным ею Вилландри. На этот раз, поскольку у вас была улика – письмо, написанное от начала до конца ее рукою и не оставлявшее сомнений в вашем несчастье, – вы отвели ее в парк, обнажили кинжал и велели молиться Богу. Это была уже не угроза бросить ее в канал; ваша жена поняла, насколько это серьезно. Вы действительно нанесли ей удар кинжалом; по счастью, ей удалось заслониться рукой, но у нее отрезаны были два пальца. Вид ее крови вызвал у вас жалость; вы сохранили неверной жизнь и отослали ее обратно в Лотарингию. Что касается Вилландри, то именно из-за милосердия, проявленного вами к жене, вы решили быть беспощадны к любовнику; во время мессы в церкви минимов на Королевской площади вы вошли в церковь, дали ему пощечину и обнажили шпагу. Но он, не желая совершать святотатство, не стал обнажать свою.
По правде сказать, он не очень стремился драться с вами и даже сказал: «Я бы заколол его кинжалом, будь у меня прочная репутация, но, к несчастью, она не такова, поэтому я должен драться». И действительно, он вас вызвал; и, как будто вы были настоящим сыном господина де Бельгарда и обладали столь же неважной памятью, как он, поединок состоялся на Королевской площади – там же, где дрались Бутвиль и маркиз де Бёврон. Я знаю, что вы вели себя образцово, приняли все условия вашего противника и он отделался полученными от вас шестью колотыми и столькими же рублеными ударами. Но Бутвиль тоже вел себя образцово, однако это не помешало тому, что я приказал отрубить ему голову; я сделал бы то же самое с вами, если бы вы были не просто господином Мишелем, а действительно Пьером де Бельгардом, маркизом де Монбреном, сеньором де Сукарьером. Ибо вы превзошли Бутвиля, обнажив оружие в храме, а за это вам отрубили бы руку, прежде чем отрубить голову, слышите, дорогой мой господин Мишель?
– Да, еще бы! Слышу, монсеньер, – отвечал Сукарьер, – и должен сказать, что мне приходилось слышать за свою жизнь более веселые разговоры.
– Тем лучше, ибо вы на этом не остановились; сегодня вечером вы повторили то же самое с бедным маркизом Пизани; право же, надо взбеситься, чтобы драться с таким полишинелем.
– Э, монсеньер, это не я с ним подрался, а он подрался со мной.
– Уж не был ли бедный маркиз, к несчастью, лишен доступа на улицу Вишневого сада, в отличие от вас и графа де Море, которые там проказничали?
– Как, монсеньер, вам это известно?..
– Мне известно, что, если бы острие вашей шпаги не наткнулось на выступ горба и если бы ребра маркиза, по счастью, не были наслоены друг на друга так, что клинок скользнул по ним, словно по кирасе, ваш соперник был бы пригвожден к стене наподобие скарабея. А вы, оказывается, весьма вздорный человек, дорогой господин Мишель!
– Клянусь вам, монсеньер, что я никоим образом не искал с ним ссоры. Вуатюр и Бранкас вам это подтвердят. Просто я был разгорячен, потому что мне пришлось бежать от улицы Вооруженного Человека до Луврской улицы.
При словах «от улицы Вооруженного Человека» Ришелье насторожился.
– А он, – продолжал Сукарьер, – был разгорячен ссорой, происшедшей в одном кабачке.
– Да, – сказал Ришелье, ясно видя путь, указанный ему не подозревающим этого Сукарьером, – в кабачке гостиницы «Крашеная борода».
– Монсеньер! – воскликнул Сукарьер в изумлении.
– Куда он пришел, – продолжал Ришелье (даже рискуя ошибиться, он хотел выяснить все до конца), – куда он пришел, чтобы узнать, не удастся ли ему при помощи некоего Этьенна Латиля избавиться от графа де Море, своего соперника. По счастью, вместо сбира он встретил честного наемного убийцу, отказавшегося обагрить руки королевской кровью. Ну, теперь вы понимаете, любезнейший господин Мишель: вашей шпаги, обнаженной в храме, вашей дуэли с Вилландри, вашего соучастия в убийстве Этьенна Латиля и вашей стычки с маркизом Пизани было бы достаточно, чтобы четырежды отрубить вам голову, имей вы в роду тридцать два поколения дворянства вместо шестидесяти четырех поколений простонародья?
– Увы, монсеньер, – отвечал совершенно потрясенный Сукарьер, – я это понимаю и говорю во всеуслышание, что обязан жизнью лишь вашему великодушию.
– И своему уму, дорогой господин Мишель.
– Ах, монсеньер, если бы мне было позволено отдать этот ум в распоряжение вашего высокопреосвященства, – вскричал Сукарьер, падая в ноги кардиналу, – я был бы счастливейшим из людей!
– Боже меня упаси сказать «нет»: мне нужны такие люди, как вы.
– Да, монсеньер, преданные люди, смею сказать!
– Которых я могу отправить на виселицу, как только они перестанут быть преданными.
Сукарьер содрогнулся.
– О, уж меня-то, – сказал он, – не постигнет подобное несчастье: забыть, чем я обязан вашему высокопреосвященству.
– Это ваше дело, дорогой Мишель: ваша фортуна у вас в руках, но не забывайте, что конец вашей веревки остается у меня.
– Не удостоит ли ваше высокопреосвященство сказать, куда вы считаете нужным приложить тот ум, что вы соблаговолили признать за мной?
– Охотно скажу.
– Я весь внимание.
– Так вот, предположим, что я даю вам привилегию на то, что вы ввезли из Англии.
– Привилегию на портшезы? – воскликнул Сукарьер, начиная ощутимо представлять себе ту фортуну, что (по словам кардинала) была у него в руках, но до этой минуты оставалась смутной мечтой.
– На половину их, – ответил кардинал, – только на половину. Другая нужна мне: я собираюсь сделать подарок.
– Монсеньер хочет вознаградить еще один ум, – отважился заметить Сукарьер.
– Нет, преданность; она встречается намного реже.
– Монсеньер вправе распоряжаться. Если я получу половину привилегии, то буду вполне удовлетворен.
– Хорошо. Значит, вам принадлежит половина парижских портшезов, скажем, к примеру, двести.
– Пусть будет двести, монсеньер.
– Это означает четыреста носильщиков. Так вот, господин Мишель, предположим, что эти четыреста носильщиков – люди умные, что они замечают, куда доставляют своих клиентов, слушают, о чем те говорят, и затем дают точный отчет об их словах и передвижениях. Предположим, что во главе этой службы находится умный человек, отчитывающийся передо мной – но только передо мной! – обо всем, что он видит, обо всем, что он узнаёт, обо всем, что ему докладывают. Предположим, наконец, что у этого человека всего двенадцать тысяч ливров ренты; он легко превратит их в двадцать четыре, и, если, вместо того чтобы называться просто Мишелем, он желает именовать себя мессиром Пьером де Бельгардом, маркизом де Монбрёном и сеньором де Сукарьером, я скажу ему: «Милый друг, берите себе столько имен, сколько хотите, и чем больше вы возьмете новых, тем будет лучше; что же касается имен, уже вами присвоенных, защищайте их, если найдутся охотники оспаривать ваши права, и будьте спокойны: у меня с вами не возникнет по этому поводу ни малейшего повода для ссоры».








