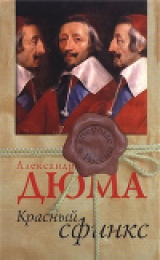
Текст книги "Красный сфинкс"
Автор книги: Александр Дюма
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 41 страниц)
– Госпожа Кавуа, госпожа Кавуа! На колени становятся только перед Господом.
– И перед теми, кто его представляет. Впрочем, это мое дело приказывать моим детям. На колени, детвора!
Дети послушались.
– А теперь, – сказала г-жа Кавуа, обращаясь к старшему, – Арман, повтори господину кардиналу молитву, которой я тебя научила и которую ты произносишь вечером и утром.
– Господи Боже мой, – прозвучал голос ребенка, – пошли здоровье моему отцу, моей матери, моим братьям, моим сестрам и сделай так, чтобы его высокопреосвященство кардинал, кому мы всем обязаны и кому молим ниспослать всяческое благо, потерял свое министерство и папа мог бы каждый вечер приходить домой.
– Аминь! – произнесли хором остальные дети.
– Что же, – смеясь сказал кардинал, – меня ничуть не удивляет, что молитва, произнесенная столь чистосердечно и столь единодушно, была исполнена.
– А теперь, – сказала г-жа Кавуа, – когда мы сказали монсеньеру все, что хотели сказать, вставайте и пойдем.
Дети поднялись так же одновременно, как опустились на колени.
– Ну, как они слушаются? – спросила г-жа Кавуа.
– Госпожа Кавуа, – ответил кардинал, – если я когда-нибудь вернусь на министерский пост, то прикажу назначить вас капитаном-инструктором войск его величества.
– Боже нас сохрани от этого, монсеньер.
Госпожа де Комбале расцеловала детей и мать; та усадила детей по двое в три портшеза, ожидавших у двери, и с самым маленьким села в четвертый.
Кардинал провожал их растроганным взглядом.
– Монсеньер, – сказал Латиль, привстав с кресла, – вам больше не требуется моя шпага, поскольку у вас есть господин Кавуа, разделивший вашу опалу; но вам надо бояться не только клинка: ваш враг носит имя Медичи.
– Да, не правда ли, вы тоже так считаете? – спросила, входя, г-жа де Комбале. – Яд?
– Вам нужен преданный человек, чтобы заранее пробовать все, что будет пить и есть ваше высокопреосвященство. Я предлагаю себя.
– О, что касается этого, дорогой господин Латиль, – сказала улыбаясь, г-жа де Комбале, – то вы опоздали. Некто уже предложил свои услуги.
– И они приняты?
– По крайней мере, я надеюсь, – сказала г-жа де Комбале, нежно посмотрев на дядю.
– И кто же это? – спросил Латиль.
– Я, – ответила г-жа де Комбале.
– Тогда, – сказал Латиль, – мне делать здесь больше нечего; прощайте, монсеньер.
– Что это значит? – спросил кардинал.
– Я ухожу. У вас есть капитан телохранителей, у вас есть дегустатор; в качестве кого останусь я при вашем высокопреосвященстве?
– В качестве друга. Этьенн Латиль, такое сердце, как у вас, – редкость; я нашел его и не хочу потерять.
И, обернувшись к г-же де Комбале, кардинал сказал:
– Милая Мария, поручаю целиком вашим заботам моего друга Латиля. Если я не найду сейчас для него занятия соответствующего его заслугам, то, возможно, такой случай представится позже. Ступайте; если предположить что литературные друзья окажутся так же верны мне, как мой капитан телохранителей и мой лейтенант, то мне надо завалить их работой на завтра.
Тут раздался голос Гийемо, докладывающего о посетителе: – Господин Жан де Ротру.
– Вот видите, – сказал кардинал Латвлю, – один уже не заставил себя ждать.
– Черт возьми! – произнес Этьенн Латиль. – И почему отец не заставил меня заниматься поэзией!
XVIII. «МИРАМ»
Ротру был не один.
Кардинал с любопытством взглянул на его неизвестного спутника; тот стоял со шляпой в руке, и его склоненная поза выражала преклонение, но не раболепство.
– Вот и вы, де Ротру, – сказал кардинал, протягивая ему руку. Не скрою, что я прежде всего рассчитывал на верность моих собратьев-поэтов. Счастлив видеть, что вы оказались вернейшим из верных.
– Если бы я мог предвидеть то, что с вами произойдет, монсеньер, вы нашли бы меня здесь, и я сам отворил бы прославленному изгнаннику двери его убежища. Ах, – продолжал Ротру, потирая руки, – мы будем работать! Как это хорошо – сочинять стихи!
– И молодой человек тоже так думает? – спросил Ришелье, глядя на спутника Ротру.
– Он настолько разделяет это мнение, монсеньер, что сам прибежал сообщить мне новость о вашей отставке, только что услышанную им у госпожи де Рамбуйе, и умолял, чтобы теперь, когда вы больше не министр, я немедленно представил его вам. Он надеется, что теперь, когда государственные дела не занимают вашего времени, вы найдете возможность посмотреть его комедию, которую сыграют в Бургундском отеле.
Предложение это, сделанное кардиналу, в наши дни могло бы показаться достаточно странным; но в ту эпоху оно не имело ничего необычного и ничуть не скандализировало Ришелье.
– И какую же пьесу вы нам покажете, господа актеры? – спросил кардинал.
– Ответь сам, – сказал Ротру своему спутнику
– «Мелиту», монсеньер, – скромно ответил молодой человек, одетый в черное.
– А-а! – произнес Ришелье. – Если память меня не обманывает, вы тот господин Корнель, кому, по словам вашего друга Ротру, предстоит затмить нас всех, и его в том числе.
– Дружба снисходительна, монсеньер, а мой земляк Ротру для меня больше чем друг, это мой брат.
– Мне нравится видеть такой союз поэтов; античность воспевала подобные союзы между воинами, но никогда – между поэтами.
И, повернувшись к Корнелю, кардинал спросил:
– Вы честолюбивы, молодой человек?
– Да, монсеньер. У меня есть одно стремление; если оно осуществится, я буду полон радости.
– Какое же?
– Спросите у моего друга Ротру.
– О-о! Робкий честолюбец, – заметил кардинал.
– Лучше сказать скромный, монсеньер.
– И это стремление, – спросил кардинал, – я могу осуществить?
– Да, монсеньер, одним словом, – ответил Корнель.
– Ну так скажите. Я никогда не был так расположен осуществлять чужие стремления, как теперь, когда вижу ничтожность собственных.
– Монсеньер, мой друг Корнель мечтает о чести быть принятым в число ваших сотрудников. Если бы ваше высокопреосвященство остались министром, он подождал бы успеха своей комедии, чтобы быть представленным вам; но как только вы стали просто великим человеком, располагающим своим временем, он сказал:
«Жан, друг мой, господин кардинал примется за работу; поспешим, или место окажется занятым».
– Место не занято, господин Корнель, – сказал кардинал, – и оно ваше. Вы ужинаете со мной, господа, и, если тем временем прибудут наши товарищи, я сегодня же вечером распределю между вами план новой трагедии: несколько сцен ее я уже набросал.
Кардинал не ошибся в своих предположениях; вечером за накрытым столом собрались те, кого потом стали называть «Пятью авторами», то есть Буаробер, Кольте, л’Этуаль, Ротру и Корнель.
Ришелье угощал их с радушием и сердечностью собрата. После ужина перешли в рабочий кабинет, где Ришелье, сгоравший от нетерпения воодушевить своих сотрудников сюжетом, который будет дан им для разработки, поспешил вынуть из бюро тетрадь; на обложке его почерком были выведены крупные буквы: «МИРАМ».
– Господа, – сказал кардинал, – изо всего, чем мы занимались до сих пор, это мое любимое детище. Имя, что вы все прочли – Мирам, – не скажет вам ничего, оно, как и сама пьеса, плод чистой фантазии. Однако, поскольку человеку дано не придумывать, а лишь воспроизводить общие идеи и свершившиеся факты, изменяя в меру поэтического воображения форму, в какой он их показывает, вы, весьма вероятно, угадаете за вымышленными именами истинные и за воображаемыми местами действительные. Я ничуть не возражаю против того, чтобы вы давали, даже громко, комментарии, какие вам угодно будет высказать.
Слушатели поклонились. Лишь Корнель посмотрел на Ротру, как бы говоря:
«Я решительно ничего не понимаю, но полагаюсь на тебя: ты объяснишь мне, что это значит».
Ротру жестом заверил его, что тот получит все желаемые объяснения.
Ришелье дал молодым людям время закончить свой немой разговор и продолжал:
– Я предполагаю, что некий король Билинии – неважно, как его зовут, – является соперником короля страны Колкос. У короля Билинии есть дочь по имени Мирам, а у нее – наперсница Альмира и служанка Альцина.
У короля Колкоса, воюющего с королем Билинии, также есть фаворит, весьма соблазнительный, весьма приятный, весьма элегантный. При желании мы можем найти в одной из стран, соседних с Францией, тип, соответствующий тому, кого я назвал Ариманом.
– Герцог Бекингем, – сказал Буаробер.
– Именно, – ответил Ришелье.
Ротру прикоснулся коленом к колену Корнеля; тот раскрыл глаза от удивления, но понимал не больше, чем до сих пор, несмотря на то что было названо имя Бекингема, все же прояснившее вопрос.
– Азамор, король Фригии, союзник короля Билинии, не только влюблен в Мирам, но к тому же ее жених.
– Которого она не любит, – сказал Буаробер, – потому что любит Аримана.
– Ты верно угадал, Лё Буа, – рассмеялся Ришелье. – Вам ясна ситуация, господа?
– Это очень просто, – сказал Кольте. – Мирам любит врага своего отца и предает отца ради любовника.
Ротру снова толкнул Корнеля коленом.
Тот понимал все меньше.
– О, как вы торопитесь, Кольте! – сказал кардинал. – Предает, предает… Это годится для жены – предать своего мужа; но дочь, действительно, реально предающая своего отца, нет, это будет слишком. Она ограничится во втором акте тем, что примет своего любовника в садах дворца.
– Как некая французская королева, – сказал л’Этуаль, – принимала милорда Бекингема!
– Ну что ж! Но не лучше ли вам помолчать, господин де л’Этуаль? Если бы ваш отец услышал вас, он вписал бы это в свой дневник как исторический факт. Наконец, доходит до драки. Ариман вначале побеждает, но в результате одного из поворотов фортуны, столь обычных в анналах войн, оказывается побежден Азамором. Мирам узнаёт последовательно о победе и поражении любимого, и это позволяет ей предаться самым противоположным чувствам. Побежденный Ариман не захотел пережить свой позор и бросился на меч; его считают мертвым. Мирам хочет умереть и обращается к своей наперснице госпоже де Шеврез… – я оговорился: как имя госпожи де Шеврез оказалось у меня на языке в связи с Мирам? – обращается к своей наперснице Альмире; та предлагает ей вместе отравиться с помощью травы, привезенной ею из Колкоса. Обе, надышавшись травы, падают бездыханными. Тем временем удалось залечить раны Аримана, оказавшиеся несмертельными. Он приходит в себя, но лишь для того, чтобы впасть в отчаяние из-за смерти Мирам. Тут Альмира прекращает всеобщие тревоги, признавшись, что дала принцессе не ядовитую, а снотворную траву – такую же, какой Медея усыпила дракона, стерёгшего золотое руно; следовательно, Мирам не мертва, а только спит; она приходит в себя, чтобы узнать, что ее любимый жив, что король Колкоса предлагает мир, что Азамор отказывается от ее руки и ничто больше не препятствует ее союзу с Ариманом.
– Браво! – хором воскликнули Кольте, л’Этуаль и Буаробер.
– Это великолепно! – добавил Буаробер, решив превзойти всех.
– Из этой ситуации действительно можно многое извлечь, – сказал Ротру. – Что ты скажешь, Корнель?
Корнель кивнул.
– Кажется, вы остались равнодушны, господин Корнель, – сказал Ришелье, несколько задетый молчанием самого молодого из слушателей, от кого он ждал бурного энтузиазма.
– Нет, монсеньер, – отвечал Корнель, – я только думал о концовках актов.
– Они четко обозначены, – сказал Ришелье. – Первый акт кончается сценой Альмиры и Мирам, когда Мирам соглашается принять Аримана в дворцовых садах.
Второй – когда, приняв его, она с ужасом осознаёт свою неосторожность и восклицает:
Что я наделала! Преступна я безмерно!
Творю неверности, чтобы казаться верной!
– О! Браво! – воскликнул Буаробер. – Прекрасная антитеза! И мысль великолепна!
– Третий, – продолжал кардинал, – кончается отчаянием Азамора, видящего, что, хоть и побежденного, Мирам предпочитает Аримана. Четвертый – решением Мирам умереть, а пятый – согласием короля Билинии на брак своей дочери с Ариманом.
– Но тогда, – сказал Буаробер, – раз план готов, монсеньер, то и трагедия готова!
– Готов не только план, – сказал Ришелье, – но и какое-то количество стихов, и им – я считаю это важным – надо будет найти место в моем произведении.
– Посмотрим эти стихи, монсеньер, – сказал Буаробер.
– В первой сцене короля и его наперсника Акаста король, жалуясь на любовь дочери к врагу его королевства, говорит:
Развеются как дым проекты Аримана —
Большою армией ему хвалиться рано.
Причина сей войны куда страшней: она
Меня касается и мною рождена.
Ведь это кровь моя; мне страх терзает душу.
Акаст
Кровь ваша, государь?
Король
Я объясню, послушай.
Дочь – это лучшее создание мое;
Небесным светочем зовете вы ее,
Но светоч этот стал – тебе могу сказать я —
Для царства и семьи лишь факелом проклятья.
Да, иноземца страсть теперь ее влеет;
Зовя ею сюда, беду мою зовет.
Когда я бью врага уверенной рукою,
Она сдается!
Акаст
Зевс! Возможно ли такое!
Король
Да, это так, Акаст. Враги со всех сторон
Державе нанести стараются урон;
Ни подкуп, ни подкоп – ничто не позабыто,
Готовят гибель мне и тайно и открыто!
Ответом на эти стихи, произнесенные с подчеркнутой выразительностью, были аплодисменты пятерых слушателей. В ту эпоху драматургическое стихосложение далеко еще не достигло той степени совершенства, на какую подняли его Корнель и Расин. Антитеза деспотически царствовала в конце периода; эффектным стихам отдавали предпочтение перед прекрасными, как позже стали предпочитать прекрасные стихи хорошим, пока не поняли, что хорошие стихи, то есть стихи, близкие к действительности, – лучшие из всех.
Возбужденный этим всеобщим одобрением, Ришелье продолжал:
– В этом же акте я набросал сцену с Мирам и отцом; ее должен будет целиком сохранить тот из вас, господа, кто займется первым актом. В этой сцене заключена вся моя мысль, притом мысль, в которой я не хочу ничего менять.
– Прочтите, монсеньер, – сказали л’Этуаль, Кольте и Буаробер.
– Мы слушаем вас, монсеньер, – присоединился к ним Ротру.
– Я забыл сказать вам, что Мирам вначале была невестой колкосского принца, – сказал Ришелье, – но принц умер, и она пользуется этой первой любовью как предлогом, чтобы остаться верной Ариману и не выходить замуж за Азамора.
Вот сцена между нею и отцом. Каждый волен увидеть здесь намеки, какие ему заблагорассудится.
Король
Сомненье, дочь моя, мне успокоить нечем:
Надменный Ариман со мною ищет встречи
И, раб пустых надежд, вас хочет увидать.
С надеждою на мир могу ль ею принять?
– Следует читать: милорд Бекингем прибывает послом к его величеству Людовику XIII, – сказал Буаробер.
Ротру в первый раз положил руку на колено Корнеля; тот ответил ему таким же прикосновением: он начинал понимать.
– Мирам отвечает, – сказал Ришелье, – так:
Коль с миром он придет – пусть смотрит, буду рада;
Вы заключите мир, мне большего не надо.
А если он нам враг – я умереть решусь,
Но гостю этому вовек не покажусь.
Король
А вдруг король его наследником назначит?
Мирам
Что ж, ненависть мою получит он в придачу.
Король
Он подданным рожден, но хочет выше стать.
Мирам
Стремлениям врага придется помешать.
Король
Твердит: у Марса он и у любви любимец.
– Я очень дорожу этим стихом; он должен остаться таким как есть, – сказал Ришелье, прерывая чтение.
– Тот, кто посмел бы к нему прикоснуться, – сказал Буаробер, – был бы не способен понять его красоту. Продолжайте, продолжайте!
Кардинал стал читать дальше, с удовольствием повторив, скандируя, последнюю строку:
Твердит: у Марса он и у любви любимец.
Мирам
Кто много хвастает, тот часто проходимец.
– Я надеюсь, что вы не позволите тронуть и этот стих, – сказал Кольте.
Ришелье продолжал:
Король
Про счастье тайное он любит говорить.
Мирам
Достойная любовь должна скромнее быть.
– Прекрасная мысль, – пробормотал Корнель.
– Вы так считаете, молодой человек? – спросил довольный Ришелье.
Король
Весьма прекрасная его, мол, дама любит.
Мирам
И что? Ведь не мою в плену он душу губит.
Зачем краснеть, коль вы не любите его?
Мирам
Мне щеки красит гнев, и больше ничего.
– Вот где я остановился, – дочитав, сказал Ришелье. – Во втором и третьем актах я набросал сцены, которые сообщу тем, кто будет заниматься этими актами.
– Кто займется двумя первыми? – спросил Буаробер. – Кто отважится поставить свои стихи впереди и после ваших, монсеньер?
– Знаете, господа, – сказал Ришелье, переполненный радостью (столь строгий к себе в политических вопросах, он был чувствителен как ребенок к литературным похвалам), – знаете, если вы считаете работу над первыми двумя актами слишком тяжелой, мы можем разыграть все пять актов по жребию.
– Молодость не сомневается ни в чем, монсеньер, – сказал Ротру. – Мой друг Корнель и я займемся двумя первыми актами.
– Смельчаки, – смеясь, сказал Ришелье.
– Только будьте добры, ваше высокопреосвященство, дать нам детальный план сцен, чтобы мы ни в чем не отступили от вашей воли.
– Тогда, – сказал Буаробер, – я займусь третьим.
– А я четвертым, – сказал л`Этуаль.
– А я пятым, – сказал Кольте.
– Если вы займетесь пятым, Кольте, – сказал Ришелье, – я вам посоветую… – и, тронув его за плечо, увел в оконную нишу, где продолжил разговор вполголоса.
Тем временем Ротру наклонился к уху своего друга Корнеля:
– Пьер, с этого часа твоя судьба у тебя в руках, от тебя зависит не упустить ее.
– Что для этого нужно сделать? – все так же наивно спросил Корнель.
– Писать стихи, которые будут не лучше стихов господина кардинала, – ответил Ротру.
XIX. ПРИДВОРНЫЕ НОВОСТИ
Когда пять актов «Мирам» были распределены, и Кольте получил рекомендации относительно пятого акта, сотрудники кардинала попрощались с ним. Исключение составили Корнель и Ротру: Ришелье задержал их и часть ночи диктовал полный план двух первых актов.
Буаробер должен был вернуться на следующее утро, чтобы получить наставления для себя и своих товарищей, которым он должен был их сообщить.
Корнель и Ротру заночевали в Шайо.
Утром они позавтракали с кардиналом; тот дал им последние рекомендации. Во время завтрака прибыл Буаробер. Корнель и Ротру откланялись; Буаробер остался.
У кардинала не было секретов от Буаробера, и тот мог видеть, несмотря на стремление кардинала заниматься только своей трагедией, какая глубокая озабоченность его скрывается за этим легкомысленным занятием.
Буаробер связался с Шарпантье и Россиньолем, узнал о возвращении Ботрю, Ла Салюди и Шарнасе. Он навестил отца Жозефа в его монастыре и уже накануне смог сказать кардиналу, каков был ответ монаха королю. Этот ответ очень обрадовал Ришелье: полностью доверяя скромности монаха, он не очень доверял его честолюбию (и действительно, позже отец Жозеф его предал, но пока он считал, что час измены еще не наступил). Наконец, Буаробер узнал, что Сукарьер и Лопес должны днем представить королю свои отчеты.
Итак, надежда увидеть короля еще не была потеряна: третий день, определенный кардиналом как предел надежд, еще не истек.
Около двух часов дня Послышался галоп скачущей лошади. Кардинал поспешил к окну, хотя ясно было, что всадник не мог быть королем.
Как ни уверен в себе был кардинал, он не смог сдержать возгласа радости: молодой человек в костюме королевского пажа проворно соскочил с лошади и бросил поводья лакею кардинала. Ришелье узнал Сен-Симона – того друга Барада, что доставил столь важное известие Марион Делорм.
– Буаробер, – быстро сказал кардинал, – приведите ко мне этого молодого человека и последите, чтобы нам никто не помешал.
Буаробер сбежал по лестнице, и почти тотчас послышался быстрый шаг молодого человека, который поднимался, перепрыгивая через четыре ступеньки.
В дверях комнаты, где его ожидал кардинал, молодой человек оказался с ним лицом к лицу.
Он остановился как вкопанный, скорее сорвал, чем снял шляпу и преклонил колено перед кардиналом.
– Что вы делаете, сударь? – смеясь, спросил кардинал. – Я же не король!
– Вы уже не король, монсеньер, это верно, – ответил молодой человек, – но с Божьей помощью вновь станете им.
Дрожь удовольствия пробежала по телу кардинала.
– Вы оказали мне услугу, сударь, – сказал он – и если я вновь стану министром, чего, может быть, напрасно желаю, то постараюсь забыть о своих врагах, но обещаю вам, что буду помнить о моих друзьях. Вы привезли мне какую-нибудь хорошую новость? Но встаньте же, прошу вас.
– Я прибыл от одной прекрасной дамы, чье имя не решаюсь назвать перед монсеньером, ответил, поднимаясь, Сен-Симон.
– Неважно, – сказал кардинал, – я догадаюсь.
– Она поручила мне сказать вашему высокопреосвященству, что видела короля около трех часов дня и будет очень удивлена, если в половине четвертого король не будет у вас.
– Эта дама, – сказал Ришелье, – по-видимому, не принадлежит к придворному штату или не бывает при дворе, ибо не знает правил этикета, иначе она не предположила бы, что король может посетить скромнейшего из своих слуг.
– Эта дама действительно не принадлежит к придворному штату – ответил Сен-Симон. – Правда и то, что она не бывает при дворе; однако многие придворные посещают ее и считают это за честь. Вот почему я весьма верю ее предсказаниям, если она удостаивает чести мне их делать.
– Она вам их когда-нибудь делала?
– Мне, монсеньер? – переспросил Сен-Симон и рассмеялся чистосердечным смехом молодости, показывая великолепные зубы.
– Не говорила ли она вам когда-нибудь, что, по всей вероятности, господин Барада окажется в немилости у короля, что сменит его господин де Сен-Симон и что продвижению этого молодого человека некий кардинал, который был министром и намеревается вновь стать им, не только не будет противиться, но, наоборот, поможет?
– Она говорила мне нечто в этом роде, монсеньер, но это было не предсказание. Это было обещание, а я меньше верю обещаниям Марион Делорм… Ах, Боже мой! Вот я невольно и назвал ее!
– Я, как Цезарь, – сказал Ришелье, – несколько глух на правое ухо. Я не расслышал.
– Простите, монсеньер, – заметил Сен-Симон, – но я полагал, что Цезарь плохо слышал на левое ухо.
– Возможно, ответил кардинал, – но во всяком случае у меня есть перед ним одно преимущество: я глух на то ухо, каким не хочу слышать. Вы только что от двора, какие там новости? Само собой разумеется, я спрашиваю вас о новостях, которые все знают, и которых я не знаю, живя в Шайо, то есть в провинции.
– Новости? – сказал Сен-Симон. – Вот они в нескольких словах. Три дня назад господин кардинал подал в отставку и в Лувре был праздник.
– Я это знаю.
– Король надавал обещаний всем: пятьдесят тысяч экю господину герцогу Орлеанскому, шестьдесят тысяч франков королеве-Матери тридцать тысяч франков царствующей королеве.
– И он дал им эти деньги?
– Нет, и вот ведь какая неосторожность: августейшие одаряемые положились на слово короля и, вместо того чтобы заставить его тут же подписать ордера на имя некоего интенданта Шарпантье, удовлетворились королевским обещанием. Но…
– Но?..
– Но на следующий день, вернувшись с Королевской площади, король ни с кем не виделся, заперся у себя, обедал вдвоем с л’Анжели и предложил ему тридцать тысяч франков; тот наотрез отказался.
– А-а!
– Это удивляет ваше Высокопреосвященство.
– Нет.
– Тогда он послал за Барада и ему тоже пообещал тридцать тысяч; но Барада, менее доверчивый, чем Месье, чем ее величество королева-мать, чем ее величество царствующая королева, попросил сразу подписать ордер и получил деньги в тот же вечер.
– А остальные?
– Остальные все еще ждут. Сегодня утром в Лувре был совет. Этот совет состоит из Месье, королевы-матери, царствующей королевы, хранителя печатей Марийяка, Марийяка шпаги, Ла Вьёвиля, который по-прежнему «плывет», поскольку король вернул господину Шарпантье ключ от кассы, из господина де Бассомпьера и не знаю из кого еще.
– А король? Король?
– Король? – переспросил Сен-Симон.
– Присутствовал ли он на совете?
– Нет, монсеньор, король передал, что он болен.
– И вы знаете, о чем шла речь?
– По-видимому о войне.
– Почему вы так думаете?
– Монсеньер Гастон ушел разгневанный после замечания, сделанного ему господином де Бассомпьером.
– Какого замечания?
– Монсеньер Гастон в качестве главного наместника прокладывал маршрут армии. Речь шла о переправе через реку кажется через Дюраис.
«Где мы переправимся?» – спросил Бассомпьер.
«Здесь, сударь», – отвечал монсеньер Гастон, поднеся палец к карте.
«Позволю себе заметить, монсеньер, что ваш палец – не мост», – сказал Бассомпьер, и монсеньер Гастон в ярости ушел с совета.
Радостная улыбка осветила лицо Ришелье.
– Не знаю, чем объясняется, что я не даю им переправляться через реки там, где они хотят, и не держусь в стороне, чтобы смеяться над их бедствиями.
– Вы не стали бы над ними смеяться, монсеньер, – сказал Сен-Симон более серьезным тоном, чем можно было от него ожидать.
Ришелье посмотрел на него.
– Ибо их бедствие, – продолжал молодой человек, – было бы бедствием Франции.
– Хорошо, сударь, – сказал кардинал, – я вас благодарю; так вы говорите, что король с позавчерашнего дня не виделся ни с кем из своей семьи?
– Ни с кем, ручаюсь, монсеньер.
– И что один господин Барада получил свои тридцать тысяч?
– В этом я совершенно уверен: он позвал меня к подножию лестницы, чтобы я помог перенести к нему его богатство.
– И что собирается он делать со своими тридцатью тысячами франков?
– Пока ничего, монсеньер; но он предложил в письме к Марион Делорм… раз уж я назвал ее имя один раз, то могу еще раз повторить его, не правда ли, монсеньер?
– Да. Так что он предложил Марион Делорм?
– Прокутить их вместе с ней.
– И как он сделал это предложение – устно?
– Нет, к счастью, в письме.
– И Марион, надеюсь, сохранила это письмо? Оно у нее в руках?
Сен-Симон вынул часы.
– Половина четвертого, – сказал он, взглянув на них, – сейчас она должна уже от него избавиться.
– И к кому же оно попадет? – с живостью спросил кардинал.
– К королю, монсеньер.
– К королю?
– Это и заставило ее думать, что до конца сегодняшнего дня вы увидите его величество.
– А, теперь я понимаю.
В этот миг послышался шум мчащейся во весь опор кареты.
Кардинал, побледнев, оперся о кресло. Сен-Симон подбежал к окну.
– Король! – воскликнул он.
Тут отворилась дверь, выходящая на лестницу, и Буаробер устремился в комнату с криком:
– Король!
Отворилась дверь г-жи де Комбале.
– Король, – дрожащим от волнения голосом произнесла она.
– Ступайте все, – сказал кардинал, – и оставьте меня наедине с его величеством.
Каждый скрылся за своей дверью; кардинал отер лоб.
На лестнице послышались шаги: кто-то поднимался размеренной поступью.
Гийемо появился в дверях и доложил:
– Король.
– Ах, клянусь честью, – прошептал кардинал, – решительно, моя соседка Марион Делорм – великий дипломат.








