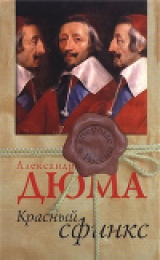
Текст книги "Красный сфинкс"
Автор книги: Александр Дюма
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 41 страниц)
XI. ДВА ОРЛА
И в самом деле, если какой-нибудь доклад производил неожиданное действие, то именно то, что услышал Сюлли, когда обернулся посмотреть, кто так дерзко беспокоит его до рассвета.
Герцог, занятый работой над своими объемистыми мемуарами, оставленными нам в наследство, услышав доклад слуги, встал с кресла.
Он был одет по моде 1610 года, то есть так, как одевались восемнадцать-двадцать лет назад, – в черный бархат, причем камзол и штаны были с разрезами, сквозь которые виднелся лиловый атлас; брыжи были накрахмалены, волосы коротко подстрижены; в длинной бороде была, как у Колиньи, воткнута зубочистка, чтобы не надо было беспокоиться, разыскивая ее. Хотя мода носить украшения давным-давно прошла, и на герцоге был просторный домашний халат, закрывавший камзол и спадающий до фетровых сапог, Сюлли надел бриллиантовые знаки отличия и шейные цепи, словно ему надо было в обычный час присутствовать на Совете у Генриха IV. В хорошую погоду около часа дня он в этом наряде, исключая халат, выходил из особняка, садился в экипаж, сопровождаемый четырьмя швейцарцами (он держал их при себе как телохранителей), и отправлялся на прогулку под аркадами Королевской площади, где каждый останавливался посмотреть, как он движется медленным, степенным шагом, похожий на призрак прошлого века.
Два человека, впервые встретившиеся сейчас лицом к лицу, были великолепно представлены своими девизами, У одного он гласил «Aquila in nubibus» – «орел в облаках», и этот человек, полускрытый облаками, управлял всем во Франции; трудно было придумать лучший девиз для министра, кто был всем и благодаря кому Людовик XIII был королем. В то же время у другого орел метал свои молнии весьма своеобразно, ибо он был правой рукой Генриха IV, но всегда ждал королевских приказов, чтобы действовать, и стал чем-то лишь благодаря королю.
Быть может, некоторые читатели сочтут все эти подробности излишними, поскольку они ищут в книге только чего-то красочного и неведомого, и заявят, что знают эти подробности не хуже нас; так вот, эти подробности приведены не для тех, кто знает их не х у ж е н а с – такие могут их опустить, а для тех, кому они неизвестны, а также для еще большего числа тех, кто, будучи привлечен притязательным названием «исторический роман», хочет вынести что-то из его чтения, тем самым оправдывал его название.
Ришелье, молодой по сравнению с Сюлли – первому было сорок два года, второму шестьдесят восемь, – приблизился к старому другу Генриха IV с почтением, какого заслуживали возраст и репутация герцога.
Сюлли указал ему на кресло. Ришелье сел на стул. Гордый старик, знаток придворного этикета, оценил эту деталь.
– Господин герцог, – улыбаясь, спросил кардинал, – вас удивляет мой визит?
– Признаюсь, – отвечал Сюлли с обычной резкостью, – я его не ожидал.
– Почему же, господин герцог? Все министры трудились или трудятся во имя величия того или иного царствования, при котором они призваны оказывать услуги Франции; почему же я, скромный слуга сына, не могу обратиться за поддержкой, советом, просто за сведениями к тому, кто столь славно служил отцу?
– Полно, – возразил Сюлли с горечью, – кто помнит об оказанных услугах, если тот, кто их оказывал, стал бесполезным? Старое мертвое дерево даже на дрова не годится, а поэтому не удостоится и чести быть срубленным.
– Часто мертвое дерево, господин герцог, светит в ночи, когда живые деревья теряются в темноте. Но, слава Богу – я принимаю сравнение, – вы по-прежнему могучий дуб, и в его ветвях, я надеюсь, мелодично воспевают вашу славу птицы, которые зовутся воспоминаниями.
– Мне говорили, что вы сочиняете стихи, господин кардинал, – с пренебрежением заметил Сюлли.
– Lа, на досуге и только для себя, господин герцог. Я учился стихосложению не для того, чтобы самому стать поэтом, а для того, чтобы быть судьей в поэзии и награждать поэтов.
– В мое время, – произнес Сюлли, – на этих господ не обращали внимания.
– Ваше время, мессир, – отвечал Ришелье, – это время славы, отмеченное такими именами сражений, как Кутра, Арк, Иври, Фонтен-Франсез, время, когда вернулись к замыслам Франциска Первого и Генриха Второго против Австрийского дома, и вы были одной из главных фигур в этих великих проектах.
– Что и поссорило меня с королевой-матерью.
– Эти проекты предусматривали установление французского влияния в Италии, – продолжал кардинал, как бы оставляя без внимания реплику Сюлли, а на самом деле заботливо отложив ее в памяти, – приобретение Савойи, Бреса, Бюже и Вальроме, поддержку Нидерландов, восставших против Испании, сближение немецких лютеран и католиков; существовал проект – и вы были его душой – создать нечто вроде христианской республики, где все разногласия разбирал бы верховный сейм, где все религии были бы равноправны, и с ее помощью заставить вернуть наследникам Юлиха Владения, захваченные императором Матвеем.
– Да, и в самый разгар этих прекрасных замыслов нанесли удар отцеубийцы.
Ришелье отметил про себя вторую реплику, как и первую, ибо намерен был к ним вернуться, и продолжал:
– В такие славные времена недосуг заниматься литературой; при Цезаре не рождаются Горации и Вергилии, а если и рождаются, то творят лишь при Августе. Я восхищаюсь вашими воинами и законодателями, господин де Сюлли, – не презирайте же моих поэтов. Воины и законодатели делают империи великими, но блеск им придают поэты. Будущее, как и прошлое, – темная ночь; поэты – маяки в этой ночи. Спросите сегодня, как звали министров и полководцев Августа, и вам назовут Агриппу, все остальные забыты. Спросите имена тех, кому покровительствовал Меценат, вам назовут Вергилия, Горация, Вария, Тибулла… Изгнание Овидия – пятно на царствовании племянника Цезаря. Я не могу быть Агриппой или Сюлли, позвольте же мне быть Меценатом.
Сюлли с удивлением смотрел на гостя: десятки раз слышал он о надменной тирании Ришелье, и вот этот человек приходит напомнить Сюлли о славных днях его правления и повергнуть свое нынешнее величие к стопам величия прежнего.
Он вытащил из бороды зубочистку и, проведя ею по зубам, которые сделали бы честь молодому человеку, сказал:
– Ну-ну-ну, уступаю вам ваших поэтов, хоть они и не создают ничего замечательного.
– Господин де Сюлли, – спросил Ришелье, – как давно вы распорядились посадить вязы, что дарят тень нашим дорогам?
– Это делалось, господин кардинал, – отвечал Сюлли, с тысяча пятьсот девяносто восьмого по тысяча шестьсот четвертый год, то есть двадцать четыре года назад.
– Когда вы их сажали, были они такими прекрасными и могучими, как сегодня?
– Надо сказать, что им основательно досталось, моим вязам.
– Да, я знаю: народ, ошибающийся насчет самых лучших намерений, не подумал о том, что предусмотрительная рука великого человека хочет дать дорогам тень на благо усталым путникам, и вырубил часть деревьев. Но разве те, что остались, не выросли, не раскинули свои ветви, не оделись обильною листвой?
– О да, конечно, – радостно откликнулся Сюлли, – и когда я вижу оставшиеся такими могучими, такими зелеными, такими здоровыми, это почти утешает меня в утрате остальных.
– Так вот, господин де Сюлли, – сказал Ришелье, – то же с моими поэтами: критика вырубает одну их часть, хороший вкус – другую, но те, что остаются, становятся от этого лишь сильнее и одеваются более пышной листвой. Сегодня я посадил вяз по имени Ротру, завтра, возможно, посажу дуб по имени Корнель. Я поливаю свои посадки и жду. Не говорю о тех, что выросли без меня в пору вашего правления: Демаре, Буаробере, Мере, Вуатюре, Шаплене, Гомбо, Ресигье, Ламореле, Граншане, Баро и как их там… Не моя вина, что они плохо росли и вместо леса образовали лишь перелесок.
– Пусть так, пусть так, – подхватил Сюлли, – великим труженикам, ведь вас называют великим тружеником, господин кардинал, нужно какое-то развлечение; почему бы вам в свободное время не быть садовником?
– Да благословит Бог мой сад, господин де Сюлли, тогда он будет принадлежать всему миру.
– Но, в конце концов, – спросил Сюлли, – полагаю, что вы встали в пять часов утра не для того, чтобы делать мне комплименты и говорить о ваших поэтах?
– Прежде всего, я не вставал в пять часов утра, – улыбаясь, ответил кардинал. – Я еще не ложился, только и всего. В ваше время, господин де Сюлли, может быть, ложились поздно и вставали рано, но все-таки спали. В мое время уже не спят. Нет, я явился вовсе не для того, чтобы делать вам комплименты и говорить о моих поэтах. Но мне представился случай увидеть вас, и я не хотел его упускать. Я хочу поговорить с вами о двух обстоятельствах, о каких вы сами заговорили первым.
– Я говорил вам о двух обстоятельствах?
– Да.
– Я же ничего не сказал…
– Простите, но, когда я вам напомнил о ваших великих проектах, направленных против Австрии и Испании, вы сказали: «Эти проекты поссорили меня с королевой-матерью».
– Это так; разве она не австриячка по своей матери Иоанне и не испанка по своему дяде Карлу Пятому?
– Все верно; однако именно вам, господин де Сюлли, она обязана тем, что стала французской королевой.
– Я ошибся, дав этот совет королю Генриху Четвертому, моему августейшему повелителю. И впоследствии очень часто в этом раскаивался.
– Так вот, ту же борьбу, что вы вели двадцать лет назад, потерпев в ней поражение, я веду сегодня. Возможно, и меня, к несчастью для Франции, ждет поражение, ибо против меня две королевы: молодая и старая.
– По счастью, – сказал Сюлли с вымученной улыбкой, жуя зубочистку, – влияние молодой невелико. Король Генрих Четвертый любил слишком много, его сын любит недостаточно.
– Задумывались ли вы когда-нибудь, господин герцог, над этой разницей между отцом и сыном?
Сюлли насмешливо посмотрел на Ришелье, будто спрашивал: «Ах, и вы задались этим вопросом?»
– Между отцом и сыном… – повторил он со странной интонацией, – да, задумывался, и очень часто.
– Ведь вы помните, отец был сгустком энергии; проделав за день двадцать льё верхом, вечером он играл в мяч; был всегда на ногах, на ходу проводил заседания Совета, на ходу принимал послов; охотился с утра до вечера; увлекался всем, играл, чтобы выиграть, и плутовал, когда выигрывать не удавалось, правда, возвращал нечестно выигранные деньги, но не мог удержаться от плутовства; обладал чувствительными нервами, всегда улыбался, но эта улыбка близка была к слезам; был непостоянен до безрассудства, но в малейший каприз вкладывал, по крайней мере, половину сердца, обманывал женщин, но чтил их. Он при рождении получил тот великий небесный дар, что заставил святую Терезу оплакивать Сатану, умеющего только ненавидеть: он любил.
– Вы знали короля Генриха Четвертого? – удивленно спросил Сюлли.
– В молодости я видел его раз или два, – отвечал Ришелье, – только и всего. Но я внимательно изучал его жизнь. И вот взгляните на его сына, противоположного ему: он медлителен, как старик, мрачен, как покойник; не любит ходить, стоит неподвижно у окна и смотрит невидящим взглядом; охотится, как автомат, играет без желания выиграть и не огорчается проигрышем; много спит, мало плачет, не любит ничего и – что еще хуже никого.
– Я понимаю, – сказал Сюлли, – вам не удается влиять на этого человека.
– Напротив, ибо наряду со всем этим у него есть два достоинства: гордость своим саном и ревностное отношение к чести Франции. Это две шпоры – ими я его подгоняю; и я привел бы его к величию, если бы его мать не вставала все время у меня на пути, защищая Испанию или поддерживая Австрию, в то время как я, следуя политике великого короля Генриха и его великого министра Сюлли, собираюсь атаковать этих двух извечных врагов Франции. И вот я пришел к вам, мой учитель, к вам, кого я изучаю и кем восхищаюсь, особенно как финансистом, пришел просить вашей поддержки против этого злого гения, вашего прежнего и моего нынешнего врага.
– Но чем я могу помочь вам, – спросил Сюлли, – человеку как уверяют, более могущественному, чем король?
– Вы сказали, что в разгар прекрасных замыслов Генрих Четвертый был сражен отцеубийцами.
– Я сказал «отцеубийцами» или «отцеубийцей»?
– Вы сказали «отцеубийцами».
Сюлли промолчал.
– Так вот, – продолжал Ришелье, придвигая свое кресло ближе к креслу Сюлли, – вспомните все, что можете, об этом роковом дне четырнадцатого мая и соблаговолите сказать, какие предупреждения вы получили?
– Их было много, но, к несчастью, на них обратили мало внимания. Когда Провидение бодрствует, люди часто спят; но прежде всего надо сказать, что король Генрих допустил две неосторожности.
– Какие?
– Он пообещал папе Павлу Пятому восстановить орден иезуитов, а когда тот стал торопить его с выполнением обещания, ответил: «Если бы у меня было две жизни, я охотно отдал бы одну, чтобы удовлетворить ваше святейшество, но у меня жизнь только одна, и я приберегу ее для услуг вам и в интересах моих подданных».
Второй неосторожностью было то, что он позволил оскорбить перед всем Парламентом кавалера королевы, блистательнейшего негодяя Кончино Кончини. Она почувствовала себя униженной, видя, что ее чичисбей, ее блестящий победитель в словесных поединках, затмевавший принцев, побит какими-то судейскими, чиновниками, писцами; она обрекла короля на итальянскую вендетту и закрыла свое сердце для всех получаемых ею предупреждений.
– Не получала ли она, в частности, – спросил Ришелье, – предупреждений от некоей женщины по имени госпожа де Коэтман?
Сюлли вздрогнул.
– В частности, да, – подтвердил он. – Но были и другие. Был некто Лагард, находившийся в Неаполе у Эбера; он предупредил короля, за что д’Эпернон велел его убить. Был некто Лабрус – его потом так и не смогли найти, – утром четырнадцатого мая предупреждавший, что переход из тринадцатого числа в четырнадцатое будет роковым для короля; не знаю, задумывались ли вы над тем, какое влияние имела цифра четырнадцать на рождение, жизнь и смерть короля Генриха Четвертого?
– Нет, – ответил Ришелье; давая Сюлли выговориться, он увереннее приближался к своей цели.
– Так слушайте, – сказал глубокомысленный вычислитель, все сводивший к науке цифр. – Во-первых, король Генрих Четвертый родился через четырнадцать веков, четырнадцать десятилетий и четырнадцать лет после Рождества Христова; во-вторых, первым днем его жизни было четырнадцатое декабря, а последним – четырнадцатое мая; в-третьих, его имя Генрих де Наварр состоит из четырнадцати букв; в-четвертых, он прожил четырежды четырнадцать лет, четырежды четырнадцать дней и четырнадцать недель; в-пятых, он был ранен Жаном Шателем через четырнадцать дней после четырнадцатого декабря тысяча пятьсот девяносто четвертого года; между этой датой и днем его смерти прошло четырнадцать лет, четырнадцать месяцев и четырнадцать раз по пять дней; в-шестых, четырнадцатого марта он выиграл битву при Иври; в-седьмых, его высочество дофин, царствующий ныне, был крещен четырнадцатого августа; в-восьмых, король был убит четырнадцатого мая, через четырнадцать веков и четырнадцать пятилетий после воплощения Сына Божьего; в-девятых, Равальяк был казнен через четырнадцать дней после смерти короля; и, наконец, в-десятых, число четырнадцать, умноженное на сто пятнадцать, дает тысячу шестьсот десять – цифру года его смерти.
– Да, – сказал Ришелье, – это и любопытно, и странно. Впрочем, вы знаете, что у каждого есть своя вещая цифра; однако разве эта госпожа де Коэтман, – продолжал он настаивать, – не обращалась и к вам, господин герцог?
Сюлли опустил голову.
– Даже на лучших и самых преданных, – произнес он, – находит ослепление; тем не менее, я сказал об этом королю. Пожав плечами, его величество сказал: «Что поделаешь, Рони, – он продолжал называть меня полученным при рождении именем, хотя и сделал герцогом де Сюлли, – что поделаешь, Рони, будет так, как угодно Богу».
– Вы были предупреждены письмом, не правда ли, господин герцог?
– Да.
– Кому было это письмо адресовано?
– Мне, для передачи королю.
– И кто обратился к вам с этим письмом?
– Госпожа де Коэтман.
– Была другая женщина, взявшаяся передать вам письмо?
– Мадемуазель де Гурне.
– Могу ли я задать вам вопрос – заметьте, господин герцог, что я имею честь расспрашивать вас во имя блага и чести Франции?
Сюлли кивнул в знак того, что готов отвечать.
– Почему вы не передали это письмо королю?
– Потому что в нем были прямо названы имена королевы Марии Медичи, д’Эпернона и Кончини.
– Вы сохранили это письмо, господин герцог?
– Нет, я его вернул.
– Могу я спросить, кому?
– Той, что принесла его, мадемуазель де Гурне.
– Будут ли у вас, господин герцог, возражения против того, чтобы дать мне такую записку: «Мадемуазель де Гурне разрешается передать господину кардиналу де Ришелье письмо, адресованное одиннадцатого мая тысяча шестьсот десятого года господину герцогу де Сюлли госпожой де Коэтман»?
– Нет, не будут, если мадемуазель де Гурне вам откажет. Но она, несомненно, вам его отдаст, ибо она бедна, и ей очень нужна будет ваша помощь, так что мое разрешение вам не понадобится.
– И все же, если она откажет?
– Пришлите ко мне гонца, и он доставит вам мое разрешение.
– Теперь последний вопрос, господин де Сюлли, и вы получите все права на мою признательность.
Сюлли поклонился.
– У господина Жоли де Флёри в шкатулке, замурованной в стене дома на углу улиц Сент-Опоре и добрых Ребят, находился парламентский протокол процесса Равальяка.
– Шкатулка была затребована и доставлена во дворец правосудия, где она исчезла во время пожара. Таким образом, господин Жоли де Флёри остался лишь владельцем протокола, продиктованного Равальяком на эшафоте, между клещами и расплавленным свинцом.
– Этот листок уже не в руках его семьи.
– Действительно, господин Жоли де Флёри перед смертью отдал его.
– Вы знаете, кому? – спросил Ришелье.
– Да.
– Вы это знаете! – воскликнул кардинал, не в силах скрыть свою радость. – В таком случае, вы мне скажете, не правда ли? В этом листке не только мое спасение – этим можно было бы пренебречь, – в нем слава, величие, честь Франции, а это важнее всего. Во имя Неба, скажите мне, кому был передан этот листок.
– Невозможно.
– Невозможно? Почему?
– Я дал клятву.
Кардинал поднялся.
– Коль скоро герцог де Сюлли дал клятву, – сказал он, – будем ее уважать; но воистину над Францией тяготеет рок.
И, не пытаясь больше ни единым словом поколебать Сюлли, кардинал глубоко поклонился ему, на что старый министр ответил вежливым поклоном, и удалился, начиная сомневаться в Провидении, чью поддержку обещал ему отец Жозеф.
XII. КАРДИНАЛ В ДОМАШНЕМ ХАЛАТЕ
Кардинал вернулся к себе на Королевскую площадь около семи часов утра, отослал носильщиков, весьма довольных большим ночным заработком, поспал два часа и около половины десятого утра в туфлях и халате спустился в свой кабинет.
То была вселенная герцога де Ришелье. Он работал там по двенадцать – четырнадцать часов в день. Там же он завтракал со своим духовником, своими шутами и прихлебателями. Часто он и спал здесь на большом диване, формой напоминавшем кровать, падал на него, когда политические дела отнимали слишком много сил. Обедал он обычно с племянницей.
В этот кабинет, содержащий в себе все тайны государства, в отсутствие Ришелье не входил никто, кроме его секретаря Шарпантье – человека, которому кардинал доверял как самому себе.
Войдя, он велел Шарпантье отворить все двери, за исключением той, что вела к Марион Делорм (ключ от этой двери был только у кардинала).
Кавуа совершил нескромность, рассказав, что порой, когда кардинал, вместо того чтобы подняться в спальню и лечь в постель, ложился одетым на диван в своем кабинете, ему, Кавуа, слышался ночью еще один голос, по тембру женский, беседующий с хозяином кабинета.
Злые языки постарались распустить слух, что это была Марион Делорм, находившаяся тогда в расцвете юности и красоты – ей едва исполнилось восемнадцать лет, – проникающая, подобно фее, сквозь стену или, подобно сильфу, в замочную скважину, чтобы побеседовать с кардиналом о делах, не имеющих к политике ни малейшего отношения.
Но никто не мог сказать, что ее когда-либо видели у кардинала.
Впрочем, мы, проникшие в этот грозный кабинет и знакомые с его секретами, знаем, что существовал почтовый ящик, при помощи которого кардинал сносился со своей красавицей-соседкой. Следовательно, не было необходимости ни у Марион Делорм приходить к кардиналу, ни у кардинала посещать Марион.
В этот день, вероятно, ему нужно было что-то ей сказать, ибо (как мы такое уже видели), едва войдя в кабинет, он написал на клочке бумаги две-три строчки, отпер дверь, ведущую к Марион, подсунул записку под вторую дверь, потянул ручку звонка и закрыл первую дверь.
В записке – мы можем сказать это нашим читателям, поскольку у нас нет от них секретов, – содержались следующие вопросы:
«Сколько раз в течение недели господин граф был у г-жи де ла Монтань? Верен он ей или нет? И вообще, что о нем известно?»
Как обычно, записка была подписана: «Арман». Но надо сказать, что и почерк, и подпись были изменены и не имели ничего общего с почерком и подписью великого министра.
Затем герцог позвал Шарпантье и спросил, кто его ждет в гостиной.
– Преподобный отец Мюло, господин де Ла Фолон и Господин де Буаробер, – ответил секретарь.
– Хорошо, – сказал Ришелье, – пригласите их.
Мы уже говорили, что кардинал обычно обедал со своим духовником, своими шутами и прихлебателями; возможно, наших читателей удивило общество, в которое мы поместили духовника его высокопреосвященства. Но отец Мюло был вовсе не из тех суровых казуистов, что отягощают кающихся бесчисленными «Pater Noster» и «Ave Maria».
Нет, отец Мюло прежде всего был другом кардинала. Одиннадцать лет назад, когда был убит маршал д’Анкр, королева-мать сослана в Блуа, а кардинал – в Авиньон, отец Мюло – то ли из дружбы к молодому Ришелье, то ли веря в его будущий гений – продал все что имел, выручив три или четыре тысячи экю, и отдал эту сумму кардиналу, в то время епископу Люсонскому. Так он сохранил за собой право говорить правду в глаза всем, никого не стесняясь. Но особенно непримирим он был к плохому вину – в той же степени, в какой был поклонником вина хорошего. Однажды, во время обеда у г-на д’Аленкура, лионского губернатора, недовольный поданным вином, он подозвал прислуживавшего за столом лакея и, взяв его за ухо, сказал:
– Друг мой, вы изрядный плуг, раз не предупредили своего хозяина: он, может быть, сам того не зная и думая, что у него на столе вино, поит нас пикетом.
Вследствие этого культа винограда нос достойного духовника, подобно носу Бардольфа, веселого товарища Генриха IV, мог по вечерам служить фонарем; однажды, не будучи еще епископом Люсонским, г-н де Ришелье примерял касторовые шляпы в присутствии отца Мюло. Выбрав и надев одну, г-н де Ришелье спросил Буаробера:
– Ну как, идет она мне?
– Она еще больше пошла бы вашему преосвященству, если б была того же цвета, что нос вашего духовника.
Добряк Мюло так и не простил этой шутки Буароберу.
Вторым сотрапезником, которого ожидал кардинал, был дворянин из Турени по имени Ла Фолон. Он был чем-то вроде телохранителя, следившего за тем, чтобы министра не беспокоили напрасно или по маловажным поводам. В свое время Ришелье, не имевший еще телохранителей, попросил короля дать ему такого человека; им оказался Ла фолон. Он был таким же великим едоком, как Мюло – великим любителем выпить. Видеть, как один из них пьет, а другой ест, было настоящим удовольствием, и кардинал доставлял себе его почти ежедневно. В самом деле, Ла Фолон думал только о накрытом столе, и когда другие говорили, что хорошо бы сегодня прогуляться, поохотиться, искупаться, он неизменно говорил, что хорошо было бы поесть! Вот почему, хотя у кардинала были уже телохранители, он оставил при себе Ла Фолона.
Третьим сотрапезником или, точнее, третьим из тех, кого кардинал пригласил войти, был Франсуа Ле Метель де Буаробер, один из его сотрудников, но еще в большей степени его шут. Вначале, неизвестно почему, Буаробер кардиналу очень не нравился. Он бежал из Руана, где был адвокатом, из-за скверного дела, которое хотела ему подстроить некая девица, обвинившая его в том, что он сделал ей двоих детей. Прибыв в Париж, он пристроился к кардиналу дю Перрону, потом пытался поступить на службу к Ришелье, но кардинал не испытывал к нему ни малейшей симпатии и нередко ворчал на своих людей за то, что они не могут избавить его от Буаробера.
– Ах, сударь, – сказал ему однажды Буаробер, – ведь вы разрешаете собакам съедать крохи с вашего стола, неужели я не стою собаки?
Это смирение обезоружило кардинала: он не только стал по-дружески относиться к Буароберу, но вскоре не мог без него обойтись.
Когда кардинал был в хорошем настроении, он его называл просто Лё Буа в связи с тем, что г-н де Шатонёф даровал ему лес, поступающий из Нормандии.
Буаробер был утренней газетой кардинала; тот узнавал от него, что делается в зарождающейся республике литературы; кроме того, Буаробер, обладающий добрейшим сердцем, направлял руку кардинала, раздающую благодеяния, иногда заставляя ее волей-неволей разжаться; это бывало, когда кардиналом руководили ненависть или зависть. Буаробер умел доказать ему, что тот, кто способен отомстить за себя, не должен ненавидеть, и тот, кто всемогущ, не может быть завистливым.
Понятно, что при своих вечных напряженных раздумьях о политике, при непрестанных угрозах заговоров, при той ожесточенной борьбе против всего, что его окружало, кардиналу необходимы были время от времени минуты веселья, ставшие для него чем-то вроде гигиены: слишком сильно натянутый, а тем более постоянно натянутый лук ломается.
А после ночей, подобных только что минувшей, после мрачных раздумий кардиналу особенно нужно было общество этих троих людей: с ними, как мы увидим, он мог ненадолго отдохнуть от своих трудов, своих тревог, своей усталости.
К тому же, помимо рассказов, которые он надеялся, по обыкновению, извлечь из неисчерпаемого вдохновения Буаробера, кардинал собирался дать ему поручение – отыскать жилище девицы де Гурне и доставить ее к нему.
Итак, отправив письмо Марион Делорм, он сразу же, как мы говорили, велел Шарпантье пригласить троих сотрапезников.
Шарпантье отворил дверь.
Буаробер и Ла Фолон состязались в вежливости, уступая друг другу дорогу, но Мюло, находившийся, похоже, в дурном настроении, отстранил обоих и вошел первым.
В руке у него было письмо.
– О-о! – сказал кардинал. – Что с вами, дорогой мой аббат?
– Что со мной? – воскликнул, топнув, Мюло. – Я в бешенстве!
– Отчего?
– Они, видно, никогда не перестанут!
– Кто?
– Те, что пишут мне от вашего имени!
– Боже правый! Что они всунули в ваше письмо?
– Не в письме дело; наоборот, оно, вопреки обыкновению ваших людей, достаточно вежливо.
– Так в чем же дело?
– В адресе. Вы хорошо знаете, что я вовсе не ваш духовник; если бы я однажды решил стать чьим-то духовником, то выбрал бы кого-нибудь повыше вас. Я каноник Сент-Шапель.
– И что же они написали в адресе?
– Они написали: «Господину – г о с п о д и н у! – Мюло, духовнику его высокопреосвященства», дураки!
– Да неужели! – воскликнул кардинал, смеясь, ибо хорошо понимал, что услышит в ответ какую-нибудь грубость. – А если бы адрес написал я?
– Если б это были вы, я бы не удивился; слава Богу, это была бы не первая глупость, совершенная вами.
– Мне приятно знать, что это вас раздражает.
– Это не раздражает меня, а выводит из себя!
– Тем лучше!
– Почему тем лучше?
– Потому что вы забавнее всего в гневе, а поскольку мне очень нравится видеть вас таким, я теперь буду адресовать письма к вам только так: «Господину Мюло, духовнику его высокопреосвященства».
– Попробуйте – и вы увидите!
– Что увижу?
– Увидите, что я оставлю вас завтракать в одиночестве.
– Что ж, я пошлю за вами Кавуа.
– Я не стану есть.
– Вас заставят силой.
– Я не стану пить.
– У вас под носом будут откупоривать романе, кловужо и шамбертен.
– Замолчите! Замолчите! – взревел Мюло, окончательно выйдя из себя и двинувшись на кардинала со сжатыми кулаками. – Послушайте, я заявляю во всеуслышание, что вы злой человек!
– Мюло! Мюло! – остановил его кардинал, изнемогая от смеха, по мере того как его собеседник приходил в ярость. – Я велю вас повесить!
– Под каким же предлогом?
– Под тем предлогом, что вы разглашаете тайну исповеди!
Присутствующие разразились хохотом; Мюло разорвал письмо на мелкие клочки и бросил их в огонь.
Во время этого спора внесли накрытый стол.
– Ага! Посмотрим, что у нас на завтрак, – сказал Ла Фолон, – и мы поймем, стоит ли расстраивать достойного дворянина, у которого приготовлен великолепно сервированный завтрак.
И он стал приподнимать крышки блюд, приговаривая:
– Так-так, белое мясо каплуна по-королевски, сальми из зуйков и жаворонков, два жареных бекаса, фаршированные грибы по-провансальски, раки по-бордоски; в крайнем случае, этим можно позавтракать.
– О, еще бы! – отозвался Мюло. – Еды здесь всегда хватает. Всем известно, что господин кардинал склонен ко всем смертным грехам и особенно к греху чревоугодия, а вот вина стоит обследовать. Красное бузи, гм! Бордо высшего сорта! Бордоские вина хороши для тех, у кого больной желудок, как у вас. Да здравствуют бургундские вина! Ага, нюи! Поммар, муленаван – это не самое лучшее, но, в конце концов, придется удовольствоваться этим.
– Как, аббат, у вас есть к завтраку шампань, бордо, бургундское, и вы считаете, что этого недостаточно?
– Я не говорю, что этого недостаточно, – отвечал Мюло, смягчаясь, – я говорю только, что выбор мог быть лучше.
– Ты позавтракаешь с нами, Лё Буа? – спросил кардинал.
– Простите, ваше высокопреосвященство, вы приказали мне явиться сегодня утром, но ничего не сказали о завтраке, и я позавтракал с Раканом, который снимал штаны на тумбе, стоящей на углу Старой улицы Тампля и улицы Сент-Антуан.
– Что за дьявольщину ты мне рассказываешь! Садитесь за стол, Мюло, садитесь, Ла Фолон, и помолчите: послушаем господина Лё Буа, он собирается рассказать нам какую-то занятную небылицу.
– Пусть рассказывает, пусть рассказывает, – отвечал Ла Фолон, – я прерывать его не собираюсь.
– Пью этот стакан поммара за ваш рассказ, метр Лё Буа, – сказал Мюло, чья злость еще не совсем прошла, – и пусть он будет занимательнее, чем обычно.
– Я не могу сделать его занимательнее, чем он есть, – отвечал Буаробер, – ибо рассказываю правду.
– Правду? – переспросил кардинал. – По-вашему это обычное дело – снимать штаны на тумбе посреди улицы в половине девятого утра?
– Сейчас, монсеньер, я все объясню. Вашему высокопреосвященству известно, что Малерб живет в ста шагах отсюда, на улице Турнель?








