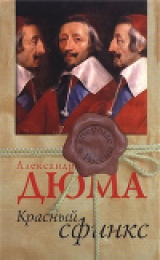
Текст книги "Красный сфинкс"
Автор книги: Александр Дюма
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 41 страниц)
Хорошенькая служанка открывает дверь, дает легкий шлепок иноходцу, который направляется прямо в конюшню, где его ждет порция овса, и по лестнице, освещенной ровно настолько, чтобы не сломать шею, ведет г-на де Гиза в комнату; освещенную не лучше лестницы. Чувствуется, что кавалера, как и коня, в этом доме привыкли хорошо принимать. Кавалер был встречен с распростертыми объятиями. Говорили шепотом. двигались в темноте. Господин де Гиз, будучи другом г-на де Креки, в общении с ним, вероятно, перенял его повадки, так что дама уснула, не заметив своей ошибки. Но утром ее разбудило то, что г-н де Гиз переворачивался с боку на бок.
– Господи, что с вами, друг мой? – спросила она.
– Я хотел бы, – отвечал г-н де Гиз (он был столь же нескромен, сколь рассеян), – я хотел бы уже встать и пойти рассказать всем моим друзьям о том, как вы провели ночь с господином де Гизом, думая, что проводите ее с господином де Креки.
При всех недостатках г-н де Гиз обладал важным достоинством: он был очень щедр. Как-то утром президент де Шеври прислал ему с Рафаэлем Корбинелли (отцом Жана Корбинелли, получившего известность благодаря дружескому расположению к нему г-жи де Севинье) пятьдесят тысяч ливров, выигранных герцогом накануне. Деньги лежали в пяти мешках: четырех больших по десять тысяч ливров серебром в каждом и одном маленьком, где было десять тысяч ливров золотом.
Корбинелли хотел пересчитать деньги, но герцог не позволил ему. Однако, заметив маленький мешок и не поинтересовавшись, что в нем находится, он сказал:
– Возьмите, друг мой, это вам за труды.
Корбинелли, вернувшись к себе, открыл мешок и обнаружил в нем десять тысяч ливров золотом. Он тут же вернулся к г-ну де Гизу.
– Монсеньер, – сказал он, – вы, видимо, ошиблись: дали мне мешок с золотом, думая, что в нем серебро.
Но герцог де Гиз, выпрямившись во весь свой небольшой рост, ответил:
– Берите, берите, сударь. Принцы моего дома не имеют обыкновения брать назад то, что дали.
И Корбинелли взял эти десять тысяч франков.
В ту минуту когда доложили о г-не де Монморанси, г-н де Гиз искал ссоры с г-ном де Граммоном так, как умел это делать только он.
– Позвольте сказать вам, дорогой мой, – обратился он к г-ну де Граммону, – что я вами недоволен.
– Но не по поводу игры, герцог? – ответил тот. – Вы у меня выигрываете ежегодно в среднем около ста тысяч ливров, так что моя жена предложила вам, в обмен на слово не играть больше со мной, годовую ренту в десять тысяч экю.
– Чтобы я отказался?! Нет, клянусь честью! Я бы слишком много потерял. Но речь вовсе не об этом.
– О чем же тогда?
– Как? Я неделю назад сказал вам – ибо знаю, что после меня вы самый болтливый человек, – что добился высших свидетельств благосклонности от госпожи де Сабле; вы должны были разнести это по Парижу и не сказали ни слова!
– Я боялся, – ответил, смеясь, г-н де Граммон, – поссорить вас с господином де Монморанси.
– Неужели? – сказал г-н де Гиз. – Я думал, между ними все кончено.
– Вы же видите, что нет: вон они спорят.
И действительно, между маркизой и герцогом шел спор.
– Постарайтесь узнать, о чем, дорогой граф, – попросил герцог де Гиз, – и потом скажите мне.
Граф приблизился к спорящим.
– Сударь, – говорила маркиза, – это нестерпимо. Мне рассказали, как на последнем балу в Лувре, пользуясь тем, что я была больна, вы танцевали только с самыми красивыми дамами двора.
– Но, дорогая маркиза, что я, по-вашему, должен был делать? – спросил герцог.
– Танцевать с самыми уродливыми, сударь!
Граф де Граммон, подошедший как раз во время этого диалога, рассказал о нем герцогу.
– По правде говоря, граф, – сказал тот, – я считаю, сейчас вам самое время сообщить господину де Монморанси секрет, о котором я вам рассказал; вы ему окажете услугу.
– Клянусь честью, нет! – ответил граф. – Я не сказал бы об этом мужу, а тем более любовнику.
– Ну что ж, – вздохнул герцог, – тогда я пойду скажу ему сам.
И он сделал несколько шагов в направлении герцога де Монморанси; но тут двери гостиной распахнулись настежь и придверник возгласил:
– Его королевское высочество монсеньер Гастон Орлеанский!
Все разговоры смолкли; те, кто стоял, застыли; те, кто сидел, встали, в том числе и принцесса Мария.
«Ну вот, – сказала себе, вставая, г-жа де Комбале, наперсница кардинала, – комедия начинается. Постараемся не пропустить ни слова из того, что будет сказано на сцене, а если удастся, увидеть то, что произойдет за кулисами».
III. НАЧАЛО КОМЕДИИ
В самом деле, это был первый случай, когда герцог Орлеанский открыто, на большом званом вечере появился у принцессы Марии Гонзага.
Было заметно, что он уделил своему туалету необыкновенное внимание. На нем был белый бархатный камзол с золотыми позументами, такой же плащ, подбитый вишневым атласом, и бархатные штаны того же цвета, что и подкладка плаща. На голове у него – нет, в руке, ибо он вопреки своим привычкам, входя в гостиную, обнажил голову, что было всеми замечено, – итак, в руке у него была белая фетровая шляпа с бриллиантовой петлицей и вишневого цвета перьями. Завершали этот туалет шелковые чулки и белые атласные туфли. Масса лент двух выбранных им цветов обильно и изящно выступала из всех прорезей камзола и возле подвязок.
Монсеньера Гастона мало любили и еще меньше уважали. Мы уже говорили, какой вред нанесло ему в этом смелом, изящном и рыцарственном обществе его поведение на процессе Шале; поэтому встречен он был всеобщим молчанием.
Слыша, что докладывают о нем, принцесса Мария бросила понимающий взгляд на вдовствующую герцогиню де Лонгвиль. Днем пришло письмо от его королевского высочества: принц извещал г-жу де Лонгвиль о своем вечернем визите и просил, если это возможно, предоставить ему несколько минут для разговора с принцессой Марией, для которой, по его словам, у него есть сообщение чрезвычайной важности.
Он подошел к принцессе Марии, насвистывая какой-то охотничий мотивчик; но, поскольку было известно, что даже присутствие королевы не мешает ему свистеть, никто не обратил внимания на это нарушение приличий, в том числе и принцесса Мария, грациозно протянувшая ему руку.
Принц прильнул к ней долгим и крепким поцелуем. Затем он учтиво приветствовал госпожу вдовствующую герцогиню де Лонгвиль, слегка поклонился г-же де Комбале и обратился к кавалерам и дамам, окружавшим принцессу Марию:
– Право же, дамы и господа, рекомендую вам новое изобретение господина Сукарьера; нет ничего удобнее, клянусь честью. Вы с ним уже знакомы, принцесса?
– Нет, монсеньер, я только слышала о нем от нескольких человек, прибывших сегодня ко мне в этом средстве передвижения.
– Это, в самом деле удобнейшая вещь, и, хотя мы с господином де Ришелье не столь уж большие друзья, я могу только радоваться этому изобретению, на которое он дал привилегию господину де Бельгарду. Его отец, великий конюший, за всю жизнь не изобрел ничего подобного, и я предложил бы отдать доходы от всех его должностей сыну за услугу, какую он нам оказывает. Вообразите, принцесса: нечто вроде ручной тележки, очень чистой, внутри обитой бархатом, со стеклами, если вы хотите смотреть, и занавесками, если не хотите, чтобы вас видели; сидеть очень удобно. Есть портшезы на одного, есть на двоих. Несут это сооружение овернцы, двигающиеся шагом, рысью или галопом, смотря по необходимости… и по оплате экипажа. Я испробовал шаг, пока был в Лувре, и рысь, когда покинул дворец. Шаг у них очень размеренный, рысь очень мягкая. И что удобно – в плохую погоду они могут зайти за вами прямо в вестибюль, куда не могут въехать кареты; чудесно и то, что нет подножки, так что вы не рискуете запачкаться. Ваш стул – это устройство называется стулом – опускают, и, когда вы выходите, ваши ноги оказываются на уровне пола. Клянусь, не я буду виной, если это изобретение не войдет в моду. Я вам его рекомендую, герцог, – обратился он к Монморанси, приветствуя его кивком.
– Я как раз сегодня им воспользовался, – ответил герцог с поклоном, – и полностью разделяю мнение вашего высочества.
Гастон повернулся к герцогу де Гизу:
– Здравствуйте, кузен. Каковы военные новости?
– Об этом надо спрашивать вас, монсеньер. Чем ближе к нам солнечные лучи, тем лучше они нам все освещают.
– Да, если не ослепляют нас. Я же от политики один глаз, по меньшей мере, потерял и, если так будет продолжаться, попрошу принцессу Марию, чтобы она выхлопотала мне комнату у своих соседей, господ Трехсот.
– Если вашему высочеству угодно знать новости, мы можем их сообщить: меня уведомили, что мадемуазель Изабелла де Лотрек после дежурства у королевы прибудет сюда, чтобы сообщить нам содержание письма, полученного от ее отца барона де Лотрека, он, как вам известно, находится в Мантуе при герцоге Ретельском.
– Но можно ли объявлять эти новости во всеуслышание? спросил монсеньер Гастон.
– Барон считает, что можно, монсеньер, и говорит в письме об этом.
– В обмен, – сказал Гастон, – я расскажу вам альковные новости, единственные интересующие меня с тех пор, как я отказался от политики.
– Расскажите, монсеньер! Расскажите! – смеясь, воскликнули дамы.
Госпожа де Комбале, по обыкновению, прикрыла лицо веером.
– Держу пари, – сказал герцог де Гиз, – что речь пойдет о моем негодяе-сыне.
– Именно. Вы знаете, что он заставляет подавать себе рубашку точно принцу крови. Восемь или десять человек по глупости взяли на себя эту обязанность. Но несколько дней назад он поручил это аббату де Рецу; тот, делая вид, что хочет согреть рубашку, уронил ее в огонь, где она и сгорела; после чего аббат взял шляпу и с поклоном удалился.
– Клянусь, он отлично поступил, – сказал герцог де Гиз, – и я его с этим поздравлю, как только увижу.
– Позволю себе заметить, – произнесла г-жа де Комбале, – что ваш сын совершил нечто еще худшее.
– О, расскажите, расскажите, сударыня! – попросил г-н де Гиз.
– Так вот: когда он в последний раз навещал в Реймсе свою сестру, госпожу де Сен-Пьер, то, пообедав с нею в приемной, вошел затем на территорию монастыря как принц. Там он с резвостью своих шестнадцати лет начал бегать за монахинями, поймал самую красивую и насильно поцеловал ее. «Брат мой! – закричала госпожа де Сен-Пьер. – Брат мой! Что вы делаете! Это Христовы невесты!» – «Ну и что? – ответил негодник. – Бог достаточно могуществен, он не позволил бы целовать своих невест, не будь на то его воли». – «Я пожалуюсь королеве!» – сказала оскорбленная монахиня (она была очень красива). Аббатиса испугалась. «Поцелуйте и вон ту тоже», – сказала она принцу. «Ах, сестра моя! Она очень уродлива!» – «Тем более; все будет выглядеть бессознательной детской шалостью». – «Нужно ли это, сестра моя?» – «Обязательно, иначе красавица пожалуется». – «Ну что ж, как она ни уродлива, раз вы этого хотите, я ее поцелую», И поцеловал. Уродина была весьма признательна и предотвратила жалобу красавицы.
– Откуда вам это известно, прекрасная вдова? – спросил герцог г-жу де Комбале.
– Госпожа де Сен-Пьер прислала отчет моему дяде; но он питает такую слабость к дому де Гизов, что только посмеялся над этим происшествием.
– Я встретил вашего сына примерно месяц назад, – сказал принц де Конде, – у него на шляпе вместо пера был желтый шелковый чулок. Что означает эта новая выходка?
– Это означает, – ответил герцог Орлеанский, – что тогда он был влюблен в Вилье из Бургуидского отеля, а на ней в одной из ролей были желтые чулки. Он передал ей через Тристана л’Эрмита комплименты по поводу ее ножки. Она сняла один чулок и отдала его Тристану со словами: «Если господин де Жуэнвиль согласится три дня носить этот чулок на своей шляпе вместо перьев, он может после этого требовать от меня что угодно».
– И что же? – спросила г-жа де Сабле.
– Так вот, он носил чулок три дня, и мой кузен де Гиз, его отец, скажет вам, что на четвертый день его сын вернулся в особняк Гизов лишь в одиннадцать часов утра.
– Ничего себе жизнь для будущего архиепископа! – произнесла г-жа де Сабле.
– А сейчас, – продолжал его королевское высочество, – он влюблен в мадемуазель де Понс, пышную толстощекую блондинку из штата королевы. На днях она принимала слабительное. Он узнал адрес ее аптекаря, взял то же самое лекарство и написал ей: «Никто не сможет сказать, что вы принимали слабительное, а я не делал этого одновременно с вами».
– Ах, теперь я понимаю, – сказал герцог, – почему метр сумасброд созвал в особняк Гизов всех парижских вожаков ученых собак. Вообразите, на днях я возвращаюсь домой и вижу, что двор полон собак в самых разнообразных костюмах. Их там было не меньше трехсот, и при них три десятка уличных комедиантов; каждый держал свою свору. «Что это ты делаешь, Жуэнвиль?» – спросил я его. «Я устроил себе спектакль, отец», – ответил он. Вы догадываетесь, зачем он созвал всех этих фигляров? Чтобы пообещать им по луидору, если через три месяца три сотни парижских ученых собак будут прыгать только в честь мадемуазель де Понс.
– Кстати, – сказал Гастон, из-за своего беспокойного характера считавший, что незачем так долго говорить об одном и том же, – дорогая герцогиня, вы, как соседка, должны знать, как дела у бедного Пизани? Вуатюр сказал мне вчера, что они не так уж плохи.
– Я справлялась сегодня утром, и мне ответили, что теперь врачи не опасаются за его жизнь.
– Сейчас у нас будут свежие новости, – вступил в разговор герцог де Монморанси. – Я покинул графа де Море у дверей особняка Рамбуйе, где он хотел сам все разузнать.
– Как? Граф де Море? – спросила г-жа де Комбале. – А говорили, что Пизани хотел подослать к нему убийцу? – да, – отозвался герцог, – но, кажется, это было недоразумение.
В эту минуту отворилась дверь, и слуга объявил:
– Монсеньер Антуан де Бурбон, граф де Море.
– Ну, вот и он, – сказал герцог. – Он сам все вам расскажет, притом лучше, чем я, начинающий спотыкаться, если приходится сказать подряд двадцать слов.
Вошел граф де Море, и все взоры обратились на него (прежде всею, мы должны сказать, что то были взоры женщин).
Не будучи пока представлен принцессе Марии, он остановился в дверях, ожидая г-на де Монморанси; тот, подойдя, отвел графа к принцессе, проделав все это быстро и с присущим ему изяществом.
Молодой принц не менее грациозно поклонился принцессе, поцеловал ей руку, в нескольких словах рассказал ей о герцоге Ретельском, с которым он виделся, проезжая через Мантую; поцеловал руку г-же де Лонгвиль; поднял букет, упавший с апостольника г-жи де Комбале, когда она посторонилась, давая графу дороги и отдал ей этот букет с очаровательным поклоном; низко поклонился монсеньеру Гастону и скромно занял свое место возле герцога де Монморанси.
– Дорогой принц, – сказал ему тот, когда церемония поклонов была закончена, – перед самым вашим приходом здесь говорили о вас.
– Полно! Неужели я такая значительная особа, чтобы мною занималось столь приятное общество?
– Вы совершенно правы, монсеньер, – послышался женский голос, – стоит ли заниматься человеком, которого хотели убить за то, что он любовник сестры Марион Делорм?
– О-о! – воскликнул принц, – этот голос мне знаком. Не принадлежит ли он моей кузине?
– Ну да, метр Жакелино! – сказала г-жа де Фаржи, подойдя к нему и протянув руку.
Граф де Море, пожимая ей руку, тихо сказал:
– Знаете, мне нужно вас увидеть – необходимо с вами поговорить. Я влюблен.
– В меня?
– Немного, но в другую – очень.
– Наглец! Как ее зовут?
– Я не знаю ее имени.
– Она, по крайней мере, красива?
– Я ни разу ее не видел.
– Молода?
– Должно быть.
– Почему вы так думаете?
– Я слышал ее голос, я касался ее руки, я впивал ее дыхание.
– Ах, кузен, как вы об этом говорите!
– Мне двадцать один год. Я говорю об этом так, как чувствую.
– О юность, юность! – произнесла г-жа де Фаржи. – Бесценный алмаз, что так быстро тускнеет!
– Дорогой граф, – прервал их герцог, – да будет вам известно, что все дамы завидуют вашей кузине – по-моему, вы так назвали госпожу де Фаржи – и хотят знать, почему вы решили нанести визит человеку, хотевшему, чтобы вас убили.
– Во-первых, – ответил граф де Море со своим очаровательным легкомыслием, – потому, что я еще не стал кузеном госпожи де Рамбуйе, но когда-нибудь непременно стану.
– Через кого? – спросил герцог Орлеанский, хваставшийся знанием всех генеалогий. – Объясните нам, господин де Море!
– Да через мою кузину де Фаржи, вышедшую замуж за господина де Фаржи д’Анженна, кузена госпожи де Рамбуйе.
– Но каким образом вы приходитесь кузеном госпоже де Фаржи?
– А вот это, – отвечал граф де Море, – наш секрет, не правда ли, кузина Марина?
– Да, кузен Жакелино, – подтвердила со смехом г-жа де Фаржи.
– Кроме того, прежде чем стать кузеном госпожи де Рамбуйе, я был одним из ее добрых друзей.
– Но я, – возразила г-жа де Комбале, – всего раз или два видела вас у нее.
– Она попросила меня прекратить визиты.
– Почему? – заинтересовалась г-жа де Сабле.
– Потому что господин де Шеврез ревновал меня.
– К кому?
– Сколько нас в этой гостиной? Примерно тридцать. Даю любому за этот секрет по тысяче. Это составит тридцать тысяч.
– Мы отказываемся разгадать, – заявил Месье.
– К своей жене.
Слова графа были встречены громким раскатом хохота.
– Однако, – сказала г-жа де Монбазон, опасавшаяся, что от ее падчерицы перейдут к ней, – граф не досказал историю о том, как его хотели убить.
– Ах, черт возьми, все очень просто. Скомпрометирую ли я госпожу де ла Монтань, сказав, что был ее любовником?
– Не больше, чем госпожу де Шеврез, – сказала г-жа де Сабле.
– Так вот, бедный Пизани решил, что мое счастье составила госпожа де Можирон. Искривление фигуры делает его обидчивым, беспристрастный голос зеркала делает его раздражительным. Вместо того чтобы вызвать меня на поединок – я бы охотно согласился, – он поручил свою месть сбиру. Тот был честным человеком и отказался. Вы видите, что Пизани не везет. Он хотел убить сбира – не удалось, хотел убить Сукарьера – тот чуть не убил его. Вот и вся история.
– Нет, это не вся история, – настаивал Месье. – Почему вы решили нанести визит человеку, хотевшему вас убить?
– Да потому, что он-то не мог ко мне прийти. У меня добрая душа, монсеньер. Я подумал: может быть, бедный Пизани думает, что я на него сержусь, и что это может стать его кошмаром. Я пришел, чтобы откровенно пожать ему руку и сказать, что, если впредь он или кто-то другой будет мною недоволен, пусть вызовет меня на поединок. Я всего лишь простой дворянин и не считаю себя вправе отказать в удовлетворении тому, кого оскорблю. Но я постараюсь не оскорблять никого.
Молодой человек произнес эти слова так мягко и вместе с тем решительно, что в ответ на его открытую и честную улыбку послышался одобрительный шепот.
Едва он умолк, как дверь отворилась и слуга доложил:
– Мадемуазель Изабелла де Лотрек.
Она появилась в дверях; за ней можно было различить сопровождавшего ее выездного лакея в дворцовой ливрее.
При виде молодой девушки граф де Море испытал какое-то непонятное притяжение и сделал шаг вперед, будто собираясь подойти к ней.
Она, грациозная и смущенная, приблизилась к принцессе Марии, сидевшей в кресле, и, почтительно склонившись, произнесла:
– Сударыня, ее величество отпустила меня, чтобы я передала вашему высочеству письмо моего отца, содержащее хорошие новости для вас; я пользуюсь высочайшим разрешением, чтобы почтительно повергнуть это письмо к вашим стопам.
При первых же словах, произнесенных мадемуазель де Лотрек, графа де Море охватил трепет. Схватив и с силой сжав руку г-жи де Фаржи, он прошептал:
– О, это она!.. Это она!.. Та, которую я люблю!
IV. ИЗАБЕЛЛА И МАРИНА
Как уже решил граф де Море, не зная ни девушки, ни ее имени, и решил благодаря той чудесной интуиции юности, что оказывается непогрешимее чувств, мадемуазель Изабелла де Лотрек обладала совершенной красотой, но совсем не такой, как у принцессы Марии.
Принцесса Мария была брюнетка с голубыми глазами, Изабелла де Лотрек – блондинка с черными глазами и черными бровями и ресницами. Ее кожа удивительной белизны, тонкая едва не до прозрачности, имела нежный оттенок розового лепестка; немного длинная шея отличалась очаровательным изгибом, какой мы находим у женщин Перуджино и на ранних полотнах его ученика Санти. Кисти ее рук, удлиненные, тонкие и белые, казались слепком с рук «Ферроньеры» Леонардо да Винчи. Платье со шлейфом не позволяло увидеть даже очертания ее ног, но по стремительности движений, по гибкости и тонкости талии можно было угадать, что нога должна гармонировать с рукой, то есть быть тонкой, изящной, с красивым выгибом ступни.
Когда она склонилась перед принцессой, та обняла ее и поцеловала в лоб.
– Боже меня сохрани от того, – сказала она, – чтобы я позволила склоняться передо мной дочери одного из вернейших слуг нашей семьи, приславшего мне добрые вести. Скажите, милая дочь нашего друга, что пишет вам отец: это новости для меня одной или я могу ими поделиться с теми, кого мы любим?
– Вы увидите из постскриптума, сударыня, что моему отцу позволено господином де Ла Салюди, послом его величества, открыто распространить в Италии новости, что он вам сообщает, а ваше высочество, со своей стороны, может распространить их во Франции.
Принцесса Мария вопросительно взглянула на г-жу де Комбале; та едва заметным кивком подтвердила слова прекрасной вестницы.
Мария сначала прочла письмо про себя.
Пока она читала, девушка, видевшая до сих пор одну принцессу – остальные двадцать пять или тридцать человек, находившиеся в гостиной, промелькнули перед ней подобием миража, – обернулась и, если можно так сказать, отважилась обвести глазами собравшееся общество.
Она увидела графа де Море; в их встретившихся взглядах вспыхнула та стремительная электрическая искра, что подчиняет своей власти сердце, получает удар и наносит его.
Изабелла, побледнев, оперлась о кресло принцессы.
Граф де Море видел ее волнение; ему казалось, будто он слышит небесное пение ангелов, славящих Бога.
Придверник объявил ее имя; она принадлежала к старинному и славному роду Лотреков, по известности в истории почти равному принцам.
Она еще никого не любила; до сих пор он на это надеялся, теперь был в этом уверен.
Тем временем принцесса Мария дочитала письмо.
– Господа, – сказала она, – вот что сообщает нам отец моей дорогой Изабеллы. Он виделся с находившимся проездом в Мантуе господином де Ла Салюди, чрезвычайным послом его величества при итальянских дворах. Господину де Ла Салюди было поручено от имени кардинала объявить герцогу Мантуанскому и сенату Венеции о взятии Ла-Рошели. Кроме того, ему поручено было заявить, что Франция собирается защищать Казаль и обеспечить герцогу Карлу де Неверу обладание его землями. Проезжал через Турин, он виделся с герцогом Савойским Карлом Эммануилом и предложил ему от имени короля, шурина его сына, и от имени кардинала отказаться от попыток завладеть Монферратом. Ему было поручено пообещать герцогу Савойскому в качестве возмещения город Трино с его двенадцатью тысячами экю ренты от суверенных земель.
Господин де Ботрю отправился в Испанию, а господин де Шарнасе – в Австрию, Германию и Швецию с теми же инструкциями.
– Что ж, – сказал Месье, – надеюсь, кардинал не втянет нас в союз с протестантами.
– Однако же, – возразил принц де Конде, – если бы это оказалось единственным средством удержать в Германии Валленштейна и его бандитов, я бы не стал возражать.
– Ну вот, – проворчал Гастон Орлеанский, – заговорила гугенотская кровь.
– Полагаю, – возразил, смеясь, принц, – что в жилах вашего высочества столько же гугенотской крови, сколько в моих: единственная разница между Генрихом Наваррским и Генрихом де Конде в том, что одному месса принесла королевство, а другому – ровным счетом ничего.
– Все равно, господа, – сказал герцог де Монморанси, – новость важная. Намечен ли уже тот генерал, кому будет доверено командование армией, посылаемой в Италию?
– Еще нет, – ответил Месье, – но есть вероятность, господин герцог, что кардинал, купивший у вас за миллион ваши обязанности адмирала, чтобы иметь возможность вести осаду Ла-Рошели по своему усмотрению, купит за миллион право лично руководить итальянской кампанией, и даже за два миллиона, если будет нужно.
– Признайтесь, монсеньер, – сказала г-жа де Комбале, – что, если бы он руководил этой кампанией так же, как осадой Ла-Рошели, ни у короля, ни у Франции не было бы оснований жаловаться и многие из тех, кто просит миллион, вместо того чтобы дать его, возможно, не справились бы с делом так успешно.
Гастон закусил губы. Вытребовав себе пятьсот тысяч франков на походные издержки, он так и не появился при осаде Ла-Рошели.
– Надеюсь, монсеньер, – сказал герцог де Гиз, – что вы не упустите случая заявить о своих правах.
– Если добьюсь я, – отвечал Месье, – то вместе со мной будете вы, мой кузен. Я достаточно получил от дома Гизов при посредстве мадемуазель де Монпансье и счастлив доказать вам, что не отношусь к числу неблагодарных И вам тоже, мой дорогой герцог, – продолжал Гастон, подходя к г-ну де Монморанси, – я был бы особенно рад прекрасному случаю загладить несправедливости совершавшиеся до сих пор в отношении вас. В собрании оружия вашего отца есть меч коннетабля, и он не кажется мне слишком тяжелым для руки сына. Однако если это произойдет, не забудьте, дорогой герцог: мне буде приятно видеть, что мой дражайший брат граф де Море находится рядом с вами и получает боевое крещение под таким прекрасным руководством.
Граф де Море поклонился. Герцог, чьим заветным чаяния польстило обещание Гастона, ответил:
– Вот слова, сказанные не впустую, монсеньер. Как только представится случай, ваше высочество убедится, что у меня хорошая память.
В эту минуту появившийся из боковой двери придверник тихонько сказал несколько слов госпоже вдовствующей герцогине де Лонгвиль, и она тотчас вышла в эту же дверь.
Мужчины столпились вокруг Месье. Уверенность в предстоящей войне – ибо ясно было, что Савоец не даст снять блокаду Казаля, испанцы не отдадут Монферрат и Фердинанд будет препятствовать тому, чтобы герцог Неверским утвердился в Мантуе, – делала Месье весьма значительной фигурой. Немыслимо было, чтобы подобная кампания состоялась без него; а высокий пост в армии позволит ему распоряжаться не одной прекрасной командной должностью.
Придверник через мгновение появился снова и что-то тихо сказал принцессе Марии; она вышла вместе с ним в ту же дверь, что и г-жа де Лонгвиль.
Госпожа де Комбале, стоявшая около принцессы, вздрогнула, расслышав имя Вотье. Как мы помним, Вотье был тайным поверенным королевы-матери.
Через пять минут тот же придверник пригласил монсеньера Гастона присоединиться к вдовствующей герцогине де Лонгвиль и принцессе Марии.
– Господа, – сказал принц, поклонившись собеседникам, – не забывайте, что я ничего не знаю, что я стремлюсь к единственной цели на свете – быть рыцарем принцессы Марии и что, будучи ничем, я ничего никому не обещал!
С этими словами, надев шляпу, он удалился подпрыгивающей походкой, заложив, по обыкновению, руки в карманы штанов.
Едва он скрылся, как граф де Море, воспользовавшись всеобщим изумлением от последовательного исчезновения вдовствующей герцогини де Лонгвиль, принцессы Марии и его королевского высочества Месье, пересек гостиную, подошел к Изабелле де Лотрек и, склонившись перед покрасневшей от смущения девушкой, сказал:
– Мадемуазель, будьте твердо уверены в том, что на свете есть человек, давший в ту ночь, когда он встретился с вами, не видя вас, клятву принадлежать вам в жизни и в смерти; сегодня, увидев вас, он повторяет свою клятву. Этот человек – граф де Море.
И не ожидая ответа девушки, еще больше покрасневшей и еще сильнее смущенной, он, почтительно поклонившись, вышел.
Проходя темным коридором в едва освещенную (как было обычно в ту эпоху) переднюю, граф де Море почувствовал, что его берут под руку; затем по его лицу пронеслось обжигающее дыхание, исходившее из-под черного капюшона, подбитого розовым атласом, и чей-то голос с мягким упреком произнес:
– Итак, бедная Марина принесена в жертву.
Он узнал голос, но еще больше – жаркое дыхание г-жи де Фаржи, уже однажды, в гостинице «Крашеная борода» на миг коснувшееся его лица.
– Граф де Море от нее ускользает, это правда, – сказал он, склоняясь к этому ненасытному дыханию, исходящем казалось, из уст самой Венеры – Астарты, – но…
– Но что? – спросила спутница, поднявшись на цыпочки, так что, несмотря на темноту молодой человек смог различить под капюшоном глаза, сверкающие, как два черных алмаза, и зубы, подобные нитке жемчуга.
– Но, – продолжал граф де Море, – ей остается Жакелино, и если она этим удовольствуется…
– Она этим удовольствуется, – сказала чаровница.
И тут же молодой человек ощутил на своих губах острый и сладкий укус той любви, какую античность, имевшая название для каждого предмета и имя для каждого чувства, звала словом «эрос».
В то время как, едва держась на ногах от страстной дрожи, пробежавшей по его венам и, казалось, заставившей всю кровь до последней капли прихлынуть к сердцу Антуан де Бурбон, зажмурясь, с полуоткрытым ртом и откинутой назад головой прижался к стене, издав вздох, похожий на жалобу, прекрасная Марина высвободила свою руку и, легкая, как птица Венеры, юркнула в портшез, сказан:
– В Лувр.
– Ей-Богу, – сказал граф де Море, отделяясь от стены, куда он, казалось, врос, – да здравствует Франция, страна любовных связей! В них, по крайней мере, есть разнообразие. Всего две недели как я вернулся, а я уже связан с тремя женщинами, хотя на самом деле люблю только одну. Но, черт возьми, быть сыном Генриха Четвертого не пустяк! И если бы у меня было шесть любовных увлечений вместо трех, я постарался бы достойно их встретить!
Опьяненный, ничего не видя, спотыкаясь, он вышел на крыльцо, подозвал свой портшез и, размышляя об этой тройной любви, велел доставить себя в особняк Монморанси.








