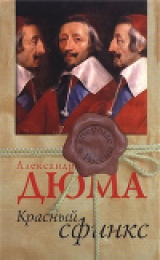
Текст книги "Красный сфинкс"
Автор книги: Александр Дюма
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 41 страниц)
VII. МАРИНА И ЖАКЕЛИНО
За несколько минут до того, как Латиль дал знать, что он жив, с помощью тех двух слов, какие обычно произносит любой раненый, приходя в себя (они, впрочем, занимали первое место в репертуаре нашего наемного убийцы), в гостиницу «Крашеная борода» явился молодой человек и спросил, проживает ли в номере тринадцатом, расположенном во втором этаже, крестьянка Марина из окрестностей По. Ее, добавил он, легко узнать по пышным волосам, по прекрасным черным глазам, выгодно оттеняющим пунцовый чепчик, что призван служить им обрамлением, и по всему ее наряду, напоминающему о тех суровых горах Коарраза, по которым Генрих IV, босой и с непокрытой головой, столько раз лазал ребенком.
Госпожа Солей с очаровательной улыбкой дала молодому человеку время выговориться: ей, несомненно, приятно было хорошенько разглядеть это юношеское лицо. Затем, сопроводив свои слова понимающим взглядом, она ответила, что молодая крестьянка по имени Марина ждет уже примерно полчаса в означенном номере.
И грациозным жестом, какой всегда найдется у женщины тридцати – тридцати пяти лет для двадцати – двадцатидвухлетнего юноши, г-жа Солей указала спрашивавшему на лестницу – по ней можно пройти наверх в комнату под тринадцатым номером.
Посетитель был, как мы сказали, молодой человек лет двадцати – двадцати двух, среднего роста, красивый, стройный; в каждом его движении чувствовались изящество и сила. У него были голубые глаза северянина, черные брови и черные волосы уроженца Юга, загоревшее на солнце лицо, чуть бледное от усталости, небольшие усы и эспаньолка; тонкие насмешливые губы, что, приоткрываясь, позволяли увидеть двойной ряд белых зубов, каким позавидовала бы не одна женщина, дополняли прекрасные черты этого лица.
Его костюм баскского крестьянина был одновременно удобен и изящен: красный – цвета бычьей крови – берет, украшенный в центре большой черной кистью, спадающей на плечо, и двумя перьями (одно в тон берету, другое черное, как кисть), кокетливо обрамляющими лицо; полукафтан того же сукна, что и берет, отделанный черной тесьмой, с широкими ниспадающими рукавами. Через один из них – правый – видно было, что под камзолом надето одно из тех средств, какие в то время ежедневных нападений и ночных засад могли служить нагрудником, смягчая удар кинжала или шпаги. Этот камзол, застегнутый снизу доверху, отставал от парижской моды: там уже лет десять, если не больше, застегивали камзолы только вверху, чтобы показать между ним и короткими штанами складки рубашки тончайшего батиста, потоки лент и кружев. На молодом человеке были панталоны из серой буйволовой кожи; к ним были прилажены подметки с высоким каблуком, так что они служили своему владельцу одновременно и сапогами. Кинжал за кожаным поясом, охватывающим его талию, и прицепленная к этому поясу длинная рапира, бившая его по икрам, дополняли костюм того, кого мы по ошибке назвали крестьянином, ибо сообразно носимому им оружию он вправе был именоваться мелкопоместным дворянином.
Подойдя к двери нужной ему комнаты, он вначале убедился, что это действительно тринадцатый номер; затем, успокоенный на этот счет, постучал особенным образом: два быстрых удара – затем пауза, потом еще два удара – затем такая же самая пауза, потом пятый удар.
На пятом ударе дверь отворилась: следовательно, посетителя ждали.
Та, что открыла дверь, была женщина двадцати восьми – тридцати лет в полном расцвете роскошной красоты; ее глаза, служившие молодому человеку приметой в его расспросах, сверкали, как два черных алмаза в бархатном футляре длинных век. Волосы ее были настолько темного оттенка, что любое сравнение с чернилами, углем, вороновым крылом было бы недостаточным. В бледности щек был теплый янтарный оттенок, говорящий о страстях скорее бурных и скоропреходящих, нежели глубоких и долгих; шея, охваченная четырьмя нитками кораллов, сидела на четко очерченных плечах и мягко спускалась к соблазнительно волнующейся груди. Хотя контуры эти, говоря языком скульптора, подходили скорее Ниобее, чем Диане, талия у нее была тонкой, вернее, казалась тоньше, чем она была на самом деле, благодаря чисто испанской округлости бедер. Короткая бархатная юбка того же цвета, что и чепчик, то есть красная в черную полоску, позволяла увидеть нижнюю часть ноги, более аристократическую, чем позволял предположить ее костюм, и ступню, по сравнению с пышной фигурой казавшуюся чрезмерно маленькой.
Мы ошиблись, сказав, что дверь открылась: следовало сказать «приотворилась», ибо, лишь после того как молодой человек произнес имя «Марина» и та, кого называли этим именем, в ответ вымолвила пароль – имя «Жакелино», дверь полностью отворилась, охранявшая ее женщина отступила в сторону, давая дорогу тому, кого она ждала, и поспешно задвинула за ним дверной засов. Впрочем, она тут же обернулась, видимо спеша рассмотреть вошедшего.
Итак, оба разглядывали друг друга с одинаковым любопытством: Жакелино стоял улыбаясь, скрестив руки и подняв голову, Марина – слегка вытянув шею вперед и опираясь руками о дверь, в ласково-угрожающей позе большой кошки – леопарда или пантеры, – готовой наброситься на добычу.
– Черт возьми, – воскликнул юноша, – какая у меня аппетитная кузина!
– А у меня, клянусь душой, красавец-кузен, – произнесла молодая женщина.
– Клянусь честью, – продолжал Жакелино, – когда люди состоят в таком близком родстве и ни разу друг друга не видели, то, мне кажется, они должны начать знакомство с поцелуя.
– Ничего не имею против такого способа поздравить родственников с благополучным прибытием, – отвечала Марина, подставляя ему щеки, вспыхнувшие на миг румянцем (опытный наблюдатель безошибочно приписал бы его легко вспыхивающему желанию, а не слишком чувствительной стыдливости).
Молодые люди расцеловались.
– Ах, клянусь душой моего развеселого отца, – вскричал молодой человек, пребывавший в отличном настроении, похоже вообще ему свойственном, – по-моему, самая приятная вещь на этом свете – поцеловать красивую женщину, не считая, разумеется, повторного поцелуя, что должен быть еще приятнее!
И он вновь протянул руки, собираясь подкрепить слова делом.
– Тише, тише, кузен, – сказала молодая женщина, останавливая его, – мы поговорим об этом позже, если вам угодно. Не потому, что это не кажется мне столь же приятным, как вам, а потому, что у нас нет времени. Это ваша вина. Почему вы заставили меня потерять полчаса, ожидая вас?
– Черт возьми, хорошенький вопрос! Да ведь я думал, что меня ждет какая-нибудь толстая немецкая кормилица или высохшая испанская дуэнья. Но пусть нам еще раз представится случай оказаться вместе, и, клянусь Богом, моя прекрасная кузина, это я буду ждать вас!
– Принимаю к сведению ваше обещание; но сейчас мне надо поскорее сообщить особе, пославшей меня, что я вас видела и что вы готовы полностью повиноваться ее приказаниям, как и надлежит вести себя учтивому рыцарю по отношению к великой государыне.
– Я с покорностью жду этих приказаний, – произнес молодой человек, опускаясь на одно колено.
– О, вы у моих ног, монсеньер! Монсеньер, что это вы вздумали! – воскликнула Марина, поднимая его.
Потом она добавила со своей дразнящей улыбкой:
– А жаль: вы были очаровательны в этом виде.
– Послушайте, – сказал молодой человек, взяв мнимую кузину за руки и усаживая рядом с собой, – прежде всего самое главное: о моем возвращении узнали с удовлетворением?
– С радостью.
– И эту аудиенцию мне подарят с удовольствием?
– С радостью.
– И миссия, которой я облечен, будет встречена с одобрением?
– С восторгом.
– Однако вот уже неделя как я приехал, а жду уже два дня!
– Вы и вправду очаровательны, кузен; а сколько дней назад, по-вашему, мы сами вернулись из Ла-Рошели? Два с половиной.
– Это правда.
– Из этих двух с половиной дней чем были заполнены вчерашний и позавчерашний?
– Празднествами, знаю; я их видел.
– Откуда вы их видели?
– Да с улицы, как простой смертный.
– И как вы их нашли?
– Великолепными.
– Не правда ли, у нашего дорогого кардинала есть воображение: его величество Людовик Тринадцатый, одетый Юпитером!
– Причем Юпитером Статором.
– Статором или каким-то другим, какая разница?
– А разница есть, и немалая, прелестная моя кузина; в этом-то, наоборот, вся суть.
– В чем этом?
– В слове «Статор». Знаете вы, что оно означает?
– Право же, нет.
– Оно значит либо «Юпитер останавливающий», либо «Юпитер останавливающийся».
– Постараемся, чтобы это был «Юпитер останавливающийся».
– У подножия Альп, не так ли?
– С Божьей помощью мы сделаем для этого все, что сможем, несмотря на молнии, которые он держит в руке, угрожая одновременно Австрии и Испании.
– Молнии деревянные и бескрылые; крылья молний войны – это деньги, а я не думаю, что король и кардинал сейчас очень богаты. Так что, милая кузина, Юпитер Статор, погрозив Востоку и Западу, по всей вероятности, отложит свою молнию, так и не пустив ее в дело.
– О, скажите это вечером обеим нашим бедным королевам, и вы их осчастливите.
– У меня есть для них кое-что получше. Я должен им передать, как известил уже их величества, письмо от принца Пьемонтского: он ручается, что французская армия не перейдет Альпы.
– Лишь бы на сей раз он сдержал слово, а это, вы знаете, у него не в обычае.
– Ну, теперь-то это в его интересах.
– Мы болтаем, кузен, и за болтовней напрасно теряем время.
– Это ваша вина, кузина, – с ослепительной открытой улыбкой отвечал молодой человек, – вы сами не захотели заняться полезными делами.
– Вот и проявляй после этого преданность хозяевам, вот и жертвуй ради них последним! За преданность тебя благодарят упреками! Боже мой, до чего мужчины несправедливы!
– Я слушаю вас, кузина.
И молодой человек придал своей физиономии самое серьезное выражение, на какое был способен.
– Так вот, сегодня вечером, в одиннадцать часов, вас ждут в Лувре.
– Как сегодня вечером? Сегодня вечером я удостоюсь чести быть принятым их величествами?
– Именно сегодня вечером.
– Но я думал, что сегодня вечером при дворе состоится спектакль с подобающим ему балетом.
– Да, но королева, узнав об этом, пожаловалась на сильную усталость и невыносимую головную боль. Она сказала, что только сон сможет восстановить ее силы. Позвали Бувара. Бувар нашел все симптомы постоянной мигрени. Бувар, хоть он и медик короля, предан нам телом и душой. Он рекомендовал полнейший отдых; так что вас ждут отдыхая.
– Но как войду я в Лувр? Не называть же мне себя!
– Все предусмотрено, не беспокойтесь. Сегодня вечером в одежде дворянина будьте на улице Фоссе-Сен-Жермен; на углу улицы Пули вас будет ждать паж в ливрее слуги госпожи принцессы, светло-желтой с голубым; зная пароль, он проведет вас в коридор, ведущий к спальне королевы, и сдаст с рук на руки дежурной фрейлине. Если ее величество сможет принять вас немедленно, вы будете сразу допущены к ней; если нет – подождете удобной минуты в комнате, примыкающей к ее спальне.
– Но почему бы вам, милая кузина, не скрасить там мое ожидание? Клянусь, мне это было бы чрезвычайно приятно.
– Потому что моя неделя службы закончилась и я, как видите, провожу время в другом месте.
– Но, по моему разумению, проводите его приятно.
В этот миг раздался звон колокола монастыря Белых Плащей.
– Девять часов! – воскликнула Марина. – Скорее целуйте и выпроваживайте меня, кузен. Мне едва хватит времени, чтобы вернуться в Лувр и успеть сказать, что у меня есть родственник, очаровательный кавалер, готовый отдать… что отдали бы вы за королеву?
– Мою жизнь! Этого достаточно?
– Этого слишком много; всегда давайте лишь то, что сможете взять обратно, а не то, что, будучи отданным, к вам уже не вернется. До свидания, кузен!
– Кстати, – спросил, останавливая ее, молодой человек, – должен я обменяться с этим пажом каким-нибудь условным знаком или паролем?
– Да, правда, я забыла. Вы скажете: «Казаль», а он ответит: «Мантуя».
И молодая женщина на этот раз протянула мнимому кузену уже не щеки, а губы, на которых был запечатлен сочный поцелуй.
Потом она бросилась вниз по лестнице с быстротой женщины, не знающей, сможет ли она устоять, если ее попытаются удерживать.
Жакелино ненадолго задержался после ее ухода, поднял свой берет, уроненный в начале разговора, надел его и – без сомнения, чтобы дать луврской вестнице время исчезнуть, – не спеша спустился с лестницы, напевая песенку Ронсара:
Когда же этот день пройдет?
Он длится нынче, будто год:
Ведь я (какая незадача!)
С хозяйкой сердца моего
В разлуке – с тою, без кого,
Все видя, буду я незрячим.
Он дошел до третьего куплета своей песенки и до последней ступеньки лестницы, как вдруг с этой последней ступеньки (она вела в нижний зал, где обыкновенно собирались любители выпить) увидел в тусклом свете одинокой, прикрепленной к стене свечи, что на столе лежит бледный и окровавленный человек: похоже, он находился при смерти. Рядом с ним стоял капуцин и, по-видимому, выслушивал исповедь умирающего. Любопытные толпились в дверях и у окон, не решаясь войти из-за присутствия монаха и торжественности совершающегося акта.
При этом зрелище песня замерла на устах молодого человека; увидев стоящего неподалеку хозяина гостиницы, он окликнул его:
– Э, метр Солей!
Тот приблизился, держа колпак в руке.
– Чем могу служить такому прекрасному молодому человеку? – осведомился он.
– Какого черта делает этот человек, лежащий на столе, в обществе монаха?
– Он исповедуется.
– Клянусь Богом, я прекрасно вижу, что он исповедуется! Но кто он такой? И почему исповедуется?
– Кто он такой? – переспросил трактирщик со вздохом. – Это храбрый и честный малый по имени Этьенн Латиль, один из лучших клиентов моего заведения. Почему он исповедуется? Да потому, что ему, как видно, осталось жить лишь несколько часов. Он человек религиозный и потому громко потребовал священника; моя жена увидела, что этот достойный капуцин выходит из монастыря Белых Плащей, и позвала его.
– И от чего же умирает ваш честный человек?
– О сударь, другие от этого уже десять раз бы умерли! Он умирает от двух страшных ударов шпагой: один вошел ему в спину и вышел через грудь, другой, войдя в грудь, вышел через спину.
– Значит, он дрался не с одним человеком?
– С четырьмя, сударь, с четырьмя!
– Ссора?
– Нет, месть.
– Месть?
– Да; боялись, что он заговорит.
– А что он мог сказать, если бы заговорил?
– Что ему предлагали тысячу пистолей за то, чтобы убить графа де Море, а он отказался.
При этом имени молодой человек вздрогнул и, пристально посмотрев на хозяина гостиницы, переспросил:
– Чтобы убить графа де Море? Уверены ли вы в том, что говорите, милейший?
– Я слышал это из его собственных уст. Это было первое, что он сказал после того, как, придя в себя, попросил пить.
– Граф де Море, – задумчиво повторил молодой человек. – Антуан де Бурбон…
– Да, Антуан ле Бурбон.
– Сын короля Генриха Четвертого.
– И госпожи Жаклины де Бёй, графини де Море.
– Это странно, – пробормотал молодой человек.
– Странно или нет – тем не менее, это так.
На миг воцарилось молчание; потом, к великому удивлению метра Солея, не обращая внимания на крики: «Куда вы? Куда вы?», молодой человек отстранил поварят и служанок, загородивших внутреннюю дверь, вошел в зал, где находились только капуцин и Этьенн Латиль, подошел к раненому и кинул на стол кошелек, судя по изданному им звуку, основательно наполненный.
– Этьенн Латиль, – сказал он, – это на ваше лечение. Если вы выживете, то, как только вас можно будет перенести, велите доставить вас в особняк герцога де Монморанси на улице Белых Плащей; если вам суждено умереть, умрите с верой в Господа, в мессах за спасение вашей души недостатка не будет.
Когда молодой человек приблизился, раненый приподнялся на локте и, словно при виде призрака, застыл безмолвно, вытаращив глаза и раскрыв рот.
Потом, когда молодой человек отошел, Латиль прошептал:
– Граф де Море!
И он снова упал на стол.
Что касается капуцина, то он, как только лже-Жакелино сделал первые шаги по залу, надвинул на лицо капюшон, словно боясь, что молодой человек его узнает.
VIII. ЛЕСТНИЦЫ И КОРИДОРЫ
Выйдя из гостиницы «Крашеная борода», граф де Море, чье инкогнито нам нет больше нужды сохранять, спустился по улице Вооруженного Человека, свернул направо, пошел по улице Белых Плащей и постучал в дверь особняка герцога Генриха II де Монморанси; особняк имел два входа: один с улицы Белых Плащей, другой – с улицы Сент-Авуа.
Без сомнения, сын Генриха IV был вполне своим человеком в доме: едва он вошел, как юный паж лет пятнадцати схватил канделябр с четырьмя рожками, зажег свечи и пошел впереди.
Принц последовал за ним.
Апартаменты графа де Море находились во втором этаже; паж зажег в одной из комнат два канделябра, подобных первому, потом спросил:
– Будут у вашего высочества какие-либо приказания?
– Ты занят сегодня вечером у своего господина, Галюар?
– Нет, монсеньер, я свободен.
– Хочешь пойти со мной?
– С огромным удовольствием, монсеньер.
– В таком случае оденься потеплее и возьми плащ поплотнее: ночь будет холодная.
– Ого! – воскликнул юный паж, приученный своим хозяином, усердным посетителем дамских салонов, к подобным приятным неожиданностям. – Кажется, мне надо будет стоять на страже?
– Да, и на почетной страже: в Лувре. Но, слушай, Галюар, никому ни слова, даже твоему хозяину.
– Само собой разумеется, монсеньер, – с улыбкой отвечал мальчик, приложив палец к губам, и повернулся, чтобы уйти.
– Подожди, – сказал граф де Море, – у меня есть для тебя еще несколько распоряжений.
Паж поклонился.
– Ты сам оседлаешь лошадь и сам вложишь в седельные кобуры заряженные пистолеты.
– Одну лошадь?
– Да, одну: ты сядешь на круп позади меня. Вторая лошадь может привлечь внимание.
– Приказания монсеньера будут выполнены в точности.
Пробило десять часов; граф, прислушиваясь, считал звенящие бронзой удары.
– Десять часов, – сказал он, – это хорошо; ступай, и чтобы через четверть часа все было готово.
Паж поклонился и вышел, исполненный гордости от доверия, оказанного ему графом.
А граф выбрал в своем гардеробе костюм дворянина, простой, но изящный: камзол гранатового бархата и голубые бархатные штаны; воротник и манжеты тонкой батистовой рубашки были отделаны великолепными брюссельскими кружевами. Он натянул длинные, до колена, сапоги буйволовой кожи и надел серую шляпу, украшенную двумя перьями в тон костюму, то есть голубым и гранатовым, скрепленными бриллиантовой застежкой; завершила все богатая перевязь, в которую была продета шпага с эфесом золоченого серебра и стальным клинком – одновременно предмет роскоши и орудие зашиты.
Затем с кокетством, естественным у молодых людей, он уделил несколько минут своему лицу: проследил, чтобы вьющиеся от природы волосы одинаково обрамляли обе его щеки, заплел косичку (ее носили на левом виске, и спускалась она до пояса), подкрутил усы, потянул эспаньолку, не желающую расти так быстро, как ему хотелось бы; затем взял в ящике кошелек вместо оставленного Латилю и, словно кошелек этот вдруг заставил его что-то вспомнить, прошептал:
– Но кто же, черт возьми, так заинтересован в том, чтобы меня убили?
Не найдя ответа на заданный себе вопрос, он после минутного раздумья с юношеской беззаботностью отбросил это воспоминание, ощупал себя, чтобы проверить, не забыл ли он чего-нибудь, бросил искоса взгляд в зеркало и спустился по лестнице, напевая последний куплет песни Ронсара, начало которой, как мы помним, звучало из его уст в гостинице «Крашеная борода»:
Отправься, песенка, в полет
Туда, где милая живет;
Склонись над белою рукою,
Шепни, что тяжко болен я,
Но просто вылечить меня:
Пусть на груди тебя укроет.
У дверей его ожидал паж с лошадью. Граф вскочил в седло с легкостью и элегантностью опытного наездника. Затем по его знаку Галюар вспрыгнул на круп позади. Убедившись, что пажу удобно сидеть, граф пустил коня рысью, спустился по улице Мобюе, проехал по улице Трусваш, выехал на улицу Сент-Оноре и поднялся по улице Пули.
На углу улиц Пули и Фоссе-Сен-Жермен, под освещенным лампой изображением Мадонны, сидел на тумбе подросток. Увидев всадника с пажом, сидящим на крупе коня, он подумал, что это, очевидно, тот кавалер, кого он ждет, и распахнул окутывавший его плащ.
Под плащом оказался костюм светло-желтого и голубого цветов, то есть ливрея слуги госпожи принцессы.
Граф, узнав пажа по описанию, велел Галюару слезть с коня, спешился и подошел к подростку.
Тот слез с тумбы и застыл в почтительном ожидании.
– Казаль, – произнес граф.
– Мантуя, – ответил паж.
Граф сделал Галюару знак отойти и, повернувшись к тому, кто должен был стать его проводником, спросил:
– Значит, я должен следовать за тобой, милое дитя?
– Да, господин граф, если вам угодно, – отвечал паж таким нежным голосом, что у принца сразу возникло сомнение: не женщина ли перед ним?
– Тогда, – продолжал он, не решаясь обращаться на «ты» к непонятному спутнику, – будьте добры указать мне дорогу.
Эта перемена в словах и тоне графа не ускользнула от того (или той), кому они были адресованы. Паж насмешливо взглянул на него, даже не дав себе труда подавить смешок, потом кивнул и пошел впереди.
Они прошли по подъемному мосту благодаря паролю, тихонько сказанному пажом часовому, потом миновали ворота Лувра и направились к северному углу дворца.
Подойдя к калитке, паж взял плащ на руку, чтобы была видна его светло-желтая с голубым ливрея, и, изо всех сил стараясь говорить мужским голосом, произнес:
– Свита госпожи принцессы.
Но, сняв плащ, паж вынужден был открыть свое лицо, и на него упал луч фонаря, освещавшего калитку. По пышности белокурых волос, падающих на плечи, по голубым глазам, лучившимся хитростью и весельем, по тонкому и насмешливому рту, столь щедрому и на укусы, и на поцелуи, граф де Море узнал Мари де Роган-Монбазон, герцогиню де Шеврез.
Он быстро подошел к ней и на повороте лестницы спросил:
– Дорогая Мари, герцог по-прежнему оказывает мне честь своей ревностью?
– Нет, милый граф, особенно с тех пор как он знает, что вы влюблены в госпожу де ла Монтань и готовы ради нее на любые безумства.
– Отличный ответ! – рассмеялся граф. – Вижу по вашему уму и по вашему лицу, что вы по-прежнему самое остроумное и самое очаровательное создание на свете.
– Если бы я вернулась из Испании только для того, чтобы услышать лично от вас этот комплимент, – поклонился мнимый паж, – я не жалела бы о путевых издержках, монсеньер.
– Ах, да, мне казалось, что после приключения в амьенских садах вы были изгнаны?
– Была доказана невиновность как моя, так и ее величества; по настоятельной просьбе королевы господин кардинал соблаговолил простить меня.
– Безо всяких условий?
– С меня потребовали клятву больше не вмешиваться в интриги.
– И вы держите эту клятву?
– Неукоснительно, как видите.
– И ваша совесть вам ничего не говорит?
– У меня есть разрешение папы.
Граф расхохотался.
– И потом, – продолжал мнимый паж, – какая же это интрига – провести деверя к невестке?
– Милая Мари, – сказал граф де Море, целуя ей руку с любовным пылом, унаследованным им от короля, своего отца, и, как мы помним, проявившимся в первые же минуты свидания с мнимой кузиной в гостинице «Крашеная борода», – милая Мари, вы, наверно, приготовили мне сюрприз и ваша комната находится на пути в спальню королевы?
– Ах, вы, несомненно, самый законный из сыновей Генриха Четвертого – все остальные только бастарды.
– Даже мой брат Людовик Тринадцатый? – смеясь спросил граф.
– Прежде всего ваш брат Людовик Тринадцатый, Господь его храни! Ну почему у него нет в венах хоть чуточки вашей крови?
– Мы от разных матерей, герцогиня.
– И, кто знает, может быть, от разных отцов.
– Послушайте, Мари, – воскликнул граф де Море, – вы очаровательны, я должен вас поцеловать!
– Вы с ума сошли? Целовать пажа на лестнице! Вы что, хотите погубить свою репутацию, тем более что вы приехали из Италии?
– Да, решительно мне сегодня не везет, – сказал граф, выпуская руку герцогини.
– Вот это мило! – сказала она. – Королева посылает к нему в гостиницу «Крашеная борода» одну из самых красивых наших женщин, и он еще жалуется!
– Мою кузину Марину?
– Да, да, «мою кузину Марину».
– Ах, черт возьми! Не скажете вы мне, кто такая эта обольстительница?
– Как! Вы ее не знаете?
– Нет!
– Вы не знаете Фаржи?
– Фаржи, супругу нашего посла в Испании?
– Именно. Ее поместили к королеве после пресловутой сцены в амьенских садах, о чем я вам только что говорила; мы все тогда были изгнаны.
– Что ж, отлично! – расхохотался граф де Море. – До чего же хорошо охраняют королеву! В изголовье ее постели герцогиня де Шеврез, в ногах – госпожа де Фаржи. Ах, бедный мой брат Людовик Тринадцатый! Признайтесь, герцогиня, что ему не везет!
– Ну, знаете, монсеньер, вы становитесь восхитительно-дерзким! К счастью, мы уже пришли.
– Уже пришли?
Герцогиня достала из кармана ключ и отперла дверь, ведущую в темный коридор.
– Вам сюда, монсеньер, – сказала она.
– Я надеюсь, вы не намерены заставить меня туда войти?
– Наоборот, вы туда войдете, и притом один.
– Что ж, меня ведь поклялись убить. У меня под ногами окажется какой-нибудь открытый люк – и прощай Антуан де Бурбон. Впрочем, я не много потеряю: женщины так плохо ко мне относятся!
– Неблагодарный, если бы вы знали ту, что ждет вас на том конце коридора…
– Как, – вскричал граф де Море, – в конце этого коридора меня ждет женщина?
– Это третья за нынешний вечер, а вы еще жалуетесь, прекрасный Амадис!
– Нет, я не жалуюсь. До свидания, герцогиня.
– Не забудьте про люк.
– Мне все равно: рискую!
Герцогиня заперла дверь за графом, оказавшимся в полнейшей темноте.
Мгновение он колебался и, не имея ни малейшего представления о том, где находится, хотел было вернуться, но его остановил звук ключа, запиравшего дверь на два оборота.
Отбросив сомнения, граф решил довести приключение до конца.
– Черт возьми! – воскликнул он. – Прекрасная герцогиня сказала, что я законный сын Генриха Четвертого, нельзя же заставлять ее лгать.
И он ощупью двинулся к противоположному концу коридора, затаив дыхание и вытянув руки вперед.
Сделав в беспросветной тьме (не без опасений, какие испытывает в потемках самый храбрый человек) десятка два шагов, он услышал приближающийся шелест платья и чье-то дыхание.
Он остановился. Шелест и дыхание тоже замерли.
Пока он думал, как ему обратиться к этим очаровательным звукам, неожиданно послышался нежный и дрожащий голос:
– Это вы, монсеньер?
Голос был самое большее в двух шагах.
– Да, – ответил граф.
Сделав шаг вперед, он ощутил руку, протянутую в поисках его руки. Но, едва коснувшись руки графа, она отдернулась, робкая, как мимоза.
Ушей принца достиг легкий возглас не то удивления, не то испуга, слабый и мелодичный, как вздох сильфа или звук эоловой арфы.
Граф вздрогнул, испытав неведомое до сих пор ощущение.
Оно было восхитительным.
– О, где же вы? – прошептал он.
– Здесь, – запнувшись, ответил голос.
– Мне сказали, что я найду здесь руку, указывающую путь, ведь сам я его не знаю. Вы отказываете мне в этой руке?
Какое-то мгновение та, к кому обращена была эта просьба, была в нерешительности, но почти тотчас ответила:
– Вот она.
Граф обеими руками схватил протянутую ему руку и хотел было поднести ее к губам, но это движение было остановлено одним-единственным словом; оно звучало просьбой, однако его нельзя было понять иначе как крик потревоженной стыдливости:
– Монсеньер!
– Простите, мадемуазель, – произнес граф столь же почтительно, как если бы разговаривал с королевой.
Он отвел на прежнее расстояние эту трепещущую от испуга руку, находившуюся уже на полпути к его губам; воцарилось молчание.
Граф держал поданную ему руку; ее не пытались отдернуть, но теперь она была неподвижна, и, казалось, только сила воли ее обладательницы придает ей видимость жизни.
Это была – если позволено будет воспользоваться таким выражением – совершенно немая рука.
Но эта предписанная ей немота не помешала графу заметить, что она маленькая, тонкая, нежная, продолговатая, аристократическая и главное – что это рука девушки.
Нет, уже не к губам хотел бы граф прижать эту руку, а к сердцу.
Коснувшись ее, он и сам застыл неподвижно, будто совсем забыв, что привело его сюда.
– Вы идете, монсеньер? – спросил нежный голос.
– Куда я должен идти? – ответил вопросом граф, не слишком понимая, что говорит.
– Туда, где ждет вас королева, к ее величеству.
– Ах, да, я и забыл! – воскликнул граф и, вздохнув, добавил: – Идемте!
И он пустился в путь – новый Тесей, ведомый по лабиринту менее сложному, но более темному, чем критский, причем не Ариадниной нитью, но самой Ариадной.
Через несколько шагов Ариадна свернула направо.
– Мы пришли, – сказала она.
– Увы! – прошептал граф.
Они, действительно, подошли к застекленной парадной двери в прихожую королевы. Но, поскольку предполагалось, что королева нездорова и спит, все было погашено, кроме одной лампы, подвешенной под потолком; свет ее, проходящий через стекло, был не ярче света звезды.
При этом слабом освещении граф попытался разглядеть свою проводницу, но различил, если можно так выразиться, лишь очертания тени.
Девушка остановилась.
– Монсеньер, – сказала она, – теперь, когда вы видите достаточно, следуйте за мной.
Несмотря на легкое усилие, которое сделал граф, чтобы удержать ее руку, она ее высвободила, прошла вперед, отворила дверь коридора и вошла в прихожую королевы.
Граф следовал за ней.
Молча, на цыпочках, они пересекли прихожую и подошли к двери, расположенной напротив коридора и ведущей в апартаменты Анны Австрийской. Но вдруг их остановил приближающийся шум.
Это были шаги многих людей, поднимающихся по главной лестнице.
– О Боже мой! – прошептала девушка, – уж не королю ли пришло в голову после балета зайти справиться о здоровье ее величества либо убедиться, действительно ли она больна?
– В самом деле, идут с той стороны, – сказал принц.
– Подождите, – шепнула девушка, – я посмотрю! Она бросилась к двери, выходящей на главную лестницу, приоткрыла створку и тут же вернулась к графу:
– Это он! Скорее, скорее, в эту комнату.
Отворив дверь, скрытую под обивкой, она втолкнула туда графа и сама вошла вслед на ним.
Это было как раз вовремя: едва дверь комнаты закрылась за ними, как отворилась другая, ведущая на главную лестницу, и появился король Людовик XIII; перед ним шли два пажа с факелами, позади него – два фаворита: Барада и Сен-Симон; за ними следовал Беренген, первый королевский камердинер. Сделав свите знак подождать, Людовик вошел к королеве.








