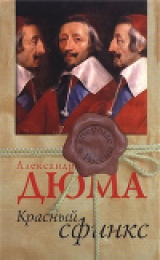
Текст книги "Красный сфинкс"
Автор книги: Александр Дюма
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 41 страниц)
XIV. АНТРАКТЫ КОРОЛЕВСКОЙ ВЛАСТИ
В Лувре царило большое беспокойство: со времени своих занятий на Королевской площади король не виделся ни с королевой-матерью, ни с королевой, ни с герцогом Орлеанским, ни с кем-либо еще из своей семьи, так что никто не получил от него ни выпрошенных сумм, ни ордеров с оплатой по предъявлении, без которых эти суммы нельзя было получить.
К тому же новое министерство Берюля и Марийяка Шпаги, с воодушевлением созданное в результате отставки кардинала, не получало еще приказа собраться и, следовательно, ничего еще не решило.
В довершение всего Беренген – он видел короля при отъезде и при возвращении, одевал его утром и раздевал вечером – неизменно говорил, что его величество возвратился более грустным, чем уезжал, и вечером был молчаливее, чем утром.
Доступ к нему в комнату имели лишь его шуг л’Анжели и его паж Барада.
Из всех хищных птиц только Барада запустил клюв и когти в сокровищницу кардинала: он единственный получил адресованный Шарпантье ордер на три тысячи пистолей. Надо сказать правду: он не раскрывал клюва и не вытягивал когтей, награда досталась ему без всякой просьбы. У него были и недостатки молодости, и ее достоинства. Он был расточителен, когда появлялись деньги, но неспособен использовать свое влияние на короля, чтобы питать эту расточительность. Когда источник пересыхал, он спокойно ждал, утешаясь прекрасной одеждой, прекрасными лошадьми, прекрасным оружием; когда источник снова наполнялся, он опустошал его с такой же беззаботностью и такой же быстротой.
Пока король отсутствовал, Барада оживленно обсуждал со своим другом Сен-Симоном эту нежданную, с неба свалившуюся прибыль, рассчитывая поделиться со своим юным товарищем. Оба ребенка – а они были почти детьми: старшему, Барада, едва исполнилось двадцать лет – строили великолепные проекты по поводу трех тысяч пистолей, собираясь хотя бы месяц прожить как принцы; но во всех этих проектах их беспокоило одно: будет ли оплачен королевский ордер? Столько королевских ордеров возвращалось из казначейства, несмотря на августейшую подпись на них; получалось, что подпись самого мелкого торговца из Сите стоит больше, чем подпись Людовика, как бы величественно ни красовалась она под двумя с половиной строчками, составлявшими текст ордера.
Затем Барада уединился, взял бумагу, чернила, перо и предпринял колоссальную для дворянина той эпохи работу – стал писать письмо. Не раз пришлось ему потирать лоб и скрести в затылке, но в конце концов он достиг цели, спрятал письмо в карман, смело дождался короля и еще смелее спросил его, когда можно отправиться к казначею, чтобы получить деньги по ордеру, пожалованному его величеством.
Король ответил, что это можно сделать когда угодно: казначей в его распоряжении.
Барада поцеловал руку короля, спустился по лестницам, прыгая через четыре ступени, вскочил в портшез фирмы «Мишель и Кавуа», приказав срочно доставить себя к господину кардиналу, вернее в особняк господина кардинала.
Там он обнаружил секретаря Шарпантье, неизменно находящегося на своем посту, и предъявил свой ордер.
Шарпантье взял его, прочел, рассмотрел; затем, узнав почерк и подпись короля, почтительно поклонился г-ну Барада и попросил немного подождать, оставив ему расписку; через пять минут он вернулся с мешком, содержащим тридцать тысяч ливров.
При виде этого мешка сердце Барада, сомневавшегося до последней минуты, наполнилось радостью. Шарпантье предложил ему пересчитать сумму; но Барада – ему не терпелось прижать заветный мешок к груди – ответил, что столь точный кассир несомненно непогрешим, и попытался поднять мешок. Однако его сил, еще не восстановившихся после ранения, оказалось недостаточно, и Шарпантье должен был отнести мешок в портшез.
Там Барада, зачерпнув горсть серебряных луи и золотых экю, предложил ее Шарпантъе. Но тот, поклонившись на прощание, отказался.
Барада застыл, все еще не в силах прийти в себя, в то время как дверь кардинальского особняка закрылась за Шарпантье.
Мало-помалу Барада вышел из оцепенения, огляделся и, чтобы не терять свой мешок из виду, сделал знак носильщикам следовать за ним. Он подошел к соседнему дому, постучал и, достав из кармана письмо, отдал его открывшему дверь элегантному лакею со словами:
– Для мадемуазель Делорм.
К письму он добавил два экю, и лакею в голову не пришло отказаться, как это сделал Шарпантье; затем он сел в портшез и повелительным голосом, свойственным людям с туго набитым кошельком, крикнул носильщикам:
– В Лувр!
Носильщики – от них не ускользнула ни округлость мешка, ни прибавка веса – пустились аллюром, который мы без колебаний можем считать предком современного гимнастического шага.
Через четверть часа Барада, чья рука не переставала ласково поглаживать мешок, ставший его дорожным спутником, был у дверей Лувра, где встретил г-жу де Фаржи, как и он, выходившую из портшеза.
Они узнали друг друга; по чувственным губам лукавой женщины пробежала улыбка при виде усилий Барада, пытающегося больной рукой поднять слишком тяжелый мешок.
– Не угодно ли, я помогу вам, господин Барада? – спросила она с насмешливой любезностью.
– Благодарю, сударыня, – ответил паж, – но если по дороге вы попросите моего товарища Сен-Симона спуститься, то действительно окажете мне услугу.
– Конечно, – кокетливо сказала молодая женщина, – с большим удовольствием, господин Барада.
И она проворно взбежала по лестнице, приподняв шлейф своего платья с присущим некоторым женщинам искусством показывать нижнюю часть ног до начала икр, что позволяет угадать остальное.
Через пять минут спустился Сен-Симон. Барада щедро расплатился с носильщиками, и двое молодых людей, объединив усилия, стали подниматься по лестнице, неся мешок с деньгами: так на полотнах Паоло Веронезе мы видим двух юных красавцев, несущих участникам застолья большую амфору, способную напоить допьяна двадцать человек.
Тем временем Людовик XIII, завершив в пять часов трапезу, беседовал со своим шутом, от чьей проницательности не укрылась возросшая грусть его величества.
Людовик XIII сидел за столом в своей спальне по одну сторону большого камина; по другую его сторону на высоком стуле присел л’Анжели, словно попугай на жердочке; он упирался каблуками в нижнюю перекладину стула, превратив свои колени в стол и поставив на них тарелку с уверенностью, делающей честь его чувству равновесия.
Король нехотя, без аппетита съел несколько сухих бисквитов, несколько сушеных черешен и едва омочил губы в стакане, на котором сверкал золотом и лазурью королевский герб. Он так и не снял широкую шляпу черного фетра с черными перьями, затенявшую лицо и делавшую его еще мрачнее.
Л’Анжели, напротив, испытывавший сильный голод, чувствовал, как лицо его расплывается в улыбке при виде второго обеда, в ту эпоху подававшегося обычно между пятью и шестью часами вечера. Вследствие этого он передвинул на ближайший к себе край стола огромный пирог с фазанами, вальдшнепами и славками и, предложив начать его королю, отрицательно покачавшему головой, стал отрезать ломти, похожие на кирпичи, быстро переходившие с блюда на его тарелку и еще быстрее – с тарелки в его желудок. Атаковав вначале фазана как самую крупную часть обеда, он занялся вальдшнепами и рассчитывал закончить славками, орошая все это вином, носившим имя кардинальского (это было не что иное, как наше сегодняшнее бордо); при этом король и кардинал, обладавшие двумя самыми скверными желудками в королевстве, ценили это вино за его удобоваримость, а л’Анжели, у кого был один из лучших желудков во вселенной, за его букет и бархатистость.
Первая бутылка этого легкого вина уже перекочевала со стола к очагу камина, где только что к ней присоединилась вторая; помещенная на подобающем расстоянии от огня, она отогревалась(гурманы, для кого нет ничего святого, даже грамматики, употребляют этот глагол в возвратной форме, и мы следуем за ними). Хотя первая стояла прямо, легко было заметить по ее прозрачности и по тому, с какой легкостью она покачивалась при сотрясении, что она до последней капли потеряла оживлявшую ее благородную кровь и что л’Анжели (он теперь ласкал взглядом и рукой ее соседку) сохранил к ней лишь то смутное почтение, какое положено испытывать к мертвым. Впрочем, л’Анжели, уподобившись тому греческому философу, врагу излишнего, который выбросил в реку свою деревянную миску увидев, что ребенок пьет из ладошки, упразднил стакан как ненужного посредника, просто-напросто протягивая руку к горлышку бутылки и поднося его ко рту всякий раз, как он испытывал необходимость – а испытывал он эту необходимость часто – утолить жажду.
Л’Анжели, только что подаривший своей бутылке один из самых нежных поцелуев, издал вздох удовлетворения; в эту же минуту Людовик издал вздох, полный печали.
Л’Анжели застыл с бутылкой в одной руке и вилкой в другой.
– Решительно, – сказал он, – мне кажется, что быть королем не так уж весело, особенно когда царствуешь.
– Ах, милый л’Анжели, – ответил король, – я очень несчастен.
– Расскажи мне об этом, сын мой. Это тебя утешит, – сказал л’Анжели, ставя бутылку на пол и кладя себе на тарелку еще ломоть паштета. – Почему ты так несчастен?
– Все меня обкрадывают, все меня обманывают, все меня предают.
– Прекрасно! И ты только что это заметил.
– Нет, я только что в этом убедился.
– Полно, полно, сын мой, не будем впадать в отчаяние. Что касается меня, то, признаюсь тебе, я не склонен считать, что дела на этом свете идут плохо. Я хорошо позавтракал, хорошо пообедал, этот паштет был хорош, вино превосходно, земля вращается так мягко, что я этого не чувствую, а ощущаю во всем теле ласковую теплоту и приятное чувство удовольствия, и оно позволяет мне смотреть на жизнь сквозь розовую дымку.
– Л’Анжели, – очень серьезно сказал Людовик XIII, – перестань проповедовать ересь, сын мой, иначе я велю тебя высечь.
– Как, – отозвался л’Анжели, – разве смотреть на жизнь сквозь розовую дымку – это ересь?
– Нет, но ересь утверждать, что земля вращается.
– Ах, ей-Богу я вовсе не первый это говорю: господа Коперник и Галилей меня опередили.
– Да, но Библия говорит обратное; а ты, я думаю, согласишься, что Моисей знал об этом не меньше, чем все Коперники и все Галилеи на свете!
– Гм-гм! – произнес л’Анжели.
– Послушай, – настаивал король, если бы солнце было неподвижно, как удалось бы Иисусу Навину остановить его на три дня?
– А ты уверен, что Иисус Навин остановил солнце на три дня?
– Не он, а Господь.
– И ты веришь, что Господь взял на себя этот труд, чтобы дать своему избраннику время разбить наголову армию Адониседека и четырех царей ханаанских, объединившихся с ним, а потом замуровать их живыми в пещере? Клянусь честью, если бы я был Господом, то, вместо того чтобы останавливать солнце, я, наоборот, наслал бы ночь, чтобы дать этим беднягам возможность спастись.
– Л’Анжели, л’Анжели! – печально сказал король. – От тебя за целое льё разит гугенотом.
– Обрати внимание, Людовик, что от тебя разит гугенотом с более близкого расстояния, чем от меня, если предположить, что ты сын своего отца.
– Л’Анжели! – остановил его король.
– Ты прав, Людовик, – сказал л’Анжели, атакуя славок, не будем говорить о богословии; так ты говоришь, сын мой, что все тебя обманывают?
– Все, л’Анжели!
– За исключением, однако, твоей матери?
– Моя мать так же, как все.
– Ба! Но, надеюсь, кроме твоей жены?
– Моя жена больше других.
– О! Ну так за исключением твоего брата?
– А мой брат больше всех.
– Вот как! И я еще думал, что тебя обманывает только кардинал.
– Л’Анжели, я, наоборот, думаю, что только один кардинал меня не обманывал.
– Выходит, мир перевернулся?
Людовик печально покачал головой.
– А я слышал, будто ты был так рад избавиться от него, что осыпал щедротами всю свою семью.
– Увы!
– Что ты дал шестьдесят тысяч ливров своей матери; тридцать тысяч ливров королеве; сто пятьдесят тысяч ливров Месье.
– То есть я только обещал их, л’Анжели.
– Отлично, значит, они их еще не получили!
– Л’Анжели, – внезапно сказал король, – мне пришло в голову одно желание.
– Вот тебе на! Надеюсь, ты не хочешь сжечь меня как еретика или повесить как вора?
– Нет, теперь, когда у меня есть деньги…
– Так у тебя есть деньги?
– Да, дитя мое.
– Честное слово?
– Слово дворянина! И много.
– Так вот, послушай меня, – сказал л’Анжели, даря новый поцелуй своей бутылке, – используй их, чтобы закупить вино вроде этого, сын мой; год тысяча шестьсот двадцать девятый может оказаться неурожайным.
– Нет, мое желание не в этом; ты знаешь, что я пью только воду.
– Черт возьми! Поэтому ты так печален.
– Мне надо было бы сойти с ума, чтобы стать веселым.
– Я сумасшедший, однако мне совсем не весело. Послушай, закончим с этим: что у тебя за желание?
– Я хочу дать тебе состояние, л’Анжели.
– Состояние? Мне? А на что мне состояние? У меня есть еда и кров в Лувре. Когда мне нужны деньги, я выворачиваю твои карманы и забираю то, что нахожу Правда, нахожу я там всегда немного. Но этого мне хватает, и я не жалуюсь.
– Я хорошо знаю, что ты не жалуешься, и это меня еще больше огорчает.
– Так, значит, тебя все огорчает? Фи, что за скверный характер!
– Ты не жалуешься, ты, кому я никогда ничего не даю, а они, кому я даю без конца, беспрестанно жалуются.
– Ну и пусть жалуются, сын мой.
– Если я умру, л’Анжели!
– Прекрасно, еще одна веселая мысль пришла тебе в голову. Подожди, по крайней мере, карнавала, чтобы быть таким весельчаком, как сейчас.
– Если я умру, они прогонят тебя и не дадут ни единого мараведи.
– Ну что же, я уйду.
– А что с тобою будет?
– Я стану траппистом! Черт возьми, их аббатство возле Лувра – веселое место.
– Они все надеются, что я скоро умру. Что ты скажешь на это, л’Анжели?
– Я скажу: надо жить, чтобы они бесились.
– Жить не так уж это весело, л’Анжели.
– Ты думаешь, в Сен-Дени веселее, чем в Лувре?
– В Сен-Дени только тело, дитя мое; душа на небе.
– По-твоему, на небе веселее, чем в Сен-Дени?
– Нигде не весело, л’Анжели, – мрачно сказал король.
– Людовик, предупреждаю, что я оставлю тебя скучать в одиночестве: у меня начинают от тебя кости стынуть.
– Так ты не хочешь, чтобы я тебя обогатил?
– Я хочу, чтобы ты дал мне докончить мою бутылку и мой пирог!
– Я дам тебе ордер на три тысячи пистолей – такой же, как я дал Барада.
– Ах, ты дал Барада ордер на три тысячи пистолей?
– Да.
– Что ж, можешь себя поздравить: ты хорошо поместил эти деньги.
– Ты думаешь, он найдет им плохое применение?
– Напротив, превосходное. Я думаю, он их прокутит в обществе славных парней и прелестных девиц.
– Слушай, л’Анжели, ты ни во что не веришь.
– И даже в добродетель господина Барада.
– Разговаривать с тобой – значит грешить.
– В этом есть доля правды, и я дам тебе совет, сын мой.
– Какой?
– Пойти в свою молельню помолиться там за мое обращение и дать мне спокойно съесть мой десерт.
– И дурак может дать хороший совет, – сказал король, вставая. – Пойду помолюсь.
И он направился в молельню.
– Вот-вот, – сказал л’Анжели, – помолись за меня, а я поем, выпью и спою за тебя. Посмотрим, кто от этого больше выгадает.
И в самом деле, пока Людовик XIII, более печальный чем когда-либо, войдя в молельню, затворял за собой дверь, л’Анжели, покончив со второй бутылкой, начал третью, распевая:
Когда веселый Вакх является ко мне,
Волненье и тоска стихают, как во сне,
И кажется (я рад, скажу по чести),
Что в сундуках моих и больше серебра,
И больше золота и ценного добра,
Чем у Мидаса с Крёзом вместе.
Мне хочется, иной забавы не ища,
Надеть на голову корону из плюща
И прыгать и плясать, кружась, смеясь, играя;
Я в мыслях растоптал, все почести презрев,
Вас – принцев и вельмож, монархов, королев, —
Ногою землю попирая.
Налейте чашу мне; хочу – поймите вы —
Я молодым вином прогнать из головы
Заботу, от какой мой бедный…, не в силе;
Налейте, чтоб ее быстрее нам прогнать!
А все-таки, друзья, вольготнее лежать
В постели пьяному, чем мертвому в могиле!
XV. «TU QUOQUE»
(И ты – лат.)
Выйдя из молельни, Людовик XIII обнаружил, что л’Анжели, положив скрещенные руки на стол, а голову на руки, спит или притворяется спящим.
Несколько мгновений король смотрел на него с глубокой грустью. В несовершенном характере Людовика, слабом и эгоистичном, вспыхивали, однако, время от времени проблески правды и справедливости: их не смогло полностью угасить полученное им дурное воспитание. Он испытывал глубокое сочувствие к этому товарищу своей грусти; тот посвятил себя королю не для того, чтобы забавлять его, как делали шуты прежних королей, а для того, чтобы пройти вместе с ним все круги того ада с мрачным небосводом, что зовется скукой. Людовик вспомнил о предложении, которое он сделал л’Анжели и от которого тот со своей обычной беззаботностью не то чтобы отказался, но уклонился. Он вспомнил бескорыстие и терпение, с каким л’Анжели сносил все капризы его дурного настроения, вспомнил ничего не требующую преданность шута – и это среди окружающего честолюбия и жадности, прикрытых нежными или дружескими чувствами; поискав чернильницу, перо и бумагу, он написал с соблюдением всех необходимых формальностей ордер на три тысячи пистолей, составляющий пару к ордеру Барада, и положил его в карман л’Анжели, приняв все меры предосторожности, чтобы не разбудить шута. Вернувшись к себе в спальню, он в течение часа слушал игру своих музыкантов на лютне, потом позвал Беренгена, велел раздеть себя и, улегшись, послал за Барада, чтобы тот пришел поболтать с ним.
Барада явился, сияя от радости: он только что считал и пересчитывал, раскладывал и перекладывал свои три тысячи пистолей.
Король велел ему сесть в ногах постели и тоном упрека произнес:
– Почему у тебя такой веселый вид, Барада?
– У меня такой веселый вид, – отвечал тот, – потому что нет никаких причин грустить, а наоборот, есть причина радоваться.
– Какая причина? – вздохнув, спросил Людовик XIII.
– Ваше величество забыли, что пожаловали мне три тысячи пистолей?
– Нет, напротив, помню.
– Так вот, должен сказать вашему величеству, что эти три тысячи пистолей я не рассчитывал получить.
– Почему не рассчитывал?
– Человек предполагает, Бог располагает!
– Но если этот человек – король?
– Это не мешает Богу быть Богом!
– Итак?..
– Итак, государь, к моему великому удивлению, мне заплатили по предъявлении, и все сполна. Черт возьми! Господин Шарпантье, на мой взгляд, куда более великий человек, чем господин Ла Вьёвиль: тот, когда вы просите у него денег, спокойно отвечает: «Я плыву, плыву, плыву…»
– Так что ты получил свои три тысячи пистолей?
– Да, государь.
– И ты теперь богат?
– Э-э!
– И что ты станешь делать? Как дурной христианин истратишь их, подобно блудному сыну, на игру и женщин?
– О, государь! – лицемерно запротестовал Барада. – Ваше величество знает, что я никогда не играю.
– По крайней мере, ты мне так говоришь.
– А что касается женщин, я их не выношу.
– Это правда, Барада?
– Я из-за этого постоянно ссорюсь с шалопаем Сен-Симоном, всегда ставя ему в пример ваше величество.
– Видишь ли, Барада, женщина создана на погибель нашей души. Не змей соблазнил женщину, а сама женщина – это змей.
– О, как это прекрасно сказано, государь! Я обязательно запомню эту максиму и впишу ее в мой молитвенник.
– Кстати о молитвах: в прошлое воскресенье я следил за тобой во время мессы. Ты показался мне весьма рассеянным, Барада.
– Так показалось вашему величеству, ибо случаю было угодно, чтобы мои глаза обратились в ту же сторону, что и ваши, – на мадемуазель де Лотрек.
Король, прикусив усы, переменил тему разговора.
– Послушай, – спросил он, – так что ты думаешь делать со своими деньгами?
– Если бы у меня было в три или четыре раза больше, – отвечал паж, – я истратил бы их на благочестивые дела, пожертвовал бы на основание монастыря или на возведение часовни; но располагал ограниченной суммой…
– Я небогат, Барада, – сказал король.
– Я не жалуюсь, государь; наоборот, считаю себя очень счастливым, Я только говорю, что, располагая ограниченной суммой, я прежде всего отдам половину ее моей матери и сестрам.
Король одобрительно кивнул.
– Затем, – продолжал Барада, – я разделю оставшиеся полторы тысячи пистолей на две части: семьсот пятьдесят пойдут на покупку двух хороших боевых коней, чтобы сопровождать ваше величество на войну в Италию, на то, чтобы нанять и экипировать лакея, купить оружие…
Король приветствовал каждое из этих намерений Барада.
– А оставшиеся семьсот пятьдесят? Что ты сделаешь с ними?
– Я сохраню их как карманные деньги и как резерв. Благодарение Богу, государь, – продолжал Барада, возводя глаза к небу, – нужда в добрых делах велика, на любой дороге можно встретить сирот, нуждающихся в помощи, или вдов, нуждающихся в утешении.
– Обними меня, Барада, обними меня! – воскликнул тронутый до слез король. – Употреби свои деньги так, как ты говоришь, дитя мое, а я прослежу за тем, чтобы твоя маленькая казна не иссякала.
– Государь, – сказал Барада, вы обладаете величием, щедростью и мудростью царя Соломона, но в глазах Господа имеете перед ним то преимущество, что у вас нет трехсот жен и восьмисот…
– Что бы я делал с ними, Господи! – воскликнул король в ужасе от одной этой мысли, простирая руки к небу. – Но сам этот разговор уже грех, Барада, ибо он вызывает в уме мысли и даже предметы, осуждаемые моралью и религией.
– Ваше величество правы, – согласился Барада. – Угодно вам, чтобы я почитал что-нибудь благочестивое?
Барада знал, что это был самый быстрый способ усыпить короля. Он поднялся, взял «Вечное утешение» Жерсона, сел уже не на кровать, а возле кровати и самым серьезным голосом начал читать.
На третьей странице король погрузился в глубокий сон.
Барада поднялся на цыпочках, положил книгу на место, бесшумно дошел до двери, так же тихо отворил и затворил ее, после чего вернулся к прерванной партии в кости с Сен-Симоном.
На следующий день король в десять часов выехал из Лувра в карете и через четверть часа вошел в тот зеленый кабинет, где за два дня столько всего, о чем он даже не подозревал либо имел ложное представление, предстало перед ним в своем истинном свете.
Шарпантье ожидал его в кабинете.
Король выглядел бледным, уставшим, подавленным.
Он спросил, прибыли ли отчеты.
Шарпантье ответил, что отец Жозеф вернулся в свой монастырь, поэтому от него отчета не будет; должны быть только отчеты Сукарьера и Лопеса.
– Эти отчеты поступили? – спросил король.
– Как я имел честь говорить вашему величеству, – ответил Шарпантье, – узнав, что сегодня им предстоит иметь дело с самим королем, господа Лопес и Сукарьер сказали, что лично привезут свои отчеты. Ваше величество ограничится чтением, либо вызовет этих господ, если пожелает получить более подробные разъяснения.
– И они их привезли?
– Господин Лопес со своим отчетом здесь; чтобы дать вашему величеству время переговорить с ним и ознакомиться с корреспонденцией господина кардинала, я назначил господину Сукарьеру встречу только на полдень.
– Позовите Лопеса.
Шарпантье вышел и через несколько секунд доложил о доне Ильдефонсо Лопесе.
Лопес вошел, держа шляпу в руке и кланяясь до земли.
– Полно, полно, господин Лопес, – сказал король. – Я вас давно знаю: вы мне дорого обходитесь.
– Каким образом, государь?
– Не у вас ли королева покупает драгоценности?
– Да, государь.
– Так вот, только позавчера королева попросила у меня двадцать тысяч ливров, чтобы обновить жемчужное ожерелье, и собиралась сделать это у вас.
Лопес рассмеялся, показывая зубы, которые он мог бы выдать за жемчужины.
– Над чем вы смеетесь? – спросил король.
– Государь, должен лия говорить с вами, как говорил бы с господином кардиналом?
– Безусловно.
– Так вот, в отчете, представляемом мною сегодня его высокопреосвященству, есть параграф, который посвящен этому жемчужному ожерелью, вернее, связанным с ним последствиям.
– Прочтите мне этот параграф.
– Я готов повиноваться королю, но ваше величество ничего не поймет в моем чтении, если я не дам некоторых предварительных разъяснений.
– Так дайте их.
– Двадцать второго декабря ее величество королева действительно появилась у меня под предлогом, что ей нужно обновить жемчужное ожерелье.
– Под предлогом, вы сказали?
– Да, под предлогом, государь.
– Какова же была действительная цель?
– Встретиться с послом Испании господином маркизом де Мирабелем, который должен был оказаться у меня случайно.
– Случайно?
– Без сомнения, государь; ведь ее величество королева всегда случайно встречается с маркизом де Мирабелем, ибо ему запрещено появляться в Лувре иначе как в приемные дни либо по приглашению.
– Да, я по совету кардинала отдал такой приказ.
– Поэтому ее величество королева, когда ей нужно что-нибудь сказать послу испанского короля, своего брата, либо что-то услышать от него, встречает его случайно, поскольку не может видеться с ним иначе.
– И эта встреча происходит у вас?
– С согласия господина кардинала.
– Итак, королева встретилась с испанским послом?
– Да, государь.
– И долго они разговаривали?
– Они обменялись всего несколькими словами.
– Надо было бы узнать, что это были за слова.
– Господин кардинал это знает.
– Но я не знаю: господин кардинал был весьма скрытен.
– Это означает, что он не хотел напрасно волновать ваше величество.
– Так какие это были слова?
– Я могу сказать вашему величеству лишь то, что услышал мой гранильщик алмазов.
– Что, он знает испанский?
– Я научил его по приказу господина кардинала; но все думают, что он не знает испанского, и потому он ни у кого не вызывает недоверия.
– Итак, они сказали?…
– Посол. «Ваше величество получили через посредство миланского губернатора и при содействии графа де Море письмо от вашего прославленного брата?»
Королева. «Да, сударь».
«Ваше величество подумали над его содержанием?»
«Я думала и еще думаю; я дам вам ответ».
«Каким образом?»
«При посредстве ящика, якобы содержащего ткани; на самом деле в нем будет находиться эта крошка-карлица – та, что, как вы видите, играет с госпожой Белье и мадемуазель де Лотрек».
«Вы полагаете, что можете ей довериться?»
«Она подарена мне моей теткой Кларой Эухенией, инфантой Нидерландов, целиком преданной интересам Испании».
– Интересам Испании… – повторил король. – Итак, все, кто меня окружают, преданы интересам Испании, то есть моих врагов. И что же эта карлица?
– Ее доставили вчера в ящике; она сказала господину де Мирабелю на прекрасном испанском языке:
«Госпожа моя повелительница сказала, что она приняла во внимание совет, данный ее братом, и, если здоровье короля будет по-прежнему ухудшаться, она примет меры, чтобы не быть захваченной врасплох».
– Чтобы не быть захваченной врасплох, – повторил король.
– Мы не поняли, что это должно было означать, государь, – сказал Лопес, опустив голову.
– Зато я понимаю, – нахмурясь, сказал король, – этого достаточно. А не передала она одновременно вам, что в состоянии заплатить за купленные у вас жемчужины?
– Мне за них заплатили, государь, – сказал Лопес.
– Как заплатили?
– Да, государь.
– И кто же?
– Господин Партичелли.
– Партичелли? Итальянский банкир?
– Да.
– Но мне говорили, что его повесили.
– Это правда, это правда, – спохватился Лопес, – но перед смертью он уступил свой банк господину д’Эмери, весьма честному человеку.
– Во всем, – пробормотал Людовик XIII, – во всем меня обкрадывают и обманывают! И королева больше не виделась с господином де Мирабелем?
– Царствующая королева – нет; королева-мать – да.
– Моя мать? И когда же?
– Вчера.
– С какой целью?
– Чтобы сообщить ему, что господин кардинал свергнут, что его заменил господин де Берюль, что Месье назначен главным наместником и, следовательно, посол может написать королю Филиппу Четвертому или графу-герцогу что война в Италии не состоится.
– Как война в Италии не состоится?
– Таковы подлинные слова ее величества.
– Да, я понимаю: эту армию оставят, как и первую, без жалованья, без припасов, без одежды. О, негодяи, негодяи! – вскричал король, сжав лоб руками. – Вы еще что-то хотите мне сказать?
– Нечто малозначительное, государь. Господин Барада явился сегодня утром ко мне в магазин, чтобы купить драгоценности.
– Какие драгоценности?
– Колье, браслет, булавки для волос.
– И на много?
– На триста пистолей.
– Зачем ему колье, браслет, булавки для волос?
– Вероятно, для какой-нибудь любовницы, государь.
– Как! – сказал король. – Только вчера вечером он говорил мне, что ненавидит женщин. Что-нибудь еще?
– Это все, государь.
– Подведем итоги. Королева и господин де Мирабель: если мое здоровье ухудшится, она примет меры, чтобы не быть захваченной врасплох. Королева-мать и господин де Мирабель: господин де Мирабель может написать его величеству Филиппу Четвертому, что, поскольку господин де Берюль занял место господина де Ришелье и мой брат назначен главным наместником, война в Италии не состоится. Наконец, господин Барада: господин Барада покупает колье, браслеты, булавки для волос на деньги, что я ему дал. Хорошо, господин Лопес. Я узнал от вас все, что хотел узнать. Продолжайте хорошо служить мне или хорошо служить господину кардиналу, что одно то же, и не упускайте ни слова из того, что говорится у вас.
– Ваше величество видит, что мне нет нужды это повторять.
– Ступайте, господин Лопес, ступайте. Я спешу покончить со всеми этими изменами. Уходя, скажите, чтобы мне прислали господина Сукарьера, если он здесь.
– Я здесь, государь, – послышался голос.
И Сукарьер появился на пороге со шляпой в руке; нога его была согнута в колене, носок выдвинут вперед; в этом положении он казался более чем вдвое ниже ростом.
– Ах, вы подслушивали, сударь, – сказал король.
– Нет, государь, но мое рвение услужить вам было столь велико, что я угадал желание вашего величества меня видеть.
– А-а! И много интересного хотите вы мне сообщить?
– Мой отчет охватывает лишь два последних дня, государь.
– Расскажите, что произошло за эти два дня.
– Позавчера Месье, августейший брат вашего величества, взял портшез и велел доставить себя к послу герцога Лотарингского и к послу Испании.
– Я знаю, что там произошло; продолжайте.
– Вчера около одиннадцати часов ее величество королева-мать взяла портшез и велела доставить себя в магазин Лопеса; одновременно господин испанский посол, взяв портшез, велел доставить себя туда же.
– Я знаю, о чем они говорили. Продолжайте.
– Вчера господин Барада взял портшез у Лувра и велел доставить себя на Королевскую площадь, к господину кардиналу. Он вошел и через пять минут вышел с мешком денет, весьма тяжелым.
– Я это знаю.
– От дверей господина кардинала он прошел пешком к дверям соседнего дома.








