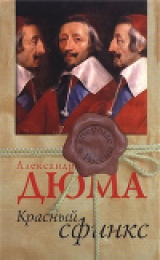
Текст книги "Красный сфинкс"
Автор книги: Александр Дюма
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 41 страниц)
– К чьим дверям? – с живостью спросил король.
– К дверям мадемуазель Делорм.
– К дверям мадемуазель Делорм!.. И он вошел к мадемуазель Делорм?
– Нет, государь, он только постучал в дверь; открыл Лакей, и господин Барада передал ему письмо.
– Письмо!
– Да, государь. Передан письмо, он сел в портшез и велел доставить себя обратно в Лувр. Сегодня утром он снова вышел…
– Да; велел доставить себя к Лопесу, купил там драгоценности и оттуда… куда он направился оттуда?
– Он вернулся в Лувр, государь, заказав портшез на всю ночь.
– У вас есть еще что мне рассказать?
– О ком, государь?
– О господине Барада.
– Нет, государь.
– Хорошо, ступайте.
– Но, государь, мне надо было рассказать вам о госпоже де Фаржи.
– Ступайте.
– О господине де Марийяке.
– Ступайте.
– О Месье.
– Того, что я знаю, мне достаточно; ступайте.
– О раненом Этьенне Латиле, который велел перевезти себя к господину кардиналу в Шайо.
– Мне это безразлично; ступайте.
– В таком случае, государь, я удаляюсь.
– Удаляйтесь.
– Могу ли я, уходя, унести с собой надежду, что король доволен мною?
– Слишком доволен!
Сукарьер поклонился и, пятясь, вышел.
Король, не ожидая, пока он скроется, дважды ударил в звонок.
Поспешно вошел Шарпантье.
– Господин Шарпантье, – сказал король, – когда господину кардиналу нужна была мадемуазель Делорм, как он вызывал ее?
– Это очень просто, – отвечал Шарпантье.
Он привел в действие пружину и, когда потайная дверь отворилась, потянул за ручку звонка, находившегося между двумя дверями, и, обернувшись к королю, сказал:
– Если мадемуазель Делорм у себя, она сию минуту появится, должен ли я закрыть эту дверь?
– Не надо.
– Вашему величеству угодно быть одному или вы желаете, чтобы я остался?
– Оставьте меня одного.
Шарпантье удалился. Что касается Людовика XIII, то он в нетерпении застыл перед тайным ходом.
Через несколько секунд послышались легкие шаги; но как ни легки они были, напряженное ухо короля их уловило.
– Ах, наконец-то я узнаю, правда ли это, – сказал он. Едва он договорил, как дверь отворилась и Марион, одетая в голубое атласное платье, с простой ниткой жемчуга на шее и волной черных кудрей, падающих на округлые белые плечи, появилась во всем расцвете своей восемнадцатилетней красоты.
Людовик XIII, хоть и маловосприимчивый к женской красоте, в ослеплении отступил.
Марион вошла, сделала очаровательный реверанс, в котором почтение было искусно соединено с кокетством, и, опустив глаза, скромная, как пансионерка, сказала:
– Я не надеялась, что буду иметь честь предстать перед моим королем, но он позвал меня; мне надлежит слушать его коленопреклоненно и получать приказания, распростершись у его ног.
Король пробормотал несколько бессвязных слов, давших Марион время насладиться одержанным триумфом.
– Невозможно, – сказал король, – невозможно; я обманываюсь или меня обманывают, но вы не мадемуазель Марион Делорм.
– Увы, государь, я всего-навсего Марион!
– Но если вы Марион, – продолжал король, – вы должны были получить вчера письмо.
– Я получаю их много каждый день, государь, – сказала куртизанка, смеясь.
– Это письмо принесли вам между пятью и шестью часами.
– Между пятью и шестью часами, государь, я получила четырнадцать писем.
– Вы их сохранили?
– Двенадцать из них я сожгла. Тринадцатое храню на сердце. А четырнадцатое – вот оно.
– Это его почерк! – воскликнул король.
Он быстро выхватил письмо у нее из рук.
Затем, рассмотрев его со всех сторон, сказал:
– Оно даже не распечатано.
– Оно от кого – то из людей, близких к королю; зная, что, может быть, сегодня буду иметь высшее счастье увидеть короля, я сочла долгом передать это письмо его величеству таким, как его получила.
Король с удивлением взглянул на Марион, потом с досадой – на письмо.
– Ах, – сказал он, – хотел бы я знать, что в нем написано.
– Для этого есть одно средство, государь: распечатать его.
– Если бы я был начальником полиции, – сказал Людовик XIII, – я бы это сделал; но я король.
Марион тихонько взяла письмо у него из рук.
– Но раз оно адресовано мне, я могу его распечатать.
И, распечатав, она вернула письмо королю.
Людовик XIII еще мгновение колебался, но дурные чувства, подсказанные любящим сердцем, победили эфемерный порыв деликатности. Он стал читать вполголоса, понижая тон, по мере того как углублялся в чтение.
Мы должны признать, что содержание письма отнюдь не могло вернуть Людовику XIII хорошего настроения (выражение его, впрочем, если я появлялось у него на лице, никогда не задерживалось там дольше, чем на несколько минут).
Вот это письмо:
«Прекрасная Марион,
мне двадцать лет, уже несколько женщин были так добры, что не только назвали меня красивым малым, но и дали мне убедительные доказательства этого своего мнения. Кроме того, я любимый фаворит короля Людовика XIII; он при всей своей скупости только что сделал мне (не знаю, что на него нашло) подарок в три тысячи пистолей. Мой друг Сен-Симон уверяет меня, что Вы не только самая красивая, но и самая лучшая девушка на свете. Так вот, речь идет о том, чтобы мы вдвоем с Вами прокутили за месяц тридцать тысяч ливров, что подарил мне мой дурак-король. Истратим десять тысяч ливров на платья и драгоценности, десять тысяч ливров на лошадей и кареты, а последние десять тысяч на балы и игру. Подходит Вам это предложение? Скажите „да“, и я прибегу вместе со своим мешком. Если оно Вам не нравится, ответьте „нет“ и я, привязав свой мешок на шею, брошусь в реку.
Вы скажете „да“, не правда ли? Ведь Вы не захотите довести до смерти бедного юношу, виновного в единственном преступлении – в том, что без памяти полюбил Вас, ни разу не имен чести Вас видеть.
В ожидании завтрашнего вечера мы – мой мешок и я – пребываем у Ваших ног.
Всецело преданный Вам, Барада».
Последние строчки Людовик прочел дрожащим голосом; если чтение их и можно было расслышать, то понять бы не удалось.
Прочтя последние слова, он уронил руку с письмом на колени.
Его лицо стало мертвенно-бледным, глаза с выражением глубокого отчаяния были устремлены к небу, и, подобно Цезарю, который не ощущал, казалось, кинжальных ударов других заговорщиков, но, почувствовав удар единственно дорогой ему руки, вскричал: «Tu quoque, Brutus!» (Ты тоже, Брут), Людовик XIII жалобно воскликнул:
– И ты тоже, Барада!
Не глядя больше на Марион Делорм, словно не замечая, что она здесь, король набросил на плечи плащ, не застегивая его, надел шляпу, ударом ладони надвинув ее на глаза, быстро спустился по лестнице, бросился в карету, дверцу которой лакей держал открытой, и крикнул кучеру:
– В Шайо!
Что касается Марион, то она после этого странного ухода Людовика подбежала к окну и, отодвинув занавески, видела, как король устремился в карету. Когда экипаж скрылся, она мгновение постояла неподвижно, потом с присущей только ей лукавой и насмешливой улыбкой произнесла:
– Решительно, мне лучше было появиться в костюме пажа.
XVI. КАК УДАЛОСЬ ВСТРЕТИТЬСЯ ЛАТИЛЮ И МАРКИЗУ ПИЗАНИ
Мы уже говорили, что кардинал удалился в свой загородный дом в Шайо, оставив дом на Королевской площади, то есть свое министерство, Людовику XIII.
Слух об отставке кардинала быстро распространился по Парижу, и г-жа де Фаржи во время свидания, назначенного ею в «Крашеной бороде» хранителю печатей Марийяку сообщила ему эту важную новость.
Эта важная новость вскоре вышла за пределы комнаты, где ее произнесли, и спустилась к г-же Солей, с помощью г-жи Солей достигла ее супруга, а тот принес ее Этьенну Латилю, который всего три дня назад покинул постель и начал прогуливаться по комнате, опираясь на шпагу.
Метр Солей предлагал ему свою собственную трость из прекрасного камыша с агатовым набалдашником, напоминавшим перстень бастарда Мударрата; но Латиль отказался, считая, что недостойно воина опираться на что-либо, кроме своего оружия.
При известии об отставке Ришелье он резко остановился, оперся обеими руками на эфес своей рапиры и, пристально глядя на метра Солея, спросил:
– Верно ли, то, что вы говорите?
– Верно, как Евангелие.
– От кого вы узнали эту новость?
– От одной придворной дамы.
Этьенн Латиль достаточно хорошо знал гостиницу, которую ему пришлось из-за происшедшего с ним несчастного случая избрать своим жилищем; ему было известно, что в ней под видом посетителей бывают люди самого разного общественного положения.
Задумчиво сделав два-три шага, он вернулся к метру Солею.
– Но теперь, когда он больше не министр, что вы думаете о личной безопасности господина кардинала?
Метр Солей покачал головой и проворчал что-то похожее на ругательство, а затем сказал:
– Я думаю, что если он не взял с собой своих телохранителей, то ему неплохо бы носить под мантией кирасу, как в Ла-Рошели он носил ее сверху.
– Вы думаете, – спросил Латиль, – что это единственная угрожающая ему опасность?
– Что касается пищи, – задумчиво произнес Солей, – то я думаю, что его племянница госпожа де Комбале приняла разумную меру предосторожности – найти человека, пробующего блюда до него.
Его широкое лицо расплылось в сытой улыбке.
– Только где найти такого человека?
– Он найден, метр Солей, – сказал Латиль, – возьмите для меня портшез.
– Как? – вскричал метр Солей. – Вы собираетесь выйти, совершить такую неосторожность? – да, я совершу эту неосторожность, мой хозяин, а поскольку я не скрываю от себя, что это неосторожность и что она может стоить мне жизни, уладим наши маленькие расчеты, чтобы в случае моей смерти вы ничего не потеряли. Три недели болезни, девять кувшинов травяного отвара, две кружки вина и неустанные заботы госпожи Солей, сами по себе бесценные, – достаточно будет за все это двадцати пистолей?
– Заметьте, господин Латиль, что я с вас ничего не спрашиваю и что мне было достаточно чести принимать вас, кормить…
– О, кормить-то меня было нетрудно!
– … и утолять вашу жажду. Но если вы непременно хотите отсчитать мне двадцать пистолей в знак вашего удовлетворения…
– … то ты от них не откажешься, правда?
– Боже меня упаси нанести вам такое оскорбление!
– Позови мне портшез, пока я отсчитаю твои двадцать пистолей.
Метр Солей поклонился и вышел; почти сразу вернувшись, он подошел прямо к столу, где были разложены двести ливров, влекомый тем естественным притяжением, что существует между деньгами и трактирщиками, взглядом сосчитал деньги с точностью, присущей определенным профессиям, и, убедившись, что двести ливров наличествуют до последнего денье, сказал:
– Ваш портшез готов, сударь.
Латиль водворил в ножны положенную на стол шпагу и повелительным жестом пригласил метра Солея подойти поближе.
– Хочу опереться о твою руку, – сказал он.
– Дать вам руку, чтобы вы покинули мой дом? Я делаю это с большим сожалением, дорогой господин Этьенн; пойдемте.
– Солей, друг мой, – сказал Латиль, – я с еще большим сожалением увидел бы малейшее облачко на твоей сияющей физиономии, поэтому обещаю, что первый мой визит по возвращении будет к тебе, особенно если ты сбережешь для меня кувшин этого куланжского винца, с которым я рад был познакомиться два дня назад и которое покидаю, сожалея, что не узнал его поближе.
– У меня есть бочка этого вина на триста кувшинов, господин Латиль; я сохраню ее для вас.
– По три кувшина в день этого хватит на три месяца. Вы можете быть уверены, метр Солей, что я три месяца буду вашим постояльцем, если, конечно, мои средства мне это позволят.
– Что ж, вам будет открыт кредит. Человек, насчитывающий среди своих друзей господина де Море, господина де Монморанси, господина де Ришелье, то есть королевского сына, принца и кардинала…
Латиль покачал головой.
– Иметь другом хорошего откупщика было бы не столь почетно, но более надежно, дорогой Солей, – наставительно произнес Латиль, садясь в портшез.
– Куда велеть носильщикам доставить вас, мой гость?
– В особняк Монморанси, где я должен прежде всего выполнить свой долг, затем в Шайо.
– В особняк монсеньера герцога де Монморанси! – крикнул Солей так, что это приказание было слышно и на улице Белых Плащей, и на улице Сент-Круа-де-ла-Бретонри.
Носильщики не заставили повторять и двинулись ровным, упругим шагом: метр Солей предупредил, что надо щадить клиента, оправляющегося от долгой и тяжелой болезни.
Портшез остановился у дверей особняка герцога. На пороге стоял швейцар в парадной ливрее, с тростью в руке.
Латиль знаком подозвал его. Швейцар подошел.
– Друг мой, – сказал Латиль, – вот полпистоля, будьте добры мне ответить.
Швейцар снял шляпу, что, видимо, означало ответ.
– Я раненый дворянин; господин граф де Море оказал мне честь, навестив меня во время моей болезни, и я пообещал ему отдать визит, как только окажусь на ногах. Сегодня я впервые вышел и выполняю свое обещание. Могу я иметь честь быть принятым господином графом?
– Господин граф де Море, – ответил швейцар, – покинул этот дом пять дней назад, и никто не знает, где он находится.
– Даже монсеньер?
– Монсеньер уехал вчера в свое лангедокское губернаторство.
– Мне не везет, но я сдержал обещание, данное господину графу; это все, чего можно требовать от человека чести.
– Однако, – сказал швейцар, – господин граф де Море, покидая особняк, передал через пажа Галюара, который его сопровождает, и специально вернулся, чтобы подтвердить слова графа, поручение, возможно касающееся вашей милости.
– Какое же?
– Он сказал, что, если к нему явится дворянин по имени Этьенн Латиль, ему следует предложить пищу и кров, относясь к нему как к человеку облеченному доверием графа и принадлежащему к его дому.
Латиль снял шляпу перед отсутствующим графом де Море.
– Господин граф де Море, – сказал он, – показал себя достойным сыном Генриха Четвертого. Действительно, я этот дворянин и по его возвращении буду иметь честь выразить ему мою признательность и предложить мои услуги. Вот, друг мой, вторые полпистоля за удовольствие, какое вы мне доставили, сообщив, что господин граф де Море соблаговолил подумать обо мне. Носильщики, в Шайо, в дом господина кардинала!
Носильщики снова взялись за ручки портшеза и тем же шагом отправились в путь по улице Симон-ле-Франк, улице Мобюе, улице Трусваш, чтобы через улицу Железного ряда выйти на улицу Сент-Оноре.
Случаю было угодно, чтобы в ту самую минуту, когда Латиль у дверей особняка Монморанси приказал носильщикам нести его в Шайо, – случаю, повторяем, было угодно, чтобы маркиз Пизани (важные события, о каких мы рассказывали, заставили нас потерять его из вида), достаточно оправившийся от нанесенного Сукарьером удара шпагой, впервые выйдя из дому, решил использовать этот первый выход – принести извинения графу де Море. Он тоже сел в портшез, приказал носильщикам идти со всей возможной осторожностью, поскольку в портшезе больной, и закончил распоряжения словами: «В особняк Монморанси!»
Носильщики, отправившиеся из особняка Рамбуйе, естественно, спустились по улице Сен-Тома-дю-Лувр и пошли вверх по улице Сент-Оноре, чтобы выйти на улицу Железного ряда.
В результате этих маневров оба портшеза встретились напротив улицы Сухого Дерева; при этом маркиз Пизани, решавший трудную задачу – как он будет приветствовать графа де Море, о чьем отсутствии ему не было известно, – не узнал Этьенна Латиля, в то время как Этьени Латвль, не занятый никакими размышлениями, узнал маркиза Пизани.
Легко представить воздействие этой встречи на вспыльчивого бретёра.
Он велел своим носильщикам остановиться и, высунув голову в открытое окошко, крикнул:
– Эй, господин Горбун!
Вероятно, со стороны маркиза Пизани было бы умнее не заметить, что обращение относится к нему; но он настолько ощущал свое уродство, что первым его движением было тоже высунуть голову из-за занавески портшеза, чтобы посмотреть, кто это, обращаясь к нему, называет физический недостаток, а не титул.
– Что вам угодно? – спросил маркиз, тоже сделав своим носильщикам знак остановиться.
– Мне угодно, чтобы вы соблаговолили подождать меня одну минуту Я должен уладить с вами старые счеты, – резко ответил Латиль и обратился к своим носильщикам:
– Ну-ка быстро перенесите мой портшез к портшезу этого дворянина так, чтобы дверцы приходились точно напротив друг друга.
Носильщики взялись за ручки и перенесли портшез Латиля в указанное место.
– Так хорошо, хозяин? – спросили они.
– Да, отлично, – сказал Латиль. – Ага!
Последнее восклицание выражало радость бретёра от встречи лицом к лицу с неизвестным маркизом, о ком он не знал ничего, кроме титула, угаданного им по показанному кольцу. Теперь и Пизани узнал Латиля.
– Вперед! – крикнул он своим носильщикам. – У меня нет никаких дел с этим человеком.
– Да, но, к несчастью, у этого человека есть дело к вам, мой милый. Эй вы, не шевелитесь! – крикнул он носильщикам другого портшеза, похоже собиравшимся выполнить приказ. – Не шевелитесь, или, черт возьми, как говорил король Генрих Четвертый, я вам обрежу уши!
Носильщики, поднявшие было портшез, поставили его обратно на мостовую.
Привлеченные шумом прохожие начали собираться вокруг двух портшезов.
– А я, если вы не пойдете, велю своим людям отколотить вас палками!
Носильщики маркиза покачали головами.
– Лучше уж удары палок, чем отрезанные уши, – сказали они.
И, вынув из пазов ручки портшеза, добавили:
– А впрочем, если ваши люди придут с палками, у нас будет чем ответить.
– Браво, друзья мои! – сказал Латиль, видя, что удача на его стороне. – Вот четыре пистоля, выпейте за мое здоровье. Я могу назвать вам мое имя, меня зовут Этьенн Латиль; предлагаю вашему горбатому маркизу назвать свое.
– Ах, негодяй! – воскликнул Пизани. – Так тебе не достаточно было двух ударов шпаги, полученных от меня?
– Достаточно, – сказал Латиль, – и даже слишком. Поэтому я непременно хочу один вернуть вам.
– Ты злоупотребляешь тем, что я еще не стою на ногах.
– Ба, в самом деле? – спросил Латиль. – Тогда силы равны. Мы будем драться сидя. Защищайтесь, маркиз. У вас нет здесь трех ваших телохранителей, и я не боюсь получить от вас удар шпаги в спину.
И Латиль вынул шпагу и поднял ее острие на уровень глаз своего противника.
Отступать было некуда. Портшезы были окружены любопытными. К тому же, как мы говорили, маркиз Пизани был храбр; он тоже вынул свою шпагу. Зрители не видели самих сражающихся, ибо открыты были лишь дверцы, приходившиеся друг против друга. Видны были только клинки: они появлялись из дверец, скрещивались и по всем правилам искусства нападали, делая финты, парировали ответными ударами, яростно погружались внутрь то одного, то другого портшеза.
Наконец, после борьбы, доставлявшей большое удовольствие зрителям и длившейся около пяти минут, из одного портшеза послышался крик, который вернее было бы назвать богохульством.
Латиль пригвоздил руку соперника к остову портшеза.
– Ну вот, – сказал Этьенн Латиль, – примите пока это как задаток, мой прекрасный маркиз, и не забудьте, что всякий раз, встречая вас, я буду делать то же.
Латиль выглядел неплохо; он доказал свою щедрость, бросив четыре пистоля на мостовую.
Маркиз Пизани был побежден и уродлив, к тому же он не дал ни одного пистоля.
Он все равно оказался бы не прав, если бы обратился к суду присутствующих.
Он принял решение.
– В особняк Рамбуйе, – сказал Пизани.
– В Шайо, – сказал Этьенн Латиль.
XVII. КАРДИНАЛ В ШАЙО
Прибыв в Шайо, кардинал ощутил себя примерно в таком же положении, как Атлас, уставший держать мир и переложивший его ненадолго на плечи своего приятеля Геркулеса.
Он смог перевести дух.
– Ах, – прошептал он, – я смогу сколько угодно писать стихи!
И в самом деле, Шайо было убежищем, где кардинал отдыхал от политики, занимаясь (мы не рискуем сказать «поэзией») сочинением стихов.
Расположенный в нижнем этаже кабинет, дверь которого выходила в великолепный сад с липовой аллеей, тенистой и прохладной даже в самые жаркие летние дни, был святилищем, куда он скрывался на день или на два в месяц.
В этот раз он пришел просить у него отдыха и забвения на какое время, он этого не знал.
Первой мыслью его, когда он вошел в этот поэтический оазис, было послать за своими обычными сотрудниками – теми, кому он, точно генерал войскам, распределял работу в той великой битве мысли, что полным ходом шла в Испании, затихала, умирая, в Италии, только недавно с Шекспиром угасла в Англии и должна была с Ротру и Корнелем начаться во Франции.
Но его остановила мысль, что это уже не прежний дом в Шайо, что он уже не могущественный министр, раздающий награды, а всего лишь частное лицо, к тому же отныне обладающее невыгодным свойством компрометировать людей своей дружбой. И он решил ждать, пока старые друзья приедут к нему, но приедут без зова.
Он достал из папок план новой трагедии под названием «Мирам», что была не чем иным, как местью царствующей королеве; некоторые сцены трагедии были уже набросаны.
Кардинал де Ришелье, достаточно плохой католик, не был достаточно хорошим христианином, чтобы забывать оскорбления. Глубоко задетый этой таинственной и незаслуженной интригой, приведшей к его отставке, – интригой, в которой он считал королеву Анну одним из главных действующих лиц, – он утешался мыслью отплатить ей за зло, что она ему причинила.
Нам крайне неприятно рассказывать о тайных слабостях великого министра, но мы пишем его историю, а не панегирик ему.
Первый знак симпатии пришел к нему с той стороны, откуда он вовсе не ждал. Его камердинер Гийемо доложил, что у дверей остановился портшез, из него вышел человек, по – видимому еще не вполне оправившийся после серьезной болезни или тяжелого ранения; держась за стены, он вошел в переднюю и сел на скамью со словами:
– Мое место здесь.
Носильщики, получив плату, удалились тем же шагом, каким пришли.
На прибывшем была фетровая шляпа слегка изогнутых очертаний, плащ цвета испанского табака и скорее военный, чем цивильный костюм; на перевязи была шпага, подобную которой можно было встретить лишь на рисунках Калло, входивших тогда в моду.
Его спросили, как доложить о нем господину кардиналу. Он ответил:
– Я ничего не значу, так что ни о ком не докладывайте.
Тогда его спросили, что он собирается здесь делать; он ответил просто:
– У господина кардинала больше нет телохранителей, я прибыл, чтобы заботиться о его безопасности.
Ситуация показалась Гийемо достаточно своеобразной, и он, вместо того чтобы доложить г-же де Комбале и предупредить господина кардинала, поступил наоборот: предупредил г-жу де Комбале и доложил господину кардиналу.
Кардинал велел привести к нему этого таинственного защитника.
Пять минут спустя дверь отворилась и на пороге появился Этьенн Латиль – бледный, вынужденный опереться о косяк, со шляпой в правой руке и с левой рукой на эфесе шпаги.
Опытный физиономист, обладающий превосходной памятью на лица, Ришелье узнал его с первого взгляда.
– Ах, это вы, дорогой Латиль? – сказал он.
– Я самый, ваше высокопреосвященство.
– Вам, кажется, стало лучше?
– Да, монсеньер, и я пользуюсь своим выздоровлением, чтобы предложить вам мои услуги.
– Благодарю, благодарю, – улыбаясь, сказал кардинал, – но у меня нет никого, с кем бы я хотел разделаться.
– Возможно, – согласился Латиль, – но разве нет людей, которые хотели бы разделаться с вами?
– А вот это более чем вероятно, – ответил кардинал.
В эту минуту из боковой двери появилась г-жа де Комбале; она перевела беспокойный взгляд с дяди на неизвестного искателя приключений, стоящего у двери.
– Вот, Мария, – сказал ей кардинал, – будьте, как и я, признательны этому славному малому, первому, кто явился в моей опале предложить мне услуги.
– О, я буду не последним, – сказал Латиль, – просто я был не прочь опередить других.
– Дядя, – сказала г-жа де Комбале, окинув Латиля быстрым сочувственным взглядом, присущим только женщинам, – он очень бледен и, по-моему, очень слаб.
– Тем похвальнее для него. Я знаю от моего врача, время от времени навещающего его, что он всего неделю как вне опасности и лишь три для как встал с постели. Тем похвальнее для него было, повторяю, побеспокоиться ради меня.
– Ах! – воскликнула г-жа де Комбале. – Не тот ли это господин, что едва не погиб при стычке в гостинице «Крашеная борода»?
– Вы очень добры, прекрасная дама; это действительно была ловушка. Но я только что встретил его, проклятого горбуна, и отправил его домой с хорошим ударом шпаги в руку.
– Маркиза Пизани? – воскликнула г-жа де Комбале. – Несчастному не везет. Еще неделю назад он лежал в постели из-за раны, полученной в тот же вечер, когда вас едва не убили.
– Маркиз Пизани? Маркиз Пизани? – переспросил Латиль. Я не прочь узнать его имя. Так вот почему он сказал своим носильщикам: «Особняк Рамбуйе», тогда как я сказал своим: «В Шайо». Особняк Рамбуйе, я запомню этот адрес.
– Но каким образом вы дрались? – спросил кардинал. – Вы же оба едва держитесь на ногах!
– Мы дрались сидя в наших портшезах, монсеньер. Это очень удобно, когда человек болен.
– И вы явились рассказывать это мне после изданных мною эдиктов о дуэлях! Правда, – добавил кардинал, я больше не министр, а раз я не министр, то с этой благой мерой будет то же, что и с другими, какие я пытался ввести: через год все исчезнет!..
Кардинал тяжело вздохнул, и было ясно, что он еще не настолько отрешился от дел этого мира, как хочет показать.
– Но вы говорите, дорогой дядя, – спросила г-жа де Комбале, – что господин Латиль – ведь вас, по-моему, зовут Латиль? – явился предложить вам свои услуги; какого же рода эти услуги, сударь?
Латиль показал на свою шпагу.
– Услуги одновременно наступательные и оборонительные, сказал он. У господина кардинала нет больше ни капитана телохранителей, ни самих телохранителей; вот я и буду для него всем этим.
– Как это нет капитана телохранителей? – раздался за спиной Латиля женский голос. – Мне кажется, что у него по-прежнему есть его Кавуа, который и мой Кавуа тоже!
– А, по-моему, я знаю этот голос, – сказал кардинал. – Идите сюда, дорогая госпожа Кавуа, идите же.
Проворная и кокетливая женщина, хотя ей было уже не меньше тридцати, и первоначальные ее формы начинали исчезать под заметной полнотой, быстро проскользнула между Латилем и дверным косяком, противоположным тому, на который он опирался, и предстала перед кардиналом и г-жой де Комбале.
– Ну вот, – сказала она, потирая руки, – вы и избавились от вашего ужасного министерства и от беспокойства, что оно нам причиняло.
– Как это «нам» причиняло? – переспросил кардинал. – Мое министерство вам причиняло беспокойство, вам тоже, любезная госпожа?
– Ах, я думаю! Я из-за него не спала ни днем, ни ночью. Я все время боялась, что с вашим высокопреосвященством случится какое-нибудь несчастье, и мой бедный Кавуа окажется замешанным в нем. Днем я думала об этом и вздрагивала при малейшем шуме. Ночью это мне снилось, и я внезапно просыпалась. Вы не можете себе представить, какие скверные сны снятся женщине, когда она спит одна.
– Но господин Кавуа?.. – спросила со смехом г-жа де Комбале.
– Спит ли он со мной, не так ли? Бедный Кавуа! Благодарение Богу в недостатке старания его не обвинишь; за девять лет у нас было десять детей – доказательство, что он не очень-то впадал в спячку. Но, чем дальше, тем дела шли все хуже. Господин кардинал увез его на осаду Ла-Рошели, где он пробыл восемь месяцев! По счастью, когда он уезжал, я была беременна, так что время для него не оказалось потерянным. Но господин кардинал собирался увезти его в Италию, сударыня. Вы понимаете? И Бог знает, на сколько времени! Но я так молилась, что, думаю, Господь ради меня совершил чудо и благодаря моим молитвам господин кардинал потерял свое место.
– Спасибо, госпожа Кавуа! – рассмеялся кардинал.
– Да, спасибо, обратилась к ней г-жа де Комбале, – в самом деле, дорогая госпожа Кавуа, Господь явил великую милость, вернув вам мужа, а мне дядю.
– О, – заметила г-жа Кавуа, – муж и дядя – это не одно и то же.
– Но, – сказал кардинал, – если Кавуа не последует за мной, он последует за королем.
– Куда это? Куда это? – спросила г-жа Кавуа.
– Да в Италию же!
– Чтобы он теперь отправился в Италию? Ах, вы его еще не знаете, господин кардинал. Чтобы он меня покинул? Чтобы он расстался со своей женушкой? Никогда!
– Но покидал же он вас, расставался с вами ради меня?
– Ради вас – да. Потому что, не знаю уж, что вы с ним сделали, но он словно околдован вами. Он не очень-то умен, бедняга, и, если бы него не было меня, чтобы вести дом и воспитывать детей, не знаю, как бы он выкрутился. Но расстаться со своей женой для кого-то кроме вас! Гневить Бога, ложась спать с ней от случая к случаю! Никогда!
– Однако долг службы?
– Какой службы?
– Покидая мою службу, Кавуа переходит на службу к королю.
– Да, как бы не так! Покидая вашу службу, монсеньер, Кавуа переходит на службу ко мне. Я весьма надеюсь, что в эту минуту он вручает его величеству прошение об отставке.
– Значит, он сказал вам, что собирается это сделать? – спросила г-жа де Комбале.
– А разве ему надо говорить мне, что он собирается сделать? Разве я не знаю этого заранее? Разве я не вижу его насквозь, словно он хрустальный? Если я вам говорю, что он это сейчас сделал, значит, так и есть!
– Но, дорогая госпожа Кавуа, – сказал кардинал, – место капитана телохранителей давало шесть тысяч ливров в год. Этих шести тысяч ливров будет не хватать в вашем маленьком хозяйстве, а я как частное лицо не могу, естественно, иметь капитана телохранителей с окладом в шесть тысяч ливров. Подумайте о ваших восьми детях.
– Вот как! А разве вы этого не предвидели? А привилегия на портшезы, дающая не меньше двенадцати тысяч ливров в год, разве не лучше места, которое король отнимает и дает по своему капризу? Наши дети? Благодарение Богу с ними все в полном порядке, и вы сейчас увидите, страдают ли они. Входите, маленькие, входите все!
– Как, ваши дети здесь?
– Кроме последнего, родившегося во время осады Ла-Рошели; он еще мал, ему только пять месяцев. Но он поручил присутствовать вместо себя тому, кто должен родиться.
– Как, вы уже беременны, милая госпожа Кавуа?
– Поистине чудо! Ведь мой муж вернулся примерно месяц назад. Входите все, входите все! Господин кардинал позволяет.
– Да, позволяю, но в то же время позволяю, вернее, приказываю Латилю сесть. Вот кресло, садитесь, Латиль!
Латиль безмолвно повиновался. Если б он простоял еще минуту, ему стало бы плохо.
Тем временем вошло все потомство четы Кавуа, выстроившись по росту; впереди был старший, красивый девятилетний мальчик, потом девочка, потом еще мальчик, потом еще девочка и так до последнего ребенка, которому было два года.
Став по ранжиру перед кардиналом, они напоминали трубки флейты Пана.
– Ну вот, дети, – сказала г-жа Кавуа, – это человек, Кому мы обязаны всем – вы, ваш отец и я. Станьте на колени перед ним и поблагодарите его.








