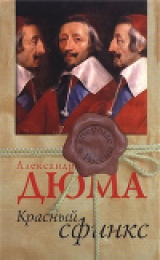
Текст книги "Красный сфинкс"
Автор книги: Александр Дюма
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 41 страниц)
IV. СОВЕТЫ Л’АНЖЕЛИ
Король Людовик XIII вначале, как мы видели, был оскорблен дерзостью своего фаворита, который вырвал у него из рук флакон с померанцевой водой, предложенный ем чтобы он подушился, и бросил его на пол; но едва он увидел, что из раны, нанесенной г-ном де Бассомпьером, течет драгоценная кровь его любимца, как весь его гнев обратился в страдание; он опрометью бросился к пажу, вытащил у него из плеча застрявшую там шпиговальную иглу и, несмотря на сопротивление Барада, сопротивление, порожденное не почтением, а страхом, – хотел, ссылаясь на свои познания в медицине, сам перевязать ему рану.
Но доброта Людовика XIII по отношению к своему фавориту – доброта или скорее слабость, напоминавшая ту, что испытывал Генрих III к своим миньонам, – превратила Барада в испорченного ребенка.
Он отталкивал короля, отталкивал всех, заявляя, что не забудет нанесенного ему оскорбления и участия, какое принял король в этом оскорблении; он будет удовлетворен лишь в том случае, если маршала де Бассомпьера посадят в Бастилию либо король разрешит публичную дуэль вроде той, что прославила царствование Генриха II и окончилась смертью де Ла Шатеньре.
Король пытался его успокоить; однако Барада простил бы удар шпагой – более того, удар шпагой, полученный от маршала де Бассомпьера, вызвал бы у него известную гордость, – но он не мог простить удара шпиговальной иглой. Все было бесполезно, ультиматум раненого оставался прежним: дуэль по закону в присутствии короля и всего двора либо заточение маршала в Бастилию.
С этим Барада удалился в свою комнату не менее величественно, чем Ахилл в свой шатер, после того как Агамемнон отказался вернуть ему прекрасную Брисеиду.
Это происшествие вызвало некоторое замешательство у шпиговальщиков и даже у тех, кто не шпиговал. Герцог де Гиз и герцог Ангулемский первыми решили, что они лишние в этой семейной сцене; надев шляпы, они направились к двери и вышли вместе.
Когда они переступили порог и дверь за ними затворилась, герцог де Гиз остановился и, глядя на герцога Ангулемского, спросил:
– Ну, что вы об этом скажете?
Герцог пожал плечами:
– Скажу, что мой бедный, столь оклеветанный король Генрих Третий, в конечном счете, не был в таком отчаянии из-за смерти Келюса, Шомберга и Можирона, как наш добрый король Людовик Тринадцатый из-за царапины господина Барада.
– Возможно ли, чтобы сын так мало походил на отца, – пробормотал герцог де Гиз, покосившись на дверь, словно хотел сквозь нее увидеть, что происходит в комнате, откуда они вышли. – должен по чести признаться, что мне больше нравился король Генрих Четвертый, хоть в глубине души он и остался гугенотом.
– Ну, вы так говорите, потому что Генрих Четвертый умер; при жизни вы его терпеть не могли.
– Он причинил достаточно зла нашей семье, и нам не с чего быть в числе его лучших друзей.
– Это я допускаю, – сказал герцог Ангулемский, – но чего я не могу допустить, так это непременного сходства, какое вы пытаетесь найти между детьми и мужьями их матерей; знаете ли вы, что далеко не всем дано им наслаждаться? Да начнем хотя бы с вас, дорогой мой герцог, – и герцог Ангулемский ласково оперся об руку собеседника, ставя ногу на ступеньку лестницы, – если начать с вас, то я, имевший честь знать мужа вашей матушки и имеющий счастье знать вас, отважусь сказать разумеется, без малейшего злословия, – что между вами и ним нет ни малейшего сходства.
– Дорогой герцог, дорогой герцог! – пробормотал г-н де Гиз, не зная, а вернее, слишком хорошо зная, куда может завести его такой насмешливый собеседник, как герцог Ангулемский, если он будет продолжать.
– Нет, нет, – настаивал тот с добродушным видом; он так превосходно умел его на себя напускать, что никогда нельзя было понять, насмехается он или говорит серьезно, – ни малейшего, и это видно, черт побери! Мы все, исключая вас, помним вашего бедного покойного отца. Он был высок ростом – вы нет; у него был орлиный нос – у вас курносый; у него были черные глаза – у вас серые.
– Почему бы вам не сказать еще, что у него на щеке был шрам, а у меня нет?
– Потому что у вас не может быть того, что можно получить только на войне – вы же огня не видели.
– Как это я не видел огня? – воскликнул герцог де Гиз. – А в Ла-Рошели?
– Да, правда, я и забыл: огонь охватил ваш корабль!
– Герцог, – сказал г-н де Гиз, высвобождая свою руку из руки герцога Ангулемского, – мне кажется, что вы в плохом настроении и будет лучше, если мы расстанемся.
– Я в плохом настроении? Что я вам такого сказал? Надеюсь, ничего неприятного, а если и сказал, то ненамеренно. Люди бывают похожи на кого угодно, вы понимаете, это дело случая. Разве я, например, похож на моего отца Карла Девятого, рыжеволосого и краснолицего? Не стоит из-за этого огорчаться; любой человек на кого-нибудь похож. Вот хоть наш король, например: он похож на кузена королевы-матери, приехавшего вместе с ней во Францию, на герцога Браччано, вы его помните? Да, да, на Вирджинио Орсини. А Месье, в свою очередь, похож на маршала д’Анкра как две капли воды; а знаете, на кого вы сами похожи?
– Нет, и это меня ничуть не заботит.
– Правда, вы не могли его знать, ибо он был убит вашим дядей де Майенном за полгода до вашего рождения. Так вот, вы до удивления похожи на господина графа де Сен-Мегрена. Разве вам об этом не говорили?
– Говорили, причем меня это сердило, предупреждаю вас, дорогой герцог.
– Потому что вам это говорили по злобе, а не так бесхитростно, как я. Разве я сердился недавно, когда господин де Бассомпьер сказал, что я делаю фальшивые деньги? Но вы в плохом настроении – вы, а не я, – поэтому я вас покидаю.
– И думаю, хорошо делаете, – сказал г-н де Гиз, направляясь к улице Сухого дерева, ведущей на улице Сент-Оноре.
Ускорив шаги, он поспешил удалиться от своего язвительного собеседника; тот постоял с минуту на месте с удивленным видом человека, не понимающего, откуда берется у других обидчивость, если сам он (ставя себе это в заслугу) ею не обладает.
Затем он направился к Новому мосту, надеясь найти в этом людном месте какую-нибудь другую жертву для маленькой пытки, начатой им над герцогом де Гизом.
Тем временем другие придворные мало-помалу скрылись, и король остался наедине с л’Анжели.
Тот, не желая упускать такой прекрасный случай разыграть свою шутовскую роль, встал перед королем (тот сидел, печально опустив голову и глядя в пол).
– Ох! – произнес л’Анжели и тяжело вздохнул.
Людовик поднял голову.
– Ну? – спросил он тоном человека, ждущего, что собеседник будет одного с ним мнения.
– Ну? – повторил л’Анжели таким же жалобным тоном.
– Что ты скажешь о господине де Бассомпьере?
– Скажу, – отвечал л’Анжели, придав своему тону оттенок насмешливого восхищения, – что он прелестно обращается со шпиговальной иглой: наверно, в молодости был поваром.
В мрачном взгляде Людовика XIII сверкнула молния.
– Л’Анжели, – сказал он, – я запрещаю тебе шутить над несчастным случаем с господином Барада.
Лицо л’Анжели приняло выражение глубочайшей скорби.
– Двор наденет траур? – спросил он.
– Еще одно слово, шут, – сказал король, встав и топнув ногой, – и я велю отхлестать тебя до крови.
И он стал в волнении ходить по комнате.
– Отлично, – сказал л’Анжели и, словно для того чтобы укрыть уязвимую часть тела, уселся в кресло, с которого встал король, – вот я и стал мальчиком для битья при господах пажах его величества: если они в чем-то провинятся, пороть будут меня. Ах, мой собрат Ножан был прав: тебя не напрасно называют Людовиком Справедливым, черт возьми!
– Все равно, – сказал Людовик XIII, не отвечая на насмешки шута, ибо не знал, что ответить, – я отомщу господину де Бассомпьеру.
– Тебе не рассказывали историю про некую змею, что хотела сгрызть напильник и сточила на этом все зубы?
– Что ты хочешь сказать своей притчей?
– Я хочу сказать, сын мой, что, хоть ты и король, ты так же не властен губить своих врагов, как спасать своих друзей. Это дело нашего министра Ришелье. Тебя при жизни называют Справедливым, но очень может статься, что его назовут Справедливым после смерти.
– Его?
– Ты не находишь, Людовик? А я нахожу Вот, к примеру, он приходит к тебе и говорит: «Государь, в то время как я пекусь о вашей безопасности и о славе Франции, ваш брат плетет заговоры против меня, то есть против вас. Он собирался напроситься со всей свитой ко мне на обед в моем замке Флёри, и, пока мы находились бы за столом, господин де Шале должен был проткнуть меня шпагой; вот доказательства; впрочем, допросите вашего брата, он вам это скажет». Ты допрашиваешь брата. Он, как всегда, трусит, бросается тебе в ноги и рассказывает все. Ах, это преступление, государственная измена, и за нее по праву голова должна слететь на эшафоте. Однако, когда ты придешь к господину де Ришелье и скажешь:
«Кардинал, я шпиговал. Барада не шпиговал. Я хотел заставить его шпиговать и, когда он отказался, брызнул ему в лицо померанцевой водой. Он безо всякого уважения к моему величеству вырвал флакон у меня из рук и разбил его об пол. Тогда я спросил, чего заслуживает паж, позволяющий себе так оскорблять своего короля. Маршал де Бассомпьер, как человек рассудительный, ответил: „Порки, государь“. Тогда господин Барада выхватил шпагу и бросился на господина де Бассомпьера; тот из почтения ко мне не мог обнажить свою и ограничился тем, что, взяв из рук Жоржа шпиговальную иглу, всадил ее в руку господина Барада. Поэтому я требую, чтобы господин де Бассомпьер был посажен в Бастилию». Твой министр – я его поддерживаю против всех и даже против тебя, – твой министр, являющийся воплощенной справедливостью, ответит: «Но прав господин де Бассомпьер, а вовсе не ваш паж, которого я не пошлю в Бастилию, ибо посылаю туда лишь принцев и вельмож, а велю выпороть за то, что он вырвал флакон у вас из рук, и поставить к позорному столбу за то, что он обнажил шпагу перед вами, с кем я, ваш министр, самый значительный человек во Франции, не считая или даже считая вас, разговариваю, понизив голос и склонив голову». Что ты ответишь своему министру?
– Я люблю Барада и ненавижу господина де Ришелье – вот всё, что я могу тебе сказать.
– Как хочешь, но это двойная ошибка. Ты ненавидишь великого человека, делающего все, чтобы возвеличить тебя, и любишь маленького бездельника, не способного ни посоветовать тебе преступление, как де Люинь, ни совершить его, как Шале.
– Разве ты не слышал, что он требует открытого поединка? В истории нашей монархии есть такой пример: поединок Жарнака и Ла Шатеньре при короле Генрихе Втором.
– Прекрасно! Но ты забываешь, что с тех пор прошло семьдесят пять лет, что Жарнак и Ла Шатеньре были вельможами и могли обнажить оружие друг против друга, что Франция переживала еще рыцарские времена и что, наконец, не было эдиктов против дуэлей – эдиктов, из-за которых недавно слетела на Гревской площади голова Бутвиля, одного из Монморанси. Попроси господина де Ришелье разрешить господину Барада, королевскому пажу, поединок с господином де Бассомпьером, маршалом Франции, генерал-полковником швейцарцев, – и ты увидишь, как он тебя встретит!
– Но надо, чтобы бедный Барада получил какое-то удовлетворение, иначе он сделает то, что обещал.
– И что же он сделает?
– Останется у себя дома!
– И ты думаешь, что из-за этого земля перестанет вращаться, ведь господин Галилей утверждает, что она вращается? Нет, господин Барада – фат, неблагодарный, как другие, и он тебе надоест, как другие; что касается меня, то, будь я на твоем месте, я бы знал, что мне делать.
– И что бы ты сделал? В конце концов, л’Анжели, я должен признать, что ты даешь мне порой хорошие советы.
– Ты можешь даже сказать, что я единственный, кто тебе их дает.
– А кардинал, о ком ты только что говорил?
– Ты их у него не просишь, вот он и не может тебе их дать.
– Послушай, л’Анжели, так что бы сделал ты на моем месте?
– Ты так несчастлив в фаворитах, что я бы попробовал фаворитку.
Людовик XIII сделал жест, выражающий нечто среднее между целомудрием и отвращением.
– Клянусь тебе, сын мой, – сказал шуг, – ты не знаешь, от чего отказываешься. Не стоит так категорически презирать женщин: в них есть и кое-что хорошее.
– Во всяком случае, не при дворе.
– Почему не при дворе?
– Они так распутны, что я их стыжусь.
– Но, сын мой, надеюсь, ты говоришь это не о госпоже де Шеврез?
– Как бы не так! Нашел кого назвать, госпожу де Шеврез!
– Вот тебе на! – сказал л’Анжели с самым наивным видом. – А я считал ее благонравной.
– Ну, так спроси у милорда Рича, спроси у Шатонёфа, спроси у старого турского архиепископа Бертрана де Шо, в чьих бумагах нашли разорванный ордер на двадцать пять ливров, подписанный госпожой де Шеврез.
– Да, правда, я вспоминаю даже, что в ту пору по настоянию королевы – она ни в чем не могла отказать своей фаворитке, так же как ты ни в чем не можешь отказать своему фавориту – ты добивался для этого достойного архиепископа кардинальской шапки, и тебе в ней было отказано, так что бедняга всюду говорил: «Если бы король был в милости, я бы стал кардиналом; но три любовника, в том числе один архиепископ, не так много для женщины, имевшей к двадцати пяти годам только двух мужей».
– О, мы не дошли еще до конца списка! Спроси у князя де Марсильяка, спроси у ее верного рыцаря Оратио, спроси…
– Нет, – сказал л’Анжели, – признаюсь, я слишком ленив, чтобы обращаться за сведениями ко всем этим людям. Лучше я назову другую. Вот госпожа де Фаржи. Ты не можешь сказать, что она не весталка.
– Да ты издеваешься, шут! А де Креки? А Крамай? А хранитель печатей Марийяк? Разве ты не знаешь знаменитую латинскую рифмованную прозу:
Fargis, dic mihi, sodes,
Quantas commisisti sordes
Inter Primas, adque Laudas
Quando…
Фаржи, поведай, окажи любезность,
Как влипла ты в такую мерзость
Среди молитв и днем и ночью,
Когда…
Король резко остановился.
– Нет, честное слово, я ее не знал, – сказал л’Анжели, – спой же куплет до конца, это меня развлечет.
– Я не решусь, – ответил Людовик, краснея. – Там есть слова, какие целомудренные уста не могут повторить.
– Но это не мешает тебе знать текст наизусть, лицемер! Однако продолжим. Послушай, а что ты скажешь о принцессе де Конти? Она в несколько зрелом возрасте, но тем больше у нее опыта.
– После того, что сказал о ней Бассомпьер, это было бы безрассудно! А после того, что она сама говорит о себе, это было бы просто глупо!
– Я слышал, что сказал маршал, но не знаю, что сказала она сама. Расскажи, сын мой, ты так хорошо рассказываешь, во всяком случае, игривые анекдоты.
– Так вот, она сказала своему брату, который вечно играет и никогда не выигрывает: «Не играйте больше, брат мой». А он ответил: «Я перестану играть, сестра моя, когда вы перестанете заниматься любовью». – «Ах, злюка!» – сказала она в ответ. К тому же совесть не позволяет мне говорить о любви с замужней женщиной.
– Теперь я понимаю, почему ты не говоришь о любви с королевой. Ну, перейдем к девицам. Послушай, что ты скажешь о прелестной Изабелле де Лотрек? Уж ее-то ты в отсутствии благонравия не упрекнешь.
Людовик XIII покраснел до ушей.
– Ага! – воскликнул лАнжели. – Кажется, я случайно попал в точку?
– Нет, я не могу ничего сказать против добродетели мадемуазель де Лотрек, – сказал Людовик XIII, и в голосе его явно слышалась легкая дрожь.
– А против ее красоты?
– Еще меньше.
– А против ее ума?
– Она очаровательна, но…
– Что «но»?
– Не знаю, должен ли я тебе это говорить, л’Анжели, но…
– Ну же, говори!
– … но мне показалось, что она не испытывает ко мне большой симпатии.
– Полно, сын мой, ты заблуждаешься на свой счет, и скромность тебя губит.
– Но если я тебя послушаюсь, что скажет королева?
– Если будет необходимо, чтобы кто-то держал мадемуазель де Лотрек за руки, королева этим займется, хотя бы ради того, чтобы увидеть, что прекратились все эти гадости с пажами и конюшими.
– Но Барада…
– Барада будет ревнив, как тигр, и попытается заколоть мадемуазель де Лотрек кинжалом. Но мы ее предупредим, и она наденет кирасу, как Жанна д’Арк. Во всяком случае, попробуй!
– Но если Барада, вместо того чтобы вернуться ко мне, совсем рассердится?
– Что ж, у тебя останется Сен-Симон.
– Славный малый, – сказал король, – и единственный, кто на охоте умеет чисто протрубить в рог.
– Ну, вот видишь, ты уже наполовину утешился.
– Что я должен делать, л’Анжели?
– Следовать советам моим и господина де Ришелье; с таким шутом, как я, и таким министром, как он, ты через полгода станешь первым государем Европы.
– Ну что ж, – сказал Людовик со вздохом, – я попробую.
– И когда же? – спросил л’Анжели.
– С сегодняшнего вечера.
– Хорошо; будь мужчиной сегодня вечером – и завтра ты будешь королем.
V. ИСПОВЕДЬ
На следующий день, после того как король Людовик XIII по совету своего шута л’Анжели решился заставить г-на Барада ревновать, кардинал де Ришелье послал Кавуа в особняк Монморанси со следующим письмом:
Господин герцог,
разрешите мне воспользоваться одной из привилегий моей должности министра, чтобы выразить большое желание Вас видеть и серьезно переговорить с Вами как с одним из выдающихся военачальников предстоящей кампании. Позвольте также высказать пожелание, чтобы встреча состоялась в моем доме на Королевской площади, рядом с Вашим особняком, и просить Вас прийти пешком, без свиты, дабы эта встреча, каковая, надеюсь, Вас полностью удовлетворит, осталась в тайне. Если девять часов утра будут для Вас подходящим временем, то меня оно тоже устроит.
Вы можете взять с собой, если сочтете это удобным, и если он согласится оказать мне ту же честь, что и Вы, Вашего юного друга графа де Море, относительно коего у меня есть планы, достойные его имени и происхождения.
С самым искренним уважением остаюсь, господин герцог, Вашим преданнейшим слугой.
Арман, кардинал де Ришелье.
Через четверть часа, после того как ему было дано это поручение, Кавуа вернулся с ответом герцога. Господин де Монморанси встретил гонца наилучшим образом и просил передать кардиналу, что с благодарностью принимает приглашение и будет у него в назначенное время вместе с графом де Море.
Кардинал, по-видимому вполне удовлетворенный ответом, спросил у Кавуа, как поживает его жена, и, с удовольствием услышав, что, поскольку он постарался за последние восемь – десять дней задержать Кавуа в доме на Королевской площади всего на две ночи, в семействе царит безмятежная ясность, принялся за обычную работу.
Вечером кардинал послал отца Жозефа справиться о самочувствии раненого Латиля. Тот поправлялся, но еще не покидал своей комнаты.
На рассвете следующего дня кардинал, как обычно, спустился к себе в кабинет; но как ни рано он встал, его уже ждали: камердинер доложил, что десять минут назад явилась дама под вуалью, сказавшая, что назовет свое имя только кардиналу; она находится в передней.
В полиции кардинала было множество различных лиц; думая, что речь идет о ком-то из его агентов или, вернее, агенток, он не стал строить догадки, кто это, и приказал своему камердинеру Гийемо впустить особу, желающую с ним переговорить, и проследить, чтобы никто не прерывал его беседы с незнакомкой; если же ему нужно будет о чем-то распорядиться, он позвонит.
Бросив взгляд на часы, он убедился, что до прихода г-на де Монморанси остается больше часа, и, решив, что часа ему хватит, чтобы выпроводить эту даму, не счел нужным отдать дополнительные распоряжения.
Через пять минут вошел Гийемо, сопровождая особу, о которой он докладывал.
Она остановилась возле двери. Кардинал сделал знак Гийемо; тот вышел, оставив его наедине с дамой.
Она сделала три-четыре шага от двери; кардинал с первого взгляда увидел, что она молода и принадлежит к высшему обществу.
Вуаль, закрывавшая ее лицо, не помешала ему заметить, что посетительница очень испугана, и он сказал:
– Сударыня, вы желали, чтобы я вас принял; я слушаю, говорите.
И он сделал ей знак подойти ближе.
Дама сделала шаг, но, чувствуя, что ноги у нее подкашиваются, оперлась рукой о спинку стула; другую руку она прижала к груди, пытаясь унять сердцебиение.
Ее слегка откинутая назад голова свидетельствовала о спазме, вызванном то ли волнением, то ли страхом.
Кардинал был слишком хорошим наблюдателем, чтобы не понять этих признаков.
– Сударыня, – сказал он, улыбаясь, – судя по ужасу, какой я вам внушаю, можно подумать, что вы пришли ко мне от имени моих врагов. Но успокойтесь: даже если вы пришли от их имени, оказавшись у меня, вы здесь царица, словно голубка в ковчеге.
– Может быть, я и в самом деле пришла из лагеря ваших врагов, монсеньер, но я спаслась оттуда бегством, чтобы просить поддержки одновременно у священника и министра: священника умоляю выслушать мою исповедь, к министру взываю о защите.
И незнакомка молитвенно сложила руки.
– Мне не составит труда выслушать вашу исповедь, даже если вы останетесь для меня незнакомкой, но мне трудно будет защитить вас, не зная, кто вы.
– С той минуты, как вы, монсеньер, пообещали выслушать мою исповедь, у меня нет никакой причины скрывать свое имя, ибо исповедь наложит на ваши уста священную печать.
– Что ж, – сказал кардинал, садясь, – подойдите сюда, дочь моя, и прошу вас испытывать ко мне двойное доверие, ибо вы обращаетесь ко мне и как к священнику и как к министру.
Молодая женщина приблизилась к кардиналу, опустилась на колени и подняла вуаль.
Кардинал следил за ней взглядом с любопытством, Ибо понимал, что имеет дело не с обычной исповедующейся; но когда эта исповедующаяся подняла вуаль, он не смог удержаться от удивленного возгласа:
– Изабелла де Лотрек!
– Да, это я, монсеньер. Могу ли я надеяться, что это ничего не изменит в намерениях вашего высокопреосвященства?
– Можете, дитя мое, – отвечал кардинал, горячо сжав ее рук – можете! Вы дочь одного из лучших слуг Франции, и поэтому я уважаю и люблю его; с тех пор как вы при французском дворе, где я вначале встретил вас с некоторым недоверием, должен сказать, что могу лишь одобрить ваше поведение.
– Благодарю, монсеньер, вы возвращаете мне веру. Я надеялась, что ваша доброта избавит меня от двойной опасности, которой я подвергаюсь.
– Вы хотите меня о чем-то попросить или ждете от меня совета, дитя мое, но не оставайтесь на коленях, садитесь рядом со мной.
– Нет, монсеньер, позвольте мне остаться так, прошу вас. Я хочу, чтобы те признания, что мне предстоит вам сделать, носили характер исповеди, иначе они станут почти доносом, и я не смогу их произнести.
– Поступайте, как считаете нужным, дитя мое, – сказал кардинал. – Боже меня сохрани задеть чувствительность вашей совести, даже если эта чувствительность преувеличена.
– Монсеньер, когда мой отец отбывал в Италию с господином герцогом Неверским, а меня оставляли во Франции, были выставлены два довода этому: во-первых, я могу устать от долгого путешествия и, во-вторых, буду подвергаться опасности в городе, который могут осадить и взять штурмом. К тому же мне предложили место у ее величества, способное удовлетворить желания более честолюбивой девушки, чем я.
– Продолжайте; но скажите, не увидели ли вы вскоре какой-то угрозы для себя в предложенной вам должности?
– Да, монсеньер. Мне показалось, что хотят спекулировать на моей молодости и преданности моей августейшей повелительнице. Король – то ли по своей инициативе, то ли подстрекаемый чьими-то советами, похоже, стал оказывать мне внимание, какого я, разумеется, не заслуживала. Какое-то время почтение мешало мне верно оценить ухаживания его величества, тем более что из-за его робости они не выходили за пределы галантных любезностей; но в один прекрасный день мне показалось, что я должна рассказать королеве о нескольких словах, переданных мне от имени короля. Однако, к моему большому удивлению, королева рассмеялась и сказала: «Это было бы великим счастьем, милое дитя, если бы король смог влюбиться в вас». Я размышляла всю ночь над этими словами, и мне показалось, что мое пребывание при дворе и назначение в штат королевы имело другие цели, чем те, о которых говорили. Назавтра король возобновил свои ухаживания. За неделю он трижды появлялся в кружке королевы, чего раньше не бывало. Но при первом же слове, сказанном мне королем, я сделала реверанс и, сославшись на нездоровье, попросила у королевы позволения удалиться. Причина моего ухода была столь явной, что после этого вечера король не только не разговаривал больше со мной, но даже не приближался ко мне. Что касается королевы Анны, то она, похоже, была весьма недовольна моей щепетильностью; когда я у нее спросила о причинах ее охлаждения ко мне, она ответила: «Я ничего не имею против вас, если не считать сожаления, что вы могли оказать нам услугу и не оказали ее». Королева-мать была со мной еще холоднее.
– Но вы поняли, – спросил кардинал, – какого рода услугу ожидала от вас королева?
– Я смутно догадывалась об этом, монсеньер, скорее по тому, что краска невольно заливала мне лицо, нежели по откровениям моего ума. Однако, поскольку королева, хотя и без прежней благожелательности, была добра ко мне, я, не жалуясь, осталась при ней и оказывала ей все услуги, какие могла. Но вчера, монсеньер, к великому удивлению моему и обеих королев, его величество, уже более двух недель не бывавший в кружке дам, явился, никого не предупредив о своем приходе, и, вопреки обыкновению, с улыбкой на лице, поклонился супруге, поцеловал руку матери и подошел ко мне. С позволения королевы я сидела около нее и встала, увидев короля; но он предложил мне сесть и, играл с карлицей Гретхен – ее прислала своей племяннице инфанта Клара Эухения, заговорил со мной, осведомился о моем здоровье, сообщил, что на ближайшую охоту приглашает обеих королев, и спросил, буду ли я их сопровождать. Внимание, оказываемое королем женщине, было чем-то настолько необычным, что я почувствовала, как все взгляды устремились на меня и лицо мое заливает краска гораздо сильнее, чем раньше. Не знаю, что отвечала я его величеству; вернее, я не отвечала, а бормотала какие-то бессвязные слова. Я хотела встать. Король силой удержал меня. Я, ослабев, упала на стул. Чтобы скрыть свое смятение, я взяла на руки маленькую Гретхен; но она, увидев мое лицо, склоненное к полу, стала громко спрашивать: «А почему вы плачете?» И в самом деле, невольные слезы тихо бежали из моих глаз и струились по щекам. Не знаю, какое значение придал им король, но он пожал мне руку, достал из своей бонбоньерки конфеты и дал их карлице; та, рассмеявшись недобрым смехом, выскользнула из моих рук и отправилась пошептаться с королевой. Оставшись одна, я не решалась ни подняться, ни остаться на месте. Такое состояние не могло длиться долго. Я почувствовала, как кровь шумит у меня в ушах и переполняет виски; мне казалось, что мебель движется, а стены шатаются; чувствуя, что силы меня оставляют и жизнь уходит, я потеряла сознание.
Придя в себя, я увидела, что лежу на своей постели, и возле меня сидит госпожа де Фаржи.
– Госпожа де Фаржи, – повторил кардинал с улыбкой.
– Да, монсеньер.
– Продолжайте, дитя мое.
– Я бы хотела продолжать; но то, что она мне сказала, так странно, ее поздравления, обращенные ко мне, столь унизительны, ее увещания столь необычны, что я не знаю, как пересказать их вашему высокопреосвященству.
– Ну да, – сказал кардинал, – она сказала вам, что король в вас влюблен, не так ли? Она поздравила вас с тем, что вы смогли сделать с его величеством чудо, на какое оказалась неспособна сама королева, и уговаривала вас всячески поддержать эту любовь, чтобы, заняв место фаворита, дующегося на короля, вы смогли благодаря своей преданности послужить политическим интересам моих врагов.
– Ваше имя не упоминалось, монсеньер.
– Да, для первого раза это было бы слишком; но я угадал то, что она вам сказала?
– Слово в слово, монсеньер!
– И что вы ответили?
– Ничего. Я окончательно поняла то, что смутно предчувствовала при первых ухаживаниях короля: из меня хотели сделать инструмент политической борьбы. Вскоре, поскольку я все еще плакала и дрожала, пришла королева; она поцеловала меня, но этот поцелуй, вместо того чтобы утешить меня, заставил сжаться мое сердце и обдал меня холодом. Мне казалось, что какая-то злая тайна скрывается в этом поцелуе, каким супруга, а тем более королева, одаривает ту, которой угрожает любовь ее мужа, – одаривает, чтобы та поощрила эту любовь! Затем, отозвав госпожу де Фаржи в сторону, она о чем-то тихонько поговорила с ней и затем сказала мне: «Покойной ночи, милая Изабелла; подумайте обо всем, что вам скажет Фаржи, и особенно о том, что готова сделать наша признательность в обмен на вашу преданность». Она удалялась к себе в спальню; госпожа де Фаржи осталась. По ее словам, мне осталось одно – примириться с тем, что произошло, то есть уступить любви короля. Она говорила долго – а я ей не отвечала, – пытаясь втолковать мне, что такое любовь короля и сколь малым эта любовь будет довольствоваться. Очевидно, она решила, что убедила меня, ибо, тоже подарив мне поцелуй, удалилась.
Но едва за ней закрылась дверь, как мое решение было принято: отправиться к вам, монсеньер, броситься к вашим ногам и все вам рассказать.
– Но то, что вы мне поведали, дитя мое, – сказал кардинал, – всего лишь рассказ о ваших страхах; эти страхи не грех, не преступление, а наоборот, доказательство вашей невиновности и искренности; я не вижу, почему вы должны говорить об этом на коленях и придавать своему рассказу форму исповеди.
– Дело в том, что я не все сказала вам, монсеньер. Это безразличие или скорее страх, внушаемый мне королем, я испытываю не ко всем, и я колебалась, идти ли к вам, не из-за необходимости сказать вашему высокопреосвященству: «Король меня любит», а из-за необходимости сказать: «Монсеньер, боюсь, что я люблю другого!»
– А разве любить этого другого – преступление?
– Нет, монсеньер, но опасность.
– Опасность? Почему? Ваш возраст – возраст любви, и миссия женщины, определенная природой и обществом, – любить и быть любимой.
– Но не тогда, когда тот, кого, как ей кажется, она любит, выше ее по рангу и происхождению.
– Ваше происхождение, дитя мое, более чем почтенно, и, хотя ваше имя не блещет так же ярко, как сто лет назад, оно еще может сравниться с лучшими именами Франции.
– Монсеньер, монсеньер, не поддерживайте во мне безумную, а главное – опасную надежду.
– Так вы думаете, что тот, кого вы любите, вас не любит?
– Наоборот, монсеньер, я думаю, что он меня любит; это меня и ужасает.
– Вы заметили эту любовь?
– Он мне в ней признался.
– А теперь, когда исповедь закончена, в чем состоит просьба, о которой вы мне говорили?








