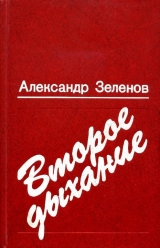
Текст книги "Второе дыхание"
Автор книги: Александр Зеленов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 29 страниц)
Как-то, выслушав вместе с Пориковым по радио сообщение о ликвидации Курляндской группировки немцев, об очищении от них Прибалтики, уполномоченный проговорил со значением: «Ну, скоро и мы заканчиваем!» Пориков так и не понял тогда, относились ли эти его слова к окруженным немцам или к заданию его, Киндинова, собственному. Но к вечеру того же дня оба они вернулись на ротный КП.
Пока проголодавшийся писарь наваливался на ужин, уполномоченный, уединившись в комнате командира роты с Дорониным, долго о чем-то с ним там совещался. Никто не слыхал, что они говорили, но после этого разговора ротный вдруг появился на кухне веселый, в отличнейшем настроении и, что с ним нередко случалось и раньше, принялся сыпать шуточками.
И сразу же по КП загулял слушок, будто майор Труфанов, ходатайствовавший перед комдивом за ротного, добился, что генерал, в связи с Победой, отменил свое распоряжение об отдаче ротного под суд.
Пориков кинулся к старшему лейтенанту Доронину: верно ли? Тот, подмигнув по привычке сразу на оба глаза, весело подтвердил: «Верно, Егорий, все правильно!»
Доволен был и уполномоченный, будто нашел наконец-то решение задачи, которая долго ему не давалась и мучила. Пориков слышал, как он расхаживал в комнате ротного, что-то мурлыкая себе под нос.
А довольный он был потому, что на запрос контрразведки дивизии был наконец-то получен ответ. В нем сообщалось, что мать военнослужащего Красной Армии Турянчика Р. С., Турянчик Евгения Вениаминовна, 1900 года рождения, русская, с дочерями Ларисой, 1927 года рождения, и Ольгой, 1929 года рождения, находились на временно оккупированной территории с июля 1941 года по август 1944 года и проживали в городе Минске по адресу (следовал адрес).
Турянчик Е. В. скончалась в октябре 1944 года и захоронена по месту жительства. Ее дочери Лариса и Ольга в настоящее время проживают по прежнему адресу. Данными, свидетельствующими о сотрудничестве Турянчик Е. В. или ее дочерей с немецко-фашистскими оккупантами или пособничестве им, Н-ское управление госбезопасности не располагает.
Далее сообщалось, что Осмоловская Вероника Борисовна, по мужу Турянчик, 1921 года рождения, русская, находилась на временно оккупированной территории с 1 июля 1941 года по август 1944 года и проживала в городе Минске по адресу (следовал адрес). В феврале 1945 года осуждена за связь с немецко-фашистскими разведывательными органами и пособничество оккупантам и приговорена к высшей мере наказания.
* * *
Разбудили писаря ночью, совсем неожиданно. Уполномоченный приказал одеться, взять карабин, подсумок и предупредил: никаких вопросов не задавать.
Поеживаясь от ночной сырости, Пориков вышел на улицу. Там стояли уже и молча курили ефрейтор Ясников и рядовой Подожков, оба с винтовками, – видимо, предстояло какое-то «дело».
Уполномоченный велел всем накуриваться здесь, сказал, что не разрешит после. Пориков тоже свернул толстую «флотскую». Стоял и затягивался филичевым, которым к концу войны стали снабжать не только солдат, но даже и офицеров. Привозили его в громоздких пакетах из плотной желтой бумаги. Нарезанный крупно и длинно, напоминал он коричневую лапшу и при курении вонял нестерпимо паленой соломой. В соединении же с рыхлой и толстой, словно асбест, бумагой, на которой печаталась фронтовая газета «Тревога», филичевый был труден и для солдатских луженых глоток, ко всему, казалось бы, притерпевшихся.
Рядом с ним стоял и курил Подожков, ротный сапожник, парень рыхлый и вялый, казалось, еще не проснувшийся. Поднося к толстым губам цигарку, он часто не попадал концом ее в рот. Самым большим для него наказанием было – это когда его подымали с постели в такое вот неурочное время. Зато с высокого толстого Ясникова сон слетел моментально, как только Филя почуял, на какое он «дело» идет.
– Что, страшно? – спросил его Пориков.
– Дак впервые ж, товарищ сержант...
– А ты все равно держи хвост пистолетом!
– Да я уж и так...
...В полной тьме они миновали рощу, выбрались на асфальтовое шоссе и, перейдя реку через большой каменный мост, свернули направо. Особист повел их к деревне, через которую проходила дорога к триста шестой.
Метрах в ста от деревни остановились. Заставив еще раз каждого проверить свое оружие, уполномоченный всем приказал оставаться здесь и пропал в темноте.
Вскоре он привел еще троих вооруженных – ребят с триста второй во главе со старшим сержантом Косых. Пригласив обоих сержантов к себе, уполномоченный опустился на корточки, развернул на коленях планшет и, прикрывая ручной фонарик полой шинели, показал на схеме план пятого с краю дома, стоявшего чуть на отшибе, крестиками пометил места, где расставить людей. Предупредил: действовать тихо, без шума, стрелять только в крайнем случае.
Пориков был удивлен: дом, пятый с краю, принадлежал чахоточному сапожнику.
Втроем с Подожковым и Ясниковым они обошли этот дом с огородов. Расставив их по местам, шепотом проинструктировав каждого, Пориков возвратился к уполномоченному и вместе с ним взошел на покосившееся крыльцо.
Переложив пистолет в карман шинели, уполномоченный постучался. Раз. Потом еще. Но изба словно вымерла. Лишь после третьего или четвертого стука в одном из низких, упершихся в землю окошек мелькнул огонек. В сенях послышался сиплый надсадный кашель, и свистящий, с придыхом голос спросил из-за двери, кто тут.
– Откройте! По срочному делу...
. . . . . . . . . . . . . .
На КП возвращались под утро.
Впереди особист, в середине – двое задержанных, которых кольцом окружали солдаты. Пориков шел замыкающим, рядом со старшим сержантом Косых.
Кем только не приходилось быть Порикову за годы войны! Пулеметчиком, автоматчиком, бронебойщиком и связистом. Далее был санинструктором одно время, вытаскивал на себе раненых, хоронил убитых, вынимая кой у кого из карманов молитвы, «живые мощи», иконки, заговоры от пули, снаряда и прочую чепуху. Но вот чего не доводилось делать ни разу, так это ловить шпионов...
Еще когда особист стучался в низкую дверь избушки, он ощущал, словно перед атакой, знакомое острое возбуждение, ожидая чего-то необычайного. Состояние это не оставляло его и тогда, когда щелястая дверца избушки откинулась и в проеме ее, с керосиновой лампой в руках, предстал сам хозяин избушки, старый, худой и морщинистый.
Он вышел в одном исподнем, висевшем на нем, как на колу. На ногах разбитые валенки, на жилистой тощей шее, на грязном гайтане, болтался нательный крест. В вырезе бязевой нижней рубахи виднелись худые ключицы, выпиравшие, словно у отощавшей лошади. Побитые сединою волосы, свалявшиеся со сна, напоминали грязную пену. Крупный пористый нос седлали очки в простой железной оправе. Державшая лампу рука, большая и черная, вся в поперечных полосах вара от дратвы, напоминала рачью клешню.
Увидев высокого незнакомого офицера, сапожник спросил одышливо:
– Вам, товарищ военный, кохо?..
– Пройдемте! – коротко кинул Киндинов и первым, согнувшись, шагнул в низкую дверь.
Присел к столу, предъявил документы и стал устанавливать личность хозяина. Пориков с карабином в руках остался стоять возле двери.
Все в этой выморочной избушке было ему знакомо. И старые ходики на стене, неровно и хромоного, с каким-то сиротским звоном отсчитывавшие секунды, и сосновый чурбак в прихожей, напротив низенького оконца, на котором обычно хозяин сидел с сапогом в обнимку, и широкая, заваленная сапожным товаром лавка, и особенно невыветривающийся этот запах сапожного вара, дратвы и кож, которым, казалось, был пропитан навылет каждый угол избушки. Из широких щелей в полу сильно дуло. Веяло здесь от всего нежилью, запустением, обиталищем старого бобыля.
Потребовав у хозяина документы, уполномоченный углубился в их изучение, переворачивал так и эдак, сличал печати и подписи, подносил к глазам.
– Выходит, по всем статьям инвалид?
– Выходит, что так, – покорно кивнул сапожник.
– А почему на ВТЭК не идете повторно? Срок пропущен давно!
Старик суетливо задергался:
– Дак это не тот документ, товарищ... то ись, гражданин военный! Тута другой есть, заново выданный...
Уполномоченный глянул на этот другой, повертел в руках и пренебрежительно отодвинул бумаги.
В бумагах, как понял сержант, все было правильно. Но особист, недоверчиво посверкивая очками, начал выпытывать у хозяина, когда и откуда тот прибыл, где у него родные, куда подевалась семья, чем занимался в войну при немцах, кто, наконец, выдавал ему документы – мужчина то был или женщина, как они были одеты, как выглядели, и задавал десятки других вопросов, совершенно, как думалось Порикову, к делу не относящихся.
Старый сапожник меж тем и не пробовал отпираться и путать, а простодушно ронял: «не помню», «не знаю», «кажись, какая-то дамочка»... Уполномоченный, как и всегда, был въедлив, но когда он принялся еще и путать сапожника, кидая ему один вопрос за другим, и тот заморгал беспомощно, Пориков вдруг ощутил к особисту неприязнь. Чего добивается? Разве не видит, что перед ним больной, одинокий старик?! Зачем ему душу выматывать, коль документы в порядке!..
Пройдя почти всю войну и видя много такого, чего человеку лучше не видеть, не подобает видеть, Пориков не очерствел душою. Все то злое и бесчеловечное, что приходилось встречать на войне, – все это делали немцы, фашисты, то есть существа, которых нельзя считать за людей. А люди, нормальные люди, должны быть хорошими, добрыми и доверять друг другу.
Сверкнув очками на Порикова, особист спросил старика, знает ли он этого человека.
Уставясь подслепо на писаря, тот стал внимательно всматриваться.
– Вспомнили, нет?
Первым не выдержал писарь:
– Дядя Семен, да бывал я у вас! Пориков я, Егор, неужели не помнишь?!
Сапожник отвел глаза.
– Кто е знает, может, и был, – со вздохом ответил он. – Много военных ходют ко мне, всех не упомнишь...
– А такая фамилия вам знакома – Турянчик? – спросил Киндинов. – Такую вы помните?
Нет, оказалось, и эту не помнил. Пориков был удивлен. Не мог же забыть старый хрен того и другого так быстро! Ведь он же, сержант, был здесь не просто так: сунул заказ – и ушел. Нет! И самогоночку вместе пили, и разговоры вели. А сапожник к тому же еще уважительно величал его и Егором Петровичем.
– У него здесь, товарищ старший лейтенант, тетрадка такая есть... ну, в которую он заказчиков пишет, – сказал особисту сержант. – Турянчик в ней должен значиться.
– Есть такая, имеется, – подтвердил и сапожник, поднялся кряхтя и вынес в клешнятой руке из прихожей измятую, в пятнах сапожного вара тетрадку.
Пробежав глазами засеянные стариковскими каракулями страницы, Киндинов спросил, почему же в тетрадке Пориков значится трижды, а вот Турянчик совсем не значится, хотя и неоднократно бывал.
Сапожник сказал, что в тетрадку он пишет не всех, а лишь тех, за которыми числится долг.
– Выходит, Турянчик за все расплачивался немедленно?
– Выходит, что так... То ись, нет, не знаю я никакого Турянчикова. Раз не записан, – значит, не числится, стало быть, все уплотил.
– Вы знаете, что Турянчиком совершено убийство?
Нет, сапожник не знал. Да и зачем ему знать!
Киндинов круто переменил разговор:
– Скажите, вас кто по ночам навещает? В ночь на девятое мая кто у вас был?
Притиснув к худым ключицам клешнятую руку, сапожник стал уверять, что живет он один, никто к нему по ночам не ходит, так как ни с кем в деревне не знается он. Правда, шастали раньше по пьяному делу, когда он гнал самогонку, а как ему запретили, так с тех пор и не гонит. И аппарат изломал.
Киндинов спросил в упор:
– Вы утверждаете, что в ночь на девятое мая у вас никто не был?!
– Совершенно, стало быть, точно, никто.
– И сегодня никто к вам не должен прийти? Сапожник пожал плечами.
Киндинов дал писарю знак: приступай. Стали осматривать избу. Пориков заглянул даже в печь, пустую, холодную, в нишу под печью, в подтопок. Киндинов обшарил подпол, потом полез на чердак. Вылез оттуда весь в паутине. Осмотрели чулан и сени, но везде было пусто, никаких следов пребывания кого-то еще...
Выведя старика с собою, вышли осматривать двор. Сапожник, так и стоявший в исподнем, принялся вдруг мелко дрожать и попросил дозволенья одеться. Уполномоченный кинул писарю: проводи!..
Старик одевался неторопливо, затягивал время будто нарочно, всем своим видом показывая, как глубоко и несправедливо его обижают. Лицо выражало одно: ищите, хоть все обыщите! Ничего я от вас не скрываю, нечего мне скрывать... И то, как он замкнулся в себе, еще больше втянув пустые впалые щеки, и особенно этот допрос и бесплодные поиски – все наводило на мысль о его невиновности и вызывало в писаре жалость.
– Озяб, дядя Семен?
– Ох, и не говори... Прямо зуб на зуб не попадает! Кровь-то совсем уж не греет, стала не та. Ты сказал бы, сынок, своему-то начальству, чтобы в спокое меня оставило.
– Служба, дядя Семен, не могу.
Дверь распахнулась, в проеме ее показалось лицо особиста, злое и раздраженное.
– Долго вас ждать?!
– Сейчас, сейчас... – засуетился Пориков. И нарочито сурово прикрикнул: – А ну шевелись поживее! Возишься тут...
Уполномоченный закипал, как чайник.
– Аппарат самогонный где прячешь?
Сапожник медлил с ответом. Киндинов повысил голос:
– Аппарат самогонный где прячешь, я спрашиваю?!
– Аппарат-то? Да на огороде он, в баньке, – залепетал вдруг сапожник испуганно. – Я уж давненько не пользуюсь им, изломатый лежит... Вот сюды, в эту дверку!
Дверца низенькой баньки была приперта снаружи. Кругом обойдя строение, посвечивая фонариком, уполномоченный откинул ее и вошел вовнутрь.
Банька топилась по-черному. С низкого закоптелого потолка свешивалась густая и жирная бахрома осевшей на паутине сажи. Она задевала лицо, и Киндинов гадливо морщился, светя фонарем по углам.
Шайка, полок, скамейка... Печка с железным котлом и каменкой... Ничего подозрительного, только вот кучка соломы в углу, примятая, будто на ней кто-то лежал недавно.
Ткнув фонарем в солому, Киндинов спросил:
– А это что тут за ложе?
– Для себя постелил. Грудью маюся я. Дома когда дышать чижало, я суда выхожу, подышать вольным воздухом. Лягу, открою дверь и дышу...
Губы сапожника прыгали, голос рвался.
– В лапоть звонишь, старый...! «Дышу»! Где аппарат свой прячешь?!
Старик показал. Особист направил фонарь под полок, высветил змеевик, грязный и ржавый, которым давно не пользовались. А сапожник меж тем принялся уверять, что зря его беспокоят, человека больного и слабого. Киндинов слушал его вполуха, потом раздраженно кинул: «Да замолчи ты!..» – и, согнувшись, полез из баньки. Встал возле двери, раздумывая, видимо не совсем представляя, что делать дальше. Упорство, с которым он что-то искал, представлялось Порикову бессмысленным.
Из темноты, где были расставлены люди, послышался треск кустов, приглушенная возня. Резко лязгнул затвор, раскатисто грохнул выстрел. Кто-то крикнул дурным, не своим голосом: «Держи-и! ...Держите его!!»
Сказав сержанту стеречь старика, Киндинов кинулся на голос.
Через минуту он показался снова, посвечивая перед собою фонариком. Следом солдаты кого-то вели, какого-то человека. Возле баньки остановились. Луч карманного фонаря уперся в лицо задержанного. Тот заслонился ладонью от света, резко ударившего по глазам.
– Вон он, гад! – сказал Косых, весь дрожа, еще не успевший остыть от недавнего возбуждения.
Луч фонаря обежал фигуру задержанного. Невысокий плечистый мужчина лет тридцати, одет в брезентовый дождевик, в сапогах из кирзы. Вязаный теплый свитер под форменкой железнодорожника, на голове форменная фуражка.
– Кто такой?
Оказалось, железнодорожник, путеец. Работает на узловой железнодорожной станции.
– Как оказались здесь ночью, в чужом огороде?
Задержанный не отвечал.
– Будем молчать?
Путеец пожал плечами.
– Я вот сейчас ему двину разок – сразу заговорит! Разрешите?
– Отставить, Косых... Что, будем играть в молчанку?
Задержанный потоптался на месте.
– Нехорошо признаваться на людях, старшой. Есть дела, об которых при всех не болтают...
– Это какие такие дела?
Путеец сконфуженно ухмыльнулся. Затем, опуская глаза и копая землю носком сапога, принялся рассказывать, что в одной с ним бригаде работает местная молодая женщина, муж которой, железнодорожник, уехал на несколько суток в рейс. Эту ночь он провел у нее. Вышел под утро – и вот на задах заблудился...
– Документы! Тот предъявил.
Уполномоченный приказал обыскать. Косых принялся охлопывать плащ и форменку, вывернул все карманы, но обнаружил лишь перочинный нож.
Путеец скривился в усмешке: дескать, видите сами...
Возвращая ему удостоверение (видимо, там все было в порядке), Киндинов спросил:
– Зачем по кустам прятались?
– Я же сказал, заблудился. Иду – и вдруг люди. Ну, решил переждать...
– Да не шел он! В кустах затаился! – сказал Косых.
– Отпустил бы меня, старшой...
...Оба задержанных шли, не выказывая беспокойства, не вызывая тревоги и подозрений. И по тому, как держались они, в Порикове росло убеждение, что, вероятно, тут вышла ошибка. Приведут они их на КП, уполномоченный их допросит, потом позвонит куда нужно и, наведя о них справки, отпустит. Сколько уж раз так бывало при лейтенанте Папукине!
До КП оставалось чуть более километра. Дорога, нырнув в перелесок, была здесь переплетена корнями деревьев, в прах разбита, разъезжена. Где-то посередине, там, где дорожные колеи прижимались вплотную к лесу, один из задержанных, грудью сбив полусонно шагавшего Подожкова, кинулся неожиданно в лес.
– Сто-о-й!! – закричал Киндинов и выстрелил наугад в темноту.
Выпустили по пуле Косых и Пориков. Уполномоченный, приказав писарю глаз не спускать с другого задержанного, постоянно держать под прицелом, кинулся с остальными в лес.
Писарь дослал в патронник патрон.
«Вон оно как обернулось!»
...Небо уже отслаивалось от верхушек деревьев; начинало светать. Утренний воздух пахнул землей и холодным туманом. Сапожник стоял спокойно. Потом вдруг с укором заговорил:
– Вот ведь чудак человек, убег! А зачем бежать, ежели невиноватый? Сбегишь – токо вину свою этим учижелишь...
– Помолчи! – приказал ему Пориков. – Тоже разговорился. – И выразительно ворохнул карабином.
– Я и молчу. Я токо что говорю? Что, мол, бегать не надо, не к чему бегать-то. Я-то ведь вот не бегу никуда, а все почему? Потому как вины за собой никакой не чую. И ишо потому, что верю, разберутся товарищи, выяснют...
Пориков недоверчиво покосился. Зубы пытается заговорить? Я тебя, старого хрена, сразу на мушку, ежели что...
Но испитое лицо старика не выражало решительно никаких опасных намерений, голос его звучал утомленно, видно, изрядно его измотала эта бессонная ночь.
С полчаса уж стояли они друг возле друга. Сапожник начал все чаще кашлять, вертеть головой. При каждом его движении сержант напрягался, крепче стискивал карабин, но кругом было тихо, только сапожник все чаще кашлял. Не выдержав наконец, зашелся в таком мучительном приступе, весь почернев, что Пориков испугался, как бы внутри у его поднадзорного вдруг не лопнуло что.
Откашлявшись наконец-то, унимая худую, ходуном ходившую грудь, сапожник одышливо просипел:
– Покурить охота мне, слышь? Не могу я больше без курева...
Писарь и сам давно не курил, но промолчал, стойко сопротивляясь мучительному желанию. Прямо уши опухли без курева. Сколько же можно!..
Приказав старику не двигаться, он взял карабин под мышку, вынул жестяночку с табаком и, наспех склеив две толстые «флотские», сунул одну сапожнику:
– Только в кулак, по-тихому! Ясно?
Старик закивал благодарно, но, сделав две жадных затяжки, снова зашелся в мучительном кашле.
– Не могу этот ваш... филичевый, – стал выталкивать он из себя вместе с дымом. – Мне от его токо хуже становится...
Отшвырнув начатую завертку, попросил разрешить закурить своего и уже сунул руку в карман.
– А ну убери свою лапу! – осадил его писарь. – Руку, руку прими, говорю!
Старик покорно вытащил из кармана руку.
Прождали еще с четверть часа. Все же, поколебавшись, Пориков разрешил закурить «своего». Сапожник принялся настойчиво угощать и его. Зацепив из чужого кисета добрую жменю, сержант прислонил карабин к березке, высвобождая руки, и уже принялся крутить для себя цигарку, как послышался треск валежника, между стволов мелькнул огонек фонаря и на дорогу из леса вышли злые, еще не остывшие от погони солдаты, толкая перед собою задержанного. «Путеец» был без фуражки, со связанными руками. Брезентовый плащ весь измазан грязью, болтался оторванный «с мясом» рукав.
Последним из леса вышел Киндинов. Голова у него была забинтована. Подслеповато щурясь, он принялся вертеть в руках разбитые вдребезги, сломанные очки. На виске у него кровенела глубокая ссадина...
* * *
Тридцать пять лет миновало с тех пор.
Тридцать пять...
Давно обвалились, травой заросли окопы, сгнили землянки, дзоты, укрытия. На местах, где некогда шли бои, поднялись граненые обелиски. На братских могилах выросли памятники. Не увядали на них венки, живые цветы. Каждую весну и лето их подновляли, красили свежей краской оградки братских могил. На многих, немых до того, каменных намогильных плитах высекались, блестели золотом новые имена павших. Шла на земле послевоенная жизнь, та самая, о которой в те годы только мечталось, до которой каждому так хотелось дожить. Дожить – и своими глазами увидеть, какая будет она...
Но дождались не все.
В один из майских солнечных дней из вагона пригородной электрички вышел располневший и хорошо одетый мужчина, близкий уже к пенсионному возрасту. Снял шляпу и принялся обмахивать ею вспотевшую голову с остатками жидких волос, зачесанных поперек, оглядываясь вокруг. От станции через красный каменный мост он прошел по шоссе до совхоза, оврагом выбрался в поле, где когда-то стояла землянка – их ротный КП. Искал ее битый час, но никаких следов так и не смог обнаружить. Время стерло решительно все!
Мужчина встал в полной растерянности.
Ведь они здесь когда-то не только дрались с фашистом, защищая родную столицу, – нет! Они жили, любили, радовались, волновались. Каждый из них оставил здесь лучшую часть своей жизни – молодость. Именно в этих местах случилась и та история, которой он был не только свидетелем, но и участником, помогая найти концы и распутать ее.
Тогда им первыми удалось ухватить ту ниточку, что повела потом далеко – в Белоруссию, в Польшу, и помогла, уже после войны, следственным органам разоблачить шайку изменников и военных преступников, сотрудничавших с фашистами и пособничавших им.
С трудом узнавая места, где стояла когда-то их рота, Георгий Петрович, бывший сержант, а ныне работник печати, полем прошел до деревни, в надежде найти уцелевшим хоть дом с мансардой, но дом с мансардой был тоже снесен.
Он долго стоял, вспоминая.
После похорон взводного, на девятый, помнится, день из Батуми приехала мать Бахметьева. Заказала в столице памятник. Через неделю уехала, увозя с собой урну с прахом погибшего сына. Невесту она приглашала к себе, но та отказалась.
Он, сержант, много раз навещал Аню в госпитале, а после ее демобилизации даже осмелился сделать ей предложение.
Но надеждам его не суждено было сбыться. Аня так и осталась жить одинокой, с дочерью на руках...
1975—1980








