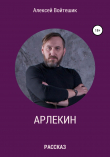Текст книги "Загадай желание (СИ)"
Автор книги: Александр Черногоров
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 23 страниц)
От этой простой мысли на душе стало спокойно и радостно.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Гьетачеу Ешоалюль выглянул из своей комнаты. Его жена Тыгыст только что положила телефонную трубку и еще не успела вытереть слезы. Гьетачеу был очень худ. Казалось, каждый шаг дается ему с трудом, причиняет боль, а суставы впиваются в кожу и скрипят, как несмазанная дверь. На нем была серая пижама в тон поседевшим волосам. Она свободно болталась на острых плечах, еще больше подчеркивая худобу истаявшего, как кусок соли в воде, тела. Он сильно сутулился. На впалой груди выпирали кости. Лицо было болезненно-бледным.
Не зря говорят, что муж и жена пьют воду из одного родника. Тыгыст тоже была вся иссохшая, с длинными костлявыми руками и ногами. Несмотря на горе, которое причинял ей Гьетачеу, она любила мужа. Жалела его. Вот и сейчас сквозь слезы посмотрела на него добрым материнским взглядом.
Он держал руки в карманах и едва стоял на ногах, качаясь из стороны в сторону, как дерево, которое не в силах сопротивляться порывам ветра.
– Мне нужны твои… любовь и уважение, а не… жалость! Я сам сострадаю этому слепому, глухому миру. И не желаю, чтобы кто-то жалел меня, – говорил он, пьяно запинаясь.
Лицо Тыгыст не выражало ничего, кроме жалости к мужу. Она привыкла к сдержанности, прятала свои чувства глубоко в душе. Однако ошибся бы тот, кто подумал бы, что она лишена эмоций. Ее молчаливая сдержанность таила в себе опасность взрыва, бурного всплеска – так взрывается вулкан после длительного бездействия. Она избегала смотреть людям прямо в глаза. Но если кому-то случалось перехватить взгляд Тыгыст, его неподдельная страстность никого не могла оставить равнодушным.
Тыгыст ничего не ответила мужу. Раньше… О, сколько б она наговорила ему раньше! Бывало, умоляла, угрожала, совестила: «Из-за тебя я иссохла, не знала ни дня радости, никогда не была прилично одета, всю жизнь из-за тебя я терпела унижения. Какая участь… Пасть так низко! Как я живу? Заперта в доме. У меня даже платья и туфель нет, чтобы выйти в город. Жена-затворница. Я ведь еще совсем молодая, а выгляжу старухой…» Все это она сказала бы раньше, увещевала бы его, уговаривала бы ладить с начальством и подчиненными, бросить пить, быть повнимательнее к ней. Но не сейчас! Она давно поняла, что он человек конченый. Горбатого могила исправит. Она сдалась. Но ведь она любила… и прощала ему все. Смирилась.
Как ни странно, именно эта покорность больше всего бесила Гьетачеу. Он приходил домой пьяный, едва держась на ногах, а она встречала его ласково, заботливо спрашивала: «Как ты добрался, мой дорогой? Ты, наверное, голоден? Вот, я приготовила твое любимое жаркое». Он валился на кровать, что-то бормоча. Она раздевала его, терпеливо укрывала одеялом, поправляла подушку. И ни слова упрека. Поутру ему казалось, что ее любовь и уважение к нему иссякли. «Если я подохну, ей наплевать», – думал он. Тяготился этой мыслью и снова напивался. Так прошло какое-то время, и он почувствовал, что Тыгыст не просто не сопротивляется его пороку, но продолжает любить и уважать его. Между ними снова восстановилось согласие. Ведь никто, кроме жены, не мог понять его. А он продолжал жалеть «слепой и глухой мир, в котором так много нелепости».
Увидев, что он качается, словно тростник на ветру, Тыгыст предложила:
– Сядь, может, поужинаешь? – Говорила она медленно, четко произнося каждое слово, точно боялась, что смысл сказанного не проникнет в его затуманенный алкоголем мозг. Несмотря на страшную худобу, ее фигура и лицо еще сохраняли следы прежней красоты.
Гьетачеу вынул сигарету, закурил, глубоко затянувшись.
– Есть не хочу, а вот выпить дай! – приказал он.
Ему ни в чем не было отказа. Тыгыст привыкла выполнять каждую его прихоть. Но на этот раз она не спешила подчиниться.
– Оглохла, что ли?
Ему временами казалось, что люди перестают его слышать. Это вызывало в нем раздражение. «Этот слепой и глухой мир!..» Тыгыст знала, что он не ел целый день, потому сначала принесла жаркое и лишь потом достала из буфета полбутылки виски.
– Женщина, что с тобой случилось? – вскинулся он. – Это стрельба так на тебя действует? Я же сказал: есть не буду!
– Поешь, милый, – мягко, но настойчиво проговорила она.
Он с трудом добрался до стула. Мутным взглядом посмотрел на полки с книгами. Их он считал своим богатством и гордился ими. Гостиная больше была похожа на библиотеку. Дрожащими руками он налил полстакана виски, добавил минеральной воды и выпил залпом.
– Не могу уснуть. Есть же на свете счастливые люди, которые засыпают быстро, – пожаловался он.
Когда он пил много дней подряд, его мучила бессонница. Он страдал физически и морально. И пил, пока не валился с ног или пока хватало спиртного.
Тыгыст с трудом сохраняла внешнее спокойствие. Сегодня она была сама не своя. Неосознанный страх владел ею. Жутко было от беспрерывной стрельбы на улице. Чтобы как-то отвлечь себя от тревожных мыслей, она сказала:
– Звонила твоя сестра.
– Что ей надо? Не удалось прибрать к рукам мои земли, что ли? – Слова, казалось, застревали у него в горле.
Между ним и сестрой никогда не было взаимопонимания. Госпожа Амсале восхищалась его гордостью, великодушием, умом и талантом. «Ах, если бы он не пил, – говорила она, – то многие ему в подметки не годились бы. – И тут же вспоминала его упрямство: – Уж если он что-то решит, вцепится зубами, ни за что не отпустит. Зверь, да и только. И от одной матери бывают разные дети!» Она считала брата эгоистом, мрачным затворником и ставила в пример свою щедрость и доброту, внимание к родственникам. Гьетачеу не очень-то привечал свою сестру, нередко с пренебрежением отзывался о ней. Госпожа Амсале обижалась на брата. «Делать ему нечего, вот он и охаивает родственников», – жаловалась она знакомым. Когда Гьетачеу бывал трезв, он относился к сестре благожелательнее. Ему нравилось, как она готовит. Он приходил к ней в гости и за уставленным яствами столом добродушно говорил: «Золотые у тебя руки, сестра. Угостить умеешь, как никто».
Не услышав ответа Тыгыст, он повторил:
– Что, не удалось ей захватить мои земли? Чего звонила?
Тыгыст знала, что Гьетачеу ждет от нее определенного ответа, а потому молчала. Он с сестрой в наследство от отца, фитаурари Ешоалюля, получили 30 гаша[25]25
Гаша́ – 40 га.
[Закрыть] земли и должны были разделить их пополам. Госпожа Амсале лишь иногда посылала брату зерно и овощи, но земли ему не дала ни одного гаша, опасаясь, что он все пропьет. А он и не требовал своей доли. Земельные угодья его ничуть не интересовали. Он признавал лишь те блага, которые человек приобретает своим трудом, а не получает по наследству. Когда его знакомые, которые унаследовали от родителей богатые поместья, угощали его виски, он презрительно отказывался. «Вы, как фашисты, пьете не виски, а кровь своих крестьян. Ваши деньги заработаны на их костях», – гневно говорил он, чем приводил их в замешательство. Нередко его острый язык становился причиной скандалов.
Гьетачеу всем сердцем ненавидел режим Хайле Селассие с его помпезными, оставшимися от средневековья титулами, с закосневшим продажным духовенством, с громадными помещичьими владениями и крошечными наделами крестьян, с разжиревшими на сомнительных сделках торговцами, с невыносимыми налогами. Если уж он бражничал с кем-либо, то не упускал случая провозгласить тост за «это проституционное правительство».
Наконец Тыгыст решилась.
– Дорогой мой, я, конечно, меньше тебя знаю, – произнесла она, – но мне кажется, что времена изменились, и…
Он грубо прервал ее:
– А я не изменился! Нет таких обстоятельств, которые смогли бы меня изменить. Ведь ты же знаешь меня, Тыге!
Да, ты не изменился. Но все-таки лучше бы тебе пойти утром на работу, – мягко увещевала она.
– Теперь не работают. Теперь только и делают, что заседают в дискуссионных клубах. А это не для меня. Так что у меня не осталось ни работы, ни влияния. Потому и сижу дома. – Он обиженно надул губы, как ребенок.
В сущности, он и оставался большим ребенком, капризным, требующим к себе внимания.
Раньше Гьетачеу был энергичным руководителем, старался сохранять объективность, стоял на страже законности. Одним из немногих он не брал взятки, пользовался авторитетом на службе, ненавидел интриги. Однако последнее время все шло кувырком. То ли с ним что-то произошло, то ли в окружающей жизни что-то сместилось – это было выше его понимания. Но его явно стали затирать и в конце концов сняли с руководящего поста. С горя он запил. И чем дальше, тем больше пил.
«Меня злит, – говорил он, – что мне мешают обеспечивать порядок в учреждении. В дискуссионных клубах сплошная демагогия. «В период революции мы не можем навязывать народу свою волю, как прежде», «Прошли времена администрирования!» Чушь! Я считаю, что вмешательство дискуссионных клубов в вопросы управления и политики – это не что иное, как анархия. Уважающее себя революционное правительство должно уважать власть – ведь оно само назначает руководителей – и требовать, чтобы ее уважали другие. Иначе в чем смысл власти?»
Эти вопросы волновали Гьетачеу. Он искал на них ответа, не мог найти и продолжал пить. Особенно его возмущали бессмысленные, противоречивые распоряжения некоторых новоявленных начальников. «Если им следовать, придется снимать брюки через голову», – с горьким сарказмом замечал Гьетачеу.
Сам он привык работать по плану, продуманно, вникая в суть вопроса. От природы Гьетачеу был человеком живого и быстрого ума, но теперь, когда он получал множество срочных и зачастую взаимоисключающих заданий, он возмущался, отказывался выполнять их – и небезнаказанно. Иногда он подумывал о том, чтобы покинуть Эфиопию. Однако Гьетачеу не мыслил своей жизни вне родины. Внутренние противоречия раздирали его, но, как бы там ни было, от твердо решил: «Мои страдания и моя могила должны быть здесь».
– Я тебя понимаю… – сказала Тыгыст.
– Подам в отставку. Что еще остается?
– Я слышала, начались аресты. У тебя столько врагов и завистников! Остерегись, не давай им в руки палку, которой они будут бить тебя же.
– Не могу я работать с такими бесстыжими людьми. Ты посмотри, кого посадили в начальственные кресла! Недоумков каких-то. Я наказываю разгильдяя за нарушение дисциплины, а мое распоряжение отменяют. Так теперь, видите ли, не годится. Даже вешают на меня ярлык реакционного бюрократа. Ха-ха, это я-то реакционный бюрократ! Дожил! Но я не из тех, кто пугливо поджимает хвост при первой же неприятности. Я им еще покажу! Понятно?
– Разве я не знаю твоего начальника? Он готов пить воду после осла, лишь бы выслужиться. Губы его улыбаются, а в сердце нет ничего человеческого…
– Потому что и сердца у него нет.
– Все-таки я советую тебе завтра утром пойти на работу. Не давай своим врагам повода еще больше оклеветать тебя. Боюсь, они тебя погубят…
– Да, сейчас много таких, кто пытается сводить личные счеты, прикрываясь лозунгами классовой борьбы. Но я… я никого не боюсь, никому кланяться не стану. Никакой я не реакционер. То, что я призываю соблюдать дисциплину и порядок, никому не дает права называть меня реакционером. Разве я похож на него, Тыге? Скажи!
– Ну что ты! Успокойся, милый.
Она знала его вспыльчивый характер. Если его задеть за живое, он теряет самообладание, и ничто не может его сдержать. Он не щадит тогда не только своих врагов, но и друзей. «Работа – не место сведения личных счетов и противоборства амбиций. Я не нуждаюсь в том, чтобы меня любили. Уважение – другое дело. Если ты провинился, пеняй на себя, а не рассчитывай на дружеское снисхождение», – говорил он. К друзьям на службе он был не менее требователен, чем к недругам, и, если они того заслуживали, наказывал по всей строгости. «Тот, кто стал другом Гьетачеу, неизбежно прольет слезы», – шутили сослуживцы.
Он налил еще виски и залпом осушил стакан.
– Я не верю ни в какие идеи Мао, в барачный коммунизм дискуссионных клубов, – сказал он, осоловело посмотрев на жену.
– Зачем тебе все это? Оставь ты политику. Делай потихоньку свои дела…
– Вот уж кто совсем рехнулся на почве политики, так этот… которого я устраивал на работу… как его?.. Деррыбье – слуга моей сестры. Представляешь, входит ко мне в кабинет и говорит: «Время бюрократов истекло. Лучше вам, старина, вступить в дискуссионный клуб».
– И то правда, – согласилась Тыгыст.
– Кажется, и тебя новая власть сделала слишком активной? Но я всех поставлю на место. Служба и дисциплина превыше всего. Меня возмущает, что начальство потакает безобразиям. Отсутствие элементарной дисциплины пытается объяснить революцией.
– Честолюбие тебя погубит.
– Не терплю, когда меня трогают. Ты ведь знаешь. – Театральным жестом он приложил руку к сердцу. – Тыге, я болен не от виски. Меня раздражает этот слепой и глухой мир. Я тебе сто раз говорил. Ты ведь знаешь, меня лучше не трогать.
– Знаю, конечно.
– Думаешь, я каменный?
– Напротив, ты все принимаешь слишком близко к сердцу, – возразила она.
– Чем я им всем не угодил? Во времена Хайле Селассие меня называли коммунистом. Всякая продажная тварь глумилась надо мной. Теперь меня причисляют к реакционерам. Да никакой я не реакционер, я только считаю, что порядок необходим во всем. Вот в чем моя болезнь. – Он снова налил себе виски. – Лучше бы я учился чему-нибудь другому, – закончил он, проклиная тот день, когда выбрал профессию журналиста.
Тыгыст не разделяла настроений мужа, но все его переживания были ей близки. Беспокойство за его судьбу подтачивало ее здоровье. День ото дня она таяла на глазах.
Она еще и еще раз пыталась уговорить его не лезть на рожон, пойти на работу.
– Только ради тебя, – кивнул он наконец, чтобы отвязаться от жены, хотя сам не верил, что выполнит обещание. Да и кому он теперь нужен? Было досадно думать, что ни одна душа и пальцем не пошевелит ради него, никто не придет уговаривать его вернуться на службу, как это бывало когда-то. Нет, не те времена!
Он все-таки немного поклевал жаркого с помидорами. Выпил чашку горячего чая.
– Тыге, я люблю тебя. Ты ведь знаешь. Ты не человек – ты божество. – Он встал и поцеловал ее в лоб. Покачиваясь, пошел в спальню, и Тыгыст, окрыленная новой надеждой, последовала за ним.
– Сон… спокойный сон… я еще сделаю свое дело. Ах, если бы люди понимали меня, как она, моя Тыге, мир перестал бы быть слепым и глухим, а стал бы радостным и ясным, – невнятно бормотал он.
Они уже много месяцев не спали вместе. А сейчас Гьетачеу захотелось обнять ее.
– Иди ко мне, Тыге, – прошептал он.
– Я люблю тебя, милый, – откликнулась она.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Ато Гульлят не сомкнул глаз ни на минуту. Темное лицо его потемнело еще больше. Всегда и без того красные маленькие глазки еще больше покраснели и слезились. Под глазами залегли глубокие морщины. Весь он скривился, правое плечо стало выше левого, грудь казалась впалой, спина согнулась. И видно было, что это не от старости, а от житейских невзгод и терзаний.
В комнату вошла госпожа Амсале; даже не вошла, а как бы вплыла вслед за своим пышным бюстом – странная у нее была походка. Слуги над ней зло посмеивались. Чтобы казаться выше ростом, Амсале всегда носила туфли на высоких каблуках, и по их стуку все знали о приближении госпожи еще до того, как она появлялась в комнате. Все полы в доме были изрыты ее каблуками, как лицо человека, переболевшего оспой. Только в спальне она стряхивала с ног эти ужасные тесные туфли.
Ато Гульлят бесцветным голосом промямлил «доброе утро», даже не повернувшись в ее сторону. Он не мог оторвать взгляда от жирного серого кота, который замер на диванной подушке. Немигающие зеленые глаза кота уставились на подоконник.
– Здороваешься спиной, – сказала она нарочито громко. Последнее время она стала одеваться сверхмодно – носила молодежные туфли и кофточки. Говорить и ходить тоже старалась как молодая. Но, к своему величайшему сожалению, не могла влезть в джинсы. Когда другие женщины надевали узкие брюки, она высмеивала их, сокрушаясь о том, что падает мораль. «Дерг, вместо того чтобы издавать указы о земле, о доходных домах и беспокоить знатных людей, издал бы указ, запрещающий носить джинсы! Сколько кривых ног было бы выставлено на суд людской!» А сама, чтобы похудеть, неделями сидела на жесточайшей диете, потом покупала очередные джинсы и часами вертелась перед зеркалом, придирчиво оглядывая себя со всех сторон. Ну и фигура! Живот и зад не желали никуда убираться. Вот и сегодня с раннего утра она пыталась влезть в эти злосчастные штаны – безуспешно. Настроение было безнадежно испорчено, и раздражение свое она вымещала на всем, что под руку попадется.
– Клянусь своим отцом, говорю тебе, не смей поворачиваться ко мне спиной! – прокричала она мужу надтреснутым голосом. Не получив ответа, госпожа Амсале еще больше распалилась, крутя короткой шеей, покрытой татуировкой. – Я тебе говорю! – не унималась она.
– Т-сс. – Ато Гульлят приложил палец к губам. – Тише! Сейчас он его схватит.
Кот уже неслышно спрыгнул на пол и крадучись подбирался к подоконнику, на котором беспечно сидел воробей. Ато Гульлят напрягся, будто вместе с котом принимал участие в охоте. Мысленно и он приготовился к прыжку.
Кот прыгнул. Полетели перья.
– Поймал, поймал! – вскрикнул ато Гульлят и захлопал в ладоши, как ребенок.
– Кто поймал? – Госпожа Амсале шагнула к подоконнику.
– Кот воробья сцапал, – радостно сообщил ато Гульлят. Ловкость и коварство маленького хищника привели его в восторг.
Госпожа Амсале застыла на месте. Недоумение изобразилось на ее круглой физиономии. Она таращила глаза на мужа.
– Ты что, спятил?
– Да это же замечательно! Он так терпеливо выжидал, караулил, а потом раз! – и все! Молниеносным ударом достичь цели!
– Бог ты мой! Что творится? Откуда такой куцый, кастрированный героизм? – Она явно набивалась на ссору, но ато Гульлят досадливо отмахнулся:
– Хоть бы утром ты не приставала ко мне! Ну, это уж слишком! Она злобно зашипела:
– Подкарауливать! Сидеть в засаде! Достойно наших деджазмачей и фитаурари, генералов и министров – тех, кто окружен слугами и почетом! Видели мы их геройство! Надеяться на них – что строить забор из камыша!
– Хоть бы ты поспала подольше! Закрой наконец свой ядовитый рот! – разозлился ато Гульлят. Но уж если жена открыла рот и тонкие губы ее вытянулись в трубочку, что особенно выводило из себя ато Гульлята, то ее ничем не остановишь. Он махнул рукой и, понурив голову, отошел к дивану. Взобравшись на него с ногами, он уставился на свою жену как на что-то очень неприятное.
Она тоже не сводила с него глаз, словно пыталась угадать его мысли.
До революции госпожа Амсале не очень-то считалась с мужем. Она воспринимала его как вещь – незаметную, не очень нужную, но к которой привыкла за долгие годы ее присутствия в доме. Мужу и детям она уделяла мало внимания. Ее больше заботили те 30 гаша земли, которые они с братом получили в наследство от отца. Лимоны, апельсины, бананы, кукуруза, бобы, пшеница, овес, теф, сахарный тростник, мед, масло – чего только не приносили ей эти земли! Крестьяне, сидевшие на оброке, привозили в город все эти богатства на машинах, лошадях, ослах. Она заставляла управляющего проверять вес продуктов, подсчитывала выручку за проданное. И с каким удовольствием расправлялась она с теми, кто не мог вовремя уплатить налог! Сколько радости доставляло ей измываться над несчастными бедняками, которые покорно стояли у дверей ее дома и взывали к милосердию госпожи! Эти люди зависели от нее, она была вольна распоряжаться их судьбами: смилостивиться и отсрочить выплату налога или отнять у арендатора последнее, пустить его семью по миру. Райская была жизнь! Потом грянула революция. Декреты Дерга о национализации помещичьих земель, доходных домов… Вся жизнь ее изменилась. Муж лишился всех титулов. И раньше-то он был не ахти какой величиной, а нынче вовсе пустое место, пенсионер. Горечь, горечь и досада, ненависть, тоскливое ожидание конца. У нее отобрали землю, то, на чем зиждилась ее жизнь, что делало ее влиятельным человеком, госпожой. Вместе с владениями она утратила гордость, уверенность в себе. Опустел ее двор, где всегда толпились просители и где она, госпожа Амсале, была главным судьей. Все кончилось.
Но хуже всего то, что, подобно нищему, убогому ходатаю, к ней подбирается старость, заглядывает в глаза. На душе становилось пусто. Ни в чем нет утешения. Все плохо. Даже муж, это ничтожество, который раньше пикнуть не смел в ее доме, – и он стал совсем другим, независимым от нее и даже не пытается скрывать свое презрение к ней, благодетельнице, точно не она, госпожа Амсале, когда-то вытащила его из грязи.
Она подсела к туалетному столику. Поправила на шее шарфик, скрывающий татуировку, в былые времена означавшую принадлежность к знатному роду, а теперь нелепый знак патриархальной старины. Платка на голове, как подобает женщинам ее возраста, она не носила, разве что в редких случаях, когда не успевала распрямить волосы.
Подкрасив губы, она продолжала свою обличительную речь:
– Забаву выдумал! Сидите в засаде хоть до скончания века – что в этом толку?! На какое чудо рассчитываешь? Разве ты не слышал, какая стрельба была вечером?.. Детей уводят из дома, и никого это не беспокоит. Пусть они борются, а мы дома отсидимся. Вот чудеса! Ну и мужчины пошли! Видно, не зря женщины начали носить брюки. Есть в этом какое-то предзнаменование.
Ато Гульлят скрючился на диване лицом к стене. Раздраженно ответил жене:
– Перестань ты зудеть. Привыкла всеми помыкать. Чего ты все: дети, дети?! – Его понесло. – Землю пахарю! Долой Эндалькачеу! Повесить его! Забыла пословицу: «От того, что заменишь горшок, вотт не станет вкуснее»? Создать временное народное правительство! Долой монархию! Молодежь кричала об этом больше всех. Вот и докричались. Накликали на нас беду. Болтать надо было поменьше…
Госпожа Амсале прервала его:
– Молодое поколение лучше вас. Эти люди готовы умереть ради того, во что верят. А такие, как ты, при первой же опасности сразу в кусты, сдались без единого выстрела, стоило лишь слегка припугнуть… – Она раздраженно поджала губы.
Ато Гульлят обхватил голову руками. Жить не хотелось от бесконечных упреков жены. Он чувствовал, как поднимается давление. Голова раскалывалась. Обдавало жаром. Болел желудок. Напоминала о себе печень.
– Оставь меня, мне и так тошно сегодня с самого утра, а тут еще ты!
Госпожа Амсале и не подумала посочувствовать мужу:
– Наверное, тебя тошнит от запаха той крови, что пролита в эти дни на улицах Аддис-Абебы.
– Умоляю тебя, ради всего святого, – взмолился он.
– Когда трус встречается со смельчаком, у него сердце в пятки уходит.
Ато Гульлят, поблескивая вспотевшей лысиной, повернулся к жене. Он едва не плакал.
– Тебе доставляет удовольствие оскорблять меня, я знаю. Но пойми же ты, нужна осторожность. Биться головой о бревно – это не героизм, а глупость. Зачем зря погибать? Если в бурный поток бросить камень, он не остановит течение. Надо суметь устоять, чтобы не сгинуть в водовороте событий.
– О, какой мудрец! Бог ты мой!
– Послушай, наконец. Нельзя все время безмозгло размахивать оружием. Нужна политика. Не только грубая сила, понимаешь? А умение лавировать, тактика. Нечего лететь прямо на огонь. Терпеливо, притаившись, выжидать благоприятного момента, а потом действовать. Это не есть трусость.
– Да-да, сидеть в засаде – ваша политика. Раньше хоть пытались изобразить воинственность, а теперь… А ну вас!
– Не торопи события. Все дело времени. Север страны уже взят. Осталась лишь Асмэра. Но она окружена. Горожане умирают с голоду. За несколько орешков арахиса отдают десять сантимов. Можешь себе представить! На востоке страны вся территория от Годе до Джиджиги в руках сомалийцев, Огаден полностью захвачен. Остались лишь Дыре-Дауа и Харэр[26]26
Речь идет о борьбе с сепаратистами в провинции Эритрея и об отражении агрессии Сомали против Эфиопии во второй половине 1977 г.
[Закрыть]. Но и там тоже голод. Нет ничего, кроме сладкого картофеля. На юге, в провинции Сидамо, положение тоже тяжелое. Не лучше и в других провинциях. Рас Менгеша и генерал Негга приближаются с войсками к Гондэру. А в Аддис-Абебе сама видишь, какая обстановка. Люди в замешательстве. Все меньше охотников называть себя революционерами. Крестьяне укрывают хлеб, автовладельцы не дают машин, разруха, голод. Иностранцы разъезжаются. На предприятиях нет запасных частей, оборудование выходит из строя. Западные страны оказывают противникам Дерга моральную и денежную помощь. В военном руководстве усиливаются разногласия. В ближайшее время что-то должно произойти. В войсках свирепствуют дизентерия и оспа. Армия деморализована. «Родина-мать зовет!» Что осталось от родины? Революция ввергла страну в хаос. Но погоди, уже недолго терпеть…
– А, ничего время не решит! – не соглашалась госпожа Амсале.
– Да разве тебе что-нибудь докажешь?!
Ато Гульляту хотелось выйти на свежий воздух. Но тут зазвонил телефон. Госпожа Амсале кинулась к аппарату.
– Где вы были вчера вечером?.. Я столько раз звонила! Вот нынешняя молодежь – даже не понимаете, что о вас беспокоятся… Только о себе думаете… А где Хирут? Спит? Что ты говоришь?.. Наш Деррыбье?! Вчера? Ну и дела! – Она положила трубку.
Ато Гульлят, успокоенный тем, что с детьми все в порядке, совсем было собрался выйти на улицу, но, услышав имя Деррыбье, задержался.
– Что с ним? Попал в аварию?
– Хуже.
– Ну скажи же толком!
– Его избрали председателем нашего кебеле. Прогневили мы бога. Вот он и наслал беду на нашу голову. Ну и новость! Деррыбье. Кто бы мог подумать! – У нее подкосились ноги, она в изнеможении присела на стул.
Ато Гульлята чуть было не хватил удар. Он еле дотащился до дивана.
– Ну и ну! Действительно только камень остается лежать на том месте, где его положишь. Пока живешь, не перестаешь удивляться. Деррыбье большой начальник. Государственный деятель! Боже, что еще готовишь ты чадам своим? – Госпожа Амсале нервно рассмеялась, будто ее пощекотали.
Ато Гульлят перестал что-либо понимать. Не Деррыбье ли всегда называл его «мой господин»?!
– Кончено теперь с господами, – вырвалось у него. В сердце закрался страх – ведь Деррыбье знает о тайнике с оружием. Он вспомнил, как Деррыбье, обливаясь потом, копал яму, и сейчас ему представилось, что в ту полночь Деррыбье вырыл ему, ато Гульляту, могилу. Поверить чужаку – все равно что черпать рукой туман. Да, над ним повисал черный туман… тень смерти… Черт бы побрал жену! Проклятье! Если бы тогда она не уговорила его припрятать оружие, сейчас ато Гульляту ничто бы не угрожало. Он злился на свою глупость. «Но Деррыбье каков! Вот если бы мои дети были бы такими же, как он, настойчивыми, упорными…» – думал он. Оставалось надеяться лишь на то, что Деррыбье, став большим человеком, не держит на них зла. Они с женой относились к нему как к сыну. Разве может он теперь навредить им, предать тех, кто его кормил? Деррыбье не из таких, успокаивал себя ато Гульлят.
– Ну вот, дождались! Говорила я тебе…
Ато Гульлят никак не мог отдышаться.
– Надо было раньше думать, нечего теперь слезы проливать о разбитом горшке. Что делать? Может, пойти и заявить об оружии?
– Ты же только минуту назад утверждал, что все решает время. А теперь говоришь, надо сдать оружие. Ты меня просто удивляешь! Два языка на одну голову!
Он смутился: в ее словах была правда, неприятная и унизительная. Беда, когда муж и жена начинают осуждать друг друга.
– И все же лучше сдать оружие, чем погибнуть, – сказал он, отдавая себе отчет, что постыдно трусит.
– Терпеть не могу паникеров, которые умирают каждый раз при малейших затруднениях. И чего ты перепугался? – Госпожа Амсале скорчила презрительную мину.
– Ну а что ты предлагаешь?
– Деррыбье хоть и не родной нам, но мы его воспитали. Ничего плохого ему не сделали. Если я и покрикивала на него, то так же, как и на своих детей. Мы его выучили, устроили на работу. Он не должен забыть, чем нам обязан. Нет, он нас не подведет. Помнишь, как-то приходил к нам? Давай пригласим его и осторожно выведаем все. Может, он забыл об оружии – и слава богу. А если помнит и будет молчать, так нам больше ничего и не надо!
Ато Гульлята не удовлетворило предложение жены.
– Нечего собак дразнить, сатану искушать. Позовем Деррыбье к себе, напомним ему об оружии, так он же нас и выдаст. Не ты ли сама твердишь, что человек меняется: завтра он будет совсем не таким, каким был вчера.
Госпожа Амсале косо взглянула на мужа:
– Да, это точно! Человеку верить можно лишь после его похорон. Но говорят же, что дым и смелый человек всегда находят выход. Почему бы нам не попытаться? Хоть он и чужой, но чем черт не шутит! Авось нелегкая вынесет. Может, сумеем договориться. Что ему стоит забрать у нас оружие тихонько, без шума, да и помалкивать?
Ато Гульлят не дослушал ее:
– Оставь ты, пожалуйста. До чего же ты наивна! Кому нынче охота другого выгораживать? Разве не знаешь – челядь только и мечтает, как бы выдать своих хозяев. Кто донес на фитаурари Белячеу, что у того на заднем дворе оружие? Слуга – и заметь, его считали самым преданным. Сегодня не только слуги предают своих хозяев, но и родные дети – родителей. Никто никому не верит. Злое время. Видать, придется нам пойти с повинной, – закончил он.
– Повинишься, а где гарантия, что тебя не арестуют? Думаешь, они дураки? Ну спросят: откуда у вас оружие – ведь мы обыскивали ваш дом? Что тогда скажешь?.. С неба свалилось? Простофиля, от настигающего сатаны не открестишься. Деррыбье все знает, лучше поговорить с ним начистоту.
– Если б ты тогда не заставила меня закопать оружие!..
– Да, ишь как обернулось-то. Думай, думай, что делать будем!
– Оставь меня. Заварила эту кашу – сама и расхлебывай. – Он беспокойно шагал по комнате из угла в угол.
Госпожа Амсале торжествовала. Она взяла верх над мужем. Все-таки она хозяйка в доме!
– Каким бы ни стал Деррыбье, к деньгам никто не равнодушен. Сколько людей спаслось с помощью денег! Мы тоже не бедняки, – намекнула она.
– Ты предлагаешь дать ему взятку? – воскликнул ато Гульлят.
– Именно! Деньги решают все! Иисуса Христа предали за деньги. Деррыбье как-то говорил, что копит на машину. Для него это вопрос престижа.
– Что верно, то верно. Он всегда был самолюбив, – поддакнул ато Гульлят.
– Если мы подкинем ему недостающую сумму, он будет держать язык за зубами. И потом, не забывай – только благодаря нашей протекции он попал в министерство. Он в наших руках, муженек.
Ато Гульлят с сомнением покачал головой.
– Надеешься на братца? Он теперь в министерстве не большая шишка.
– Большая не большая, а посодействовать может. Гьетачеу далеко не труслив. И даже если он не захочет нам помочь… Ты помнишь сына алека[27]27
Алека – настоятель монастыря.
[Закрыть] Текле, того, что прихрамывает?.. Уж он-то свой человек, – не сдавалась Амсале.