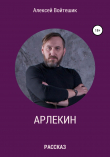Текст книги "Загадай желание (СИ)"
Автор книги: Александр Черногоров
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 23 страниц)
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
В то время как Деррыбье и Тесемма в сопровождении десяти членов отряда защиты революции направлялись к лавке, где прятались заговорщики, Гьетачеу, распрощавшись со знакомыми в кафе, сел в машину и поехал домой. Ворота открыл сторож, служивший семье много лет. Пропустив машину во двор, он поспешно закрыл ворота и подбежал к Гьетачеу, который еще не успел заглушить мотор.
– Чего тебе? – буркнул Гьетачеу недовольно. Он явно недобрал свое в кафе и потому был мрачен.
Сторож стал сбивчиво мямлить:
– Я… это… хотел вам помочь. – Он поскреб заскорузлой пятерней затылок.
Гьетачеу все понял.
– Держи, я сегодня добрый. – Он протянул старику бырр. Сторож почтительно поклонился и сразу же отошел. Он давно не видел хозяина таким трезвым, чему немало удивился. Обычно вечером его чуть ли не на себе приходилось тащить в дом. Тыгыст, увидев, что муж идет без посторонней помощи, даже слегка растерялась:
– Господи, в Аддис-Абебе началась засуха? – всплеснула она руками.
– В Аддис-Абебе начался «красный террор», – ответил Гьетачеу. – Стреляют везде, в кафе спокойно не посидишь. Чего у тебя глаза красные, опять ревела?
– Хирут пропала. Амсале и Гульлят места себе не находят – так волнуются. Тесемма был дома, но вечером ушел, тоже неизвестно куда. Ой, горе, горе!..
– Перестань ныть, прошу тебя. Терпеть не могу. Всегда у вас, женщин, глаза на мокром месте. Чуть что – в слезы.
– А ты бесчувственный. Племянница пропала, а ему плевать! – Чтобы успокоиться, Тыгыст взяла гребень и стала расчесывать волосы. – Ты как иностранец. Ничто наше родное, эфиопское, тебе не дорого. Ты и над обычаями нашими смеешься, как будто не эфиоп вовсе. Черный европеец – вот ты кто!
– Ну-у-у, понесло! Да что такое эфиоп вообще? – спросил Гьетачеу, вспомнив нашумевшую несколько лет назад статью в журнале «Аддис репортер». В ней с издевкой писали, что современные эфиопы с одной тарелки едят и мясо и пирожные, в быту придерживаются отсталых феодальных обычаев. Но при всем этом готовы до хрипоты спорить о проблемах западной философии и образа жизни, литературе и парламентской демократии. Если что и связывает их с цивилизацией, то только узел галстука. Автор саркастически завершал свою статью словами: «Не все то золото, что блестит. Застой в мозгах – вот подлинная причина отсталости».
Тыгыст бросила гребешок на диван, поправила волосы рукой.
– Как это «что такое эфиоп вообще»?! Такой вопрос может задать только черный европеец. Презирать обычаи и культуру своей собственной страны – это то же самое, что ненавидеть самого себя. Выходит, получил образование – и давай охаивай все вокруг! Вы – черные европейцы! Кожа у вас черная, а образ мышления пятнистый. Никакой от вас пользы. И вот, зная, что от вас никакой пользы, вы сами себя ненавидите. Ваша внутренняя пустота в вас вызывает неприязнь к самим себе. Вот вы и пытаетесь утопить недовольство собой в вине. Желая скрыть внутреннюю пустоту, злословите на соотечественников: трусливый народ… народ, который не может сражаться, если перед ним не будет стоять азмари[44]44
Азмари – бродячий певец.
[Закрыть], вдохновляющий на подвиги своей игрой и песней… хитрый и коварный народ… Но если спросите меня, кто эти трусы, хитрецы, эгоисты, алчные и коварные твари, готовые сзади напасть и ударить из-за угла, то я вам скажу, кто они. Это те самые «черные европейцы», забывшие, откуда они родом.
Гьетачеу достал сигарету и закурил. Ему страшно хотелось выпить. Слова жены задели его за живое.
– Что с тобой сегодня? Трещишь не переставая. У нас выпить что-нибудь найдется?
Тыгыст фыркнула:
– Попей из крана, пока не отключили. Ты хотя бы помнишь, что у нас за телефон, электричество и воду не плачено? За аренду дома за два месяца задолжали. Если бы Амсале не прислала тефа, то и без хлеба остались бы. Ни сантима нет в доме. А ты последние деньги на выпивку бросаешь. – Она опять заплакала.
«Все катится кувырком», – подумал он, а вслух упрямо сказал:
– Оставалось же немного виски!
– Как не остаться! В этом доме для тебя все есть. Он для тебя что гостиница. Приходишь только на ночь. Удобно устроился – и гостиница, и служанка при ней. Я для тебя просто вещь. Вещь, которую ты можешь взять, когда пожелаешь. Я для тебя всем пожертвовала. Молодость загубила… Сегодня даже служанка имеет какие-то свои права. Я же как была вещью, так ею и осталась.
Он открыл буфет. Там стояла початая бутылка виски. «Немного, но промочить горло хватит», – удовлетворенно подумал он. Опрокинув бутылку, он вылил содержимое в стакан, разбавил минеральной водой. Сделал большой глоток и от удовольствия даже крякнул.
– Из-за чего шум-гам? Опять поссориться хочешь? – спросил он, блаженно развалясь на диване со стаканом в руке.
– Хватит, надоело! – закричала она пронзительным голосом. – Не хочу больше жить с волком! – Она достала из сумочки зеркало, посмотрелась в него. Ей не понравилось собственное лицо – это была не та Тыгыст, что она знала раньше. Поморщившись, сказала: – Ужасно болит голова, – и приложила ладонь к виску.
Она часто жаловалась на здоровье, особенно когда была не в духе или на что-нибудь обижена. Чуть не каждый день Гьетачеу слышал, что у нее болит то сердце, то желудок, то голова, то почки, то печень. Очень мнительная, она приписывала себе всевозможные недуги. Причем каждый день недуги менялись, словно погода на улице. Знакомые шутя называли ее не Тыгыст, а Хымэмтэннява[45]45
Тыгыст – «терпение». Хымэмтэннява – «больная».
[Закрыть].
«Стареет», – размышлял Гьетачеу, потягивая виски и дымя сигаретой. Он смотрел на жену и думал, что, если бы у них был ребенок, возможно, все сложилось бы иначе. И не было бы этой горечи в сердце, и пустоты, и притупления чувств. А ведь когда-то он страстно любил эту увядающую теперь, сварливую женщину, да и теперь любит, иначе бросил бы. И все же чего-то не хватает. Жизнь какая-то пресная.
В молодости Тыгыст была красавицей. Ей нравилось бывать на людях, чувствовать на себе восхищенные взгляды мужчин и завистливые – женщин. Те времена давно прошли. Стройная жизнерадостная девушка превратилась в изможденную, преждевременно постаревшую женщину, с грустью рассматривающую в зеркале морщины на лице и без конца ругающую пьяного мужа.
– Вставай, пойдем к твоей сестре. Может, наша помощь нужна.
– Зачем? Провести вечер, шлепая губами?
– Когда что-то случается, семья должна быть в сборе. Вставай и пошли.
Она взяла сумочку и направилась к выходу.
Гьетачеу без особой охоты последовал за ней. Они пришли как раз к ужину. Стол ломился от кушаний. Лица присутствующих выражали воодушевление, как будто они собрались здесь не по печальному поводу, а на торжество.
– В честь чего пирушка? – спросил Гьетачеу госпожу Амсале.
Та уловила в его словах иронию. Нахмурилась.
– Никакая это не пирушка. Еще чего выдумал. Но гостей угостить надо, не сидеть же им голодными! Ты едок плохой, если хочешь, на вот, выпей. – Она налила ему виски.
Он поискал свободное место и сел между двумя людьми, которых знал. Один был врачом, другой адвокатом – дальние родственники.
– Щедрый стол, правда? По нынешним временам не часто такое увидишь. – Гьетачеу показал глазами на закуски.
– Эфиопы всегда любили хорошо поесть, – откликнулся адвокат. – Даже когда отправляются на прогулку, всегда берут с собой припасы. Мне кажется, чревоугодие – наша национальная черта. Как вы думаете, на что уходит три четверти бюджета средней эфиопской семьи? На пищу.
– И все на мясо! Хорошо, что у нас много религиозных праздников, перед которыми надо поститься, а то давно бы не осталось скотины, – подхватил Гьетачеу и усмехнулся.
У врача руки затряслись от возмущения, когда он услыхал такое.
– Не забывайте о наших соотечественниках, – с негодованием сказал он, – у которых нет порой и гороховой похлебки к обеду. Обжираются богатые, а бедные голодают.
– А, все одинаковы, – не соглашался адвокат. – Теперь, после декрета о земле, крестьяне весь урожай себе оставляют. Как вы думаете, что является одной из причин нехватки зерна на рынках? Крестьяне его припрятывают. В общем, любим мы свой живот. У нас и поговорки-то брюхо поминают. Я хоть сто штук назову. В самом деле, говорят ведь: «Терпелив, как живот», «Дороже живота нету добра». Ну-ну, вспоминайте, вспоминайте.
– «У кого болит живот, тому и серп не поможет», «Пусть горит у меня в животе, пламени от этого не будет», – меланхолично добавил врач.
– Ну и поговорки у тебя, доктор! Уж больно мрачные. Мне кажется, ты слишком взволнован. – Адвокат фамильярно положил ему руку на плечо.
– Заволнуешься тут. Мне пришлось отказаться от частной практики. Невозможно работать… – И он стал рассказывать адвокату о своих бедах.
Гьетачеу отвернулся. Он не слушал – неинтересно. Обычный обывательский разговор.
Где-то на дальней окраине города стреляли.
– Слышите? Стреляют! – сказал кто-то из гостей.
За столом воцарилась тишина, поэтому особенно хорошо стала слышна свадебная песня, доносившаяся от соседей.
Гьетачеу поискал глазами жену. Она сидела с какой-то женщиной и о чем-то доверительно беседовала с ней. Хотя женщина и старалась всем своим видом изобразить внимание, было заметно, что новости Тыгыст порядочно ей надоели. Гьетачеу подумал: «Неужели опять о своих болячках распространяется, сколько можно!» Но вместо того, чтобы разозлиться, он почувствовал жалость к жене. Вспомнился разговор перед выходом из дома: «Черный европеец… И тут и там вы никому не нужны. Никакой пользы от вас нет. Пустышки… Себялюбцы… Хотите убежать от правды жизни…»
А ведь сказанное – правда. В этом нельзя было не признаться себе. Потуги на значительность, а внутри пустота. Напрасно прожитая жизнь. Вот и сегодня вечер убит в кафе за бесполезными разговорами, с никчемными людьми. Жизнь пустая, как бамбук… Что будет дальше? Хватит ли сил перебороть себя, вырваться из порочной пустой суеты? Или все останется по-прежнему? Будущее представлялось ему беспросветным.
Вдруг у него в голове словно мыши забегали. Они ворошили ему мозги. Мыши… термиты… Они проникают через ноздри… Ястребы выцарапывают ему своими когтями глаза. Муравьи бегают по его белым костям. Собаки копошатся в его кишках. Черви ползают по его разлагающейся плоти… Писк, чавканье, сопенье…
Ангелы водят хоровод, играя на трубах. Когда они задевают друг друга крыльями, вспыхивает пламя. Искры сыплются во все стороны. Свирель… Свирель пастуха… Ровное большое поле… ни травинки на нем… скот топчет землю… Толпа… крики… много народа… голые… на них колокольчики… на головах венцы из иголок дикобраза…
Аддис-Абеба взрывается… бушует пожар… пламя перекидывается с дома на дом… мыши, бесчисленное множество мышей выбегают из домов на улицу. Огонь жжет их… Их шкуры горят… Морщатся… Объятые пламенем зверьки бегут, с писком заполняя улицы и дороги. Соломенные хижины горят… как факелы… многоэтажные здания полыхают… небо раскалывается от огня и дыма. Луна взрывается… Звезды падают, осыпаются, как росинки…
Полки в кабаках Аддис-Абебы трясутся и обрушиваются… Бутылки с виски, бутылки с ареки, бутылки с пивом, постукивая, валятся на пол… Спиртное течет вначале тоненьким ручейком, затем превращается в широкую реку и в конце концов становится застывшим морем крови. Взрываются столичные сортиры… Из расколовшегося надвое высотного здания типографии «Бырханна Селям» вываливаются печатные машины, ветер подхватывает листы бумаги и уносит их в небо, с седьмого этажа выбрасываются журналисты: их мозги, словно сопли, размазываются по асфальту. Тело журналиста-индуса Баньяна горит, разгорается, его глаза лопаются от жара. Конец! Конец журналисту. Нет новостей. Конец миру. Конец цивилизации.
Ну! Вперед, земля моей родины. Сатана тысячекрылый. Тысячезубый. Тысячепалый. Ну! Ну! К закрытым вратам небесным. Ну! К сидящему на своем троне насупленному богу. Ну, ну! Женщина моей родины, грудь у тебя открыта – э-эх! Ну! Вперед, земля моей родины…
Когда Гьетачеу неожиданно вскочил со своего места, сидящие около него люди вздрогнули. Он направился прямо к жене.
– Подымайся, пошли танцевать.
Она растерялась:
– Ради бога, что ты говоришь? – Тыгыст испуганно оглядывалась по сторонам. У него были тусклые, ничего не видящие глаза.
– Я тебе говорю, пошли танцевать!
– Как! Горе мне, что с ним? – воскликнула она, уткнувшись лицом в ладони.
– Ты что, не слышишь свадебную песню? Ведь свадьба!
– Что ты говоришь, Гьетту?
– Танец. Танец смерти. Танец. Хоровод, – неистово повторял он.
Госпожа Амсале, ее муж, адвокат, доктор, а также еще трое из находившихся в комнате мужчин обступили их.
Сжав голову руками, точно она раскалывалась от боли, Гьетачеу заговорил отчетливо и громко:
– Все вы глупцы! У вас заложило уши. Вы ничего не слышите. Вы не слышите, как кричат: «Реакционер! Реакционер!» Жители района, члены дискуссионных клубов хором скандируют: «Реакционер! Реакционер!» Почему меня называют реакционером?! Мое имя – Гьетачеу. Разве это не так, Тиге? Как это – реакционер? Зачем своими криками они лишают меня сна? Они врываются ко мне в спальню, донимают на службе, преследуют меня на улице своими криками: «Реакционер!» Разве у нас нет свободы? Они что, хотят оскорбить меня, когда малюют на всех стенах большими красными буквами: «Реакционер!»? Ну подожди! Я их сейчас впущу, одного за другим! – Он снова схватился за голову.
– Успокойся, – ласково сказал врач. – Мы сейчас их заставим замолчать. – И, взяв его под руку, отвел в соседнюю комнату.
Тыгыст, плача, пошла за ними. Остальные сочувственно причмокивали и качали головами: «М-да!» Госпожа Амсале раз десять при этом повторила:
– Ой, горе, ой, горе!
– Ты мне дашь лекарство? – спросил Гьетачеу врача, когда они остались одни.
– Да.
– И они замолчат?
– Да, замолчат!
– Не будут кричать мне: «Реакционер! Реакционер!»?
– Нет, не будут. Они замолчат!
Доктор достал из кармана две небольшие таблетки, дал Гьетачеу и сказал, чтобы он их проглотил.
Гьетачеу послушно сунул их в рот, снова спросил:
– Значит, крик прекратится, его совсем больше не будет?
– Абсолютно.
– И я засну?
– Моментально и глубоко.
Его положили на кровать госпожи Амсале. Врач повернулся к Тыгыст:
– Перестань плакать, бодрись! Все будет хорошо! Он, видно, перенапрягся. У меня то же самое. Я сам принимаю это лекарство. Помогает. Это успокоительное. После него хорошо спится, и наутро чувствуешь себя нормально.
Утирая слезы, Тыгыст спросила:
– Ты думаешь, с ним ничего серьезного?
– Поверь мне, он вполне здоров, – успокаивал ее врач.
– Ты же видел, какой он! Разве не слышал, что он говорил?
– Ничего страшного. Возбудился, вообразил невесть что. Ему надо отдохнуть, и все будет в порядке. Не беспокойся, завтра он проснется свежий, бодрый.
Ей трудно было поверить в это.
Деррыбье надеялся избежать кровопролития. Когда его отряд приблизился к лавке, где должна была находиться Хирут, он распорядился до особого приказа не стрелять. Окружив лавку, бойцы заняли позиции. Деррыбье взял мегафон и стал кричать:
– Эй, в лавке, вы окружены! Мы обращаемся к вам с революционным требованием: сдавайтесь! Выходите по одному, без оружия.
С небольшими интервалами он повторил это обращение несколько раз. Однако ответа не последовало. Из лавки не доносилось ни звука, словно там никого не было; правда, свет вдруг замигал и погас. В соседних домах тоже стали тухнуть огни. Стало совсем темно и тихо. Тесемма лежал на земле. От волнения учащенно билось сердце. Он шепнул Деррыбье:
– Как ты думаешь, что они делают?
Деррыбье тоже охватила тревога.
– Откуда я знаю? Будем ждать, хоть всю ночь. В конце концов они попытаются выйти. Они окружены, и им не убежать. Я надеюсь, до крайности не дойдет.
– Я же тебе говорил, что Лаике – сущий дьявол. Он лучше умрет, чем добровольно сдастся.
– Такой уж он неустрашимый? Ты его давно знаешь?
– Относительно. В Организации христианской молодежи он был известен своими успехами в тяжелой атлетике. Ты даже представить себе не можешь, как он гордился своей мускулатурой. Я не видел другого человека, который был бы так влюблен в себя. Он жесток и решителен. Подавляет многих своей волей. Может быть, из-за этого мы и примкнули к его ячейке. О его отце шла дурная слава. Когда-то он был рабом, которого использовали при охоте на диких зверей. Потом ему удалось откупиться. Разбогател же он на торговле слоновой костью. Во время итальянской оккупации он воевал, только неизвестно, на чьей стороне. После войны ему удалось всех убедить, что он якобы действовал в стане врага, помогая партизанам. За военные заслуги – наверно, не обошлось без подкупа – ему даже присвоили высокий титул. Ну а когда разразилась революция, он сколотил банду, выступал против новой власти. Бесчинствовал, пока не погиб. Насколько я знаю, сын жаждет отомстить за отца. Он переполнен злобой.
– Посмотрим, – сказал Деррыбье. – Вряд ли человек, который влюблен в себя, пойдет на смертельный риск.
– Я боюсь за Хирут. Она безрассудна. Играет с опасностью. Теферра из-за нее попал в эту историю. Несчастный парень любит ее без памяти.
В то время как Деррыбье и Тесемма лежали, переговариваясь, Лаике в подвале лавочки, словно разъяренный лев, метался из угла в угол. Он ни на мгновение не присел после того, как им предложили сдаться. Его смуглое лицо было покрыто крупными каплями пота, копна жестких курчавых волос всклокочена.
Теферра, неестественно бледный, повторял:
– Вот и конец, чему быть, того не миновать. – Он облизывал пересохшие губы.
Все, кто находились в подвале, были сильно напуганы. Кто-то, забившись в угол, тихонько всхлипывал. Другие нервно поправляли волосы, одежду, хватались за оружие. Их глаза лихорадочно блестели. Лица людей посерели.
– Сколько веревочке ни виться… – причитал Теферра.
– Заткнись ты! – прикрикнула на него Хирут. – Чего одно и то же твердишь? Лучше придумал бы, как отсюда выбраться. Еще не все потеряно. Главное – не паниковать. Не может быть, чтобы не было никакого выхода.
Теферра, открыв рот, некоторое время внимательно смотрел на нее, затем твердо сказал:
– Кончились шуточки, моя красавица! Ты хорохоришься, но мы сейчас перед лицом смерти. Может, через минуту нас уже не будет на этом свете. Не будет! Понимаешь?! Мы обратимся в прах. Ясно тебе? Выхода у нас нет. Пойми ты! Мне все безразлично. Я жил ради тебя. Теперь окончилась моя игра в прятки.
Вены у него налились кровью. Сердце наполнилось отчаянной храбростью. Как ни странно, теперь он не испытывал страха, он был спокоен, как человек, которому нечего терять.
– Почему бы нам не позвонить в другую ячейку, не попросить подмоги? Только так мы сможем выбраться отсюда. – Голос Хирут дрожал.
– Сдаваться надо. Я не хочу умирать. На кого я мать оставлю? Сдаваться! – истерично выкрикнул какой-то юнец и бросился к лестнице.
– Стой, сопляк. Струсил? – Лаике преградил парню дорогу и ударом кулака свалил его на пол. Тот, размазывая по лицу сочащуюся из носа кровь, на четвереньках пополз в дальний угол. Оттуда еще долго доносились его всхлипывания.
– Кто еще надумал сдаваться? – грозно вопросил Лаике. Ответом ему было гробовое молчание. – Эх вы, трусы! Какая у вас гарантия остаться в живых, если вы сдадитесь? Никакой! Расстреляют вас всех. Умереть трусливо или погибнуть геройски – вот в чем выбор. Я предпочитаю последнее. Но сейчас важно другое. По чьей вине мы оказались в таком положении? Я думал об этом. Среди нас есть предатели. Вот они. – Лаике показал пальцем на Хирут и Теферру.
– Мы предатели?! – воскликнула Хирут; глаза у нее округлились.
– Где твой брат? Кто знает, что ты передала условленным кодом, когда звонила Деррыбье? Заранее сговорились, не так ли? Иначе как они могли нас здесь найти? – Лаике выхватил кольт, направил его на Хирут.
Теферра прыгнул вперед и оказался между ними.
– Не дури. Никакие мы не предатели. Никто ни с кем заранее не сговаривался. Лучше нам не ссориться. Времени у нас нет. Если они откроют огонь, нам крышка.
Лаике был совершенно мокрым от пота. Ноздри его раздувались, как мехи. В глазах горели дьявольские огоньки.
– Они не откроют огня, – выдохнул он. – Они хотят меня схватить живым, чтоб потом мучить, истязать. Они меня не пощадят, но и вас не помилуют. Они будут меня пытать, живьем кожу сдерут. Но я не дамся. Они не коснутся моего тела, тела Черного Аполлона. Я их прикончу раньше. Но прежде ликвидирую внутренних врагов. Вы – предатели! – исступленно кричал он, пена выступила у него на губах.
Теферра стал оттеснять Хирут в угол.
Лаике, словно зверь скаля зубы, надвигался на них и рычал: «Предатели! Шпионы! Черный Аполлон не умрет!» Теферра выставил свой пистолет и выстрелил первым. Падая, Лаике дважды нажал на курок. Словно подкошенный, Теферра рухнул на пол. Хирут, схватившись руками за живот, шептала:
– Я не верю! Не верю! Господи, сделай так, чтобы все это было не наяву!
Она отняла руки от живота и посмотрела на них. С рук капала кровь. Алая струйка выливалась из раны и текла по черным брюкам. «Вот и все, – пронеслось у нее в мозгу. – Ведь мы хотели весь наш район расцветить красным, оклеить листовками. Это все сон, кошмарный сон. Я не верю!» Силы оставили ее, она медленно опустилась на пол. Теферра, весь в крови, пополз к ней. Коснулся ее руки, слабым голосом стал звать:
– Хирут! Хирут!
– Теферра… Скажи, это все правда?
– Правда, моя Хирут! Мы глядим в лицо смерти. Потерпи! Сейчас все пройдет. Какое это счастье – умереть вместе с любимой. Хирут! Хирут!
У нее все плыло перед глазами. В сгустившемся сумраке, хотя и горела лампа, мелькали какие-то фигуры, откуда-то издалека доносились приглушенные голоса, топот. Серый холодный туман окутал все…
Теферра повернул голову к парням, которые от неожиданности и страха замерли с открытыми ртами. Собрав все силы, он приподнялся и отдал приказ:
– Всем руки вверх!
Они подчинились.
– Руки вверх! Лицом к стене! Не шевелиться!
И Теферра потерял сознание…
Когда в лавке раздались выстрелы, Деррыбье понял, что дальше медлить нельзя, и бросился вперед:
– За мной!
Плечом он вышиб дверь и ввалился в лавку. Тесемма не отставал. В верхнем помещении было темно. Тесемма, бывавший здесь прежде, быстро нашел потайной ход.
– Сюда! – Он нырнул под прилавок и, не дожидаясь остальных, чуть ли не кубарем скатился по лесенке вниз, в подвал. В первое мгновение его ослепил горевший там свет.
– Хирут, Хирут! – позвал он, зажмурившись.
Сзади тяжело топал Деррыбье, за ним еще несколько человек. Уже в следующую минуту Тесемма увидел три распростертые на полу тела. По углам жались какие-то люди. Они стояли с поднятыми руками. Тесемма склонился над сестрой.
– Хирут, родная, это я во всем виноват. Не уберег тебя. – По его щекам текли слезы.
Деррыбье отдал короткий приказ бойцам, те стали обыскивать задержанных, изымали у них оружие, по одному выводили наверх. Тем временем Деррыбье опустился на колени перед бездыханными телами мужчин.
– Оба мертвы, – констатировал он. Затем приложил ухо к груди Хирут, долго слушал. – Дышит. Она жива, – радостно сообщил он Тесемме.
– Ее нужно немедленно в больницу, – засуетился Тесемма. – Эх, везти не на чем! – с отчаянием воскликнул Деррыбье.
– Тогда домой! Здесь недалеко. Быстрее.
И тут девушка открыла глаза, с большим трудом. Едва слышно выдохнула:
– Деррыбье?
– Молчи. Тебе нельзя говорить. Крепись.
– Как я ненавижу твое имя…
– Придумаешь другое, когда поправишься. Сейчас помолчи. Береги силы.
– Где Теферра?
Ей никто не ответил. Она опять закрыла глаза.
– Ее нельзя оставлять здесь ни на минуту. Беги за врачом, я отнесу ее к вам домой, ну, живее!
Тесемма кивнул. Деррыбье поднял девушку на руки. Она застонала.
– Куда теперь меня?
– Домой, затем в больницу…
– Подлечите – и к стенке? Лучше бы ты убил меня здесь.
Деррыбье спокойно ответил:
– Глупенькая, неужели ты не понимаешь?! Наша цель не расстреливать таких, как ты, а по возможности возвращать в ряды борцов за революцию.
– Я тебе не верю.
– Верь мне. И верь революции.
Хирут не расслышала его последних слов. Она опять впала в беспамятство. Деррыбье осторожно прижал к своему плечу запрокинувшуюся голову девушки. Убрал с ее лба шелковистые черные пряди.
С Хирут на руках, в сопровождении двух бойцов он вышел на улицу и направился к дому ато Гульлята. «Жаль, не успел я сегодня со всем разобраться, а ведь хотел. – Он вспомнил об оружии, спрятанном во дворе своих бывших хозяев. – Ничего. Завтра день будет».
Улица была пустынной. Дул порывистый ветер.
Окруженная звездами луна, словно ослепительная девушка, то появлялась, то исчезала в тучах. Деррыбье же казалось, что небо черное-черное и все усыпано красными звездами. Иногда он останавливался и слушал, бьется ли у Хирут сердце. «Дышит! Дышит!»
И он шел дальше, невзирая на усталость. Сейчас главным было спасти Хирут. Руки занемели, ныла спина, но он и не подумал попросить товарищей, чтобы ему помогли. Нет, эту девушку он никому не отдаст. Появляясь в разрывах облаков, луна освещала дорогу бледным светом. Она ему о чем-то напоминала. Он вспомнил. Вспомнил выписанные в блокнот рукой Эммаилафа слова русского писателя Николая Островского:
«Самое дорогое у человека – это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое и чтобы, умирая, смог сказать: вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире – борьбе за освобождение человечества».
Когда Деррыбье с Хирут на руках достиг дома ато Гульлята, до него донеслись звуки свадебной песни «Мой жених, моя невеста». Песня, разгоняя тишину, пробиваясь сквозь тьму ночи, ширилась, росла и крепла…