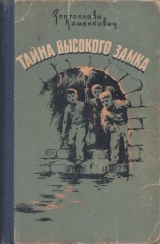
Текст книги "Тайна Высокого Замка"
Автор книги: Златослава Каменкович
Жанр:
Детские приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 21 страниц)
Часть третья

Глава первая. «Новый порядок»

Не привыкать Ганнусе и Петрику ютиться в подвале. Но конура, где они сейчас живут, этот «покой» размером в пять квадратных метров, даже их приводит в уныние: штукатурка на стенах отвалилась от сырости, вместо окна – узкая щель с железной решёткой.
– У людей солнце встанет и утро настанет, а тут и днём и вечером потёмки, – хмурился Петрик.
Ковальчук привёл их сюда с Мартыном Ткачуком ещё в первые дни оккупации Львова. Не знал отец, кому вверял судьбу своих детей, не знал, что отныне станут они заложниками.
Петрик смутно припоминал этот двор, выстеленный квадратными каменными плитами. Неужели это та самая прачечная? Какая низенькая! Даже смешно вспомнить, как тогда Петрик боялся спрыгнуть с этого окна. Пожалуй, не скажи Ганнуся, что они здесь когда-то жили, Петрик ни за что бы не узнал виллу коммерсанта Стожевского.
В этот предрассветный час Петрик проснулся от тихого, тревожного голоса сестры.
– Ты уверен, что будешь в безопасности?
– Да, дитятко.
– До конца полицайцайта осталось три часа…
– Не надо беспокоиться, дитятко. Пропуск от ихней ортскомендатуры у меня в полном порядке.
– Что этим зверям стоит убить человека!..
Петрик осторожно напомнил о себе.
– Не спишь, сынок?
– Куда ты уходишь, тату?
Сын был ещё мал, и Ковальчук не мог сказать, какое опасное дело поручила ему подпольная партизанская организация.
– Вы будете обо мне знать, сынок… Соседям, если спросят, говори – в Неметчине…
– Ясно, – подавленно ответил Петрик.
– Ну, ну, – шутливо потрепал сына по плечу Ковальчук, но от Петрика не укрылась грусть в голосе отца.
– Скоро вернёшься, тату?
– Постараюсь… Ты, Петрик, теперь за старшего в нашем доме. Береги сестру, и вот её… Кроме нас, у Марци нет никого…
Марце было около трёх лет. Ковальчук нашёл её возле костёла Марии Снежной. Ребёнок спал, припав заплаканным личиком к пыльным кирпичным ступенькам лестницы. В кулачке у девочки была зажата записка. Ковальчук осторожно вынул и прочитал: «Если у вас есть сердце, спасите ребёнка. Родители убиты…»
Уходя, Ковальчук погладил спящую Марцю по головке.
– Уже уходишь, татусь?
– До свиданья, сынок, – отец поцеловал Петрика в голову.
Не было ещё и пяти утра, когда Ковальчук вышел из дому и потонул в предрассветном тумане.
Ганнуся работала санитаркой в Доме младенца на Песковой улице. Она уходила рано утром и возвращалась за пятнадцать минут до полицайцайта.
Это случилось, когда её не было дома.
Во двор вкатила легковая машина. Рядом с шофёром сидел эсэсовец в пенсне, очень похожий на гуся. Он поспешно распахнул дверцу и помог выйти из машины молодой, красивой женщине в трауре.
Через два часа, при помощи трёх молодчиков в форме «украинской полиции», весь дом был очищен от жильцов, поселившихся здесь ещё осенью 1939 года, когда коммерсант с женой удрали в Варшаву.
Заслышав тяжёлую поступь полицаев, Петрик заперся на засов. Он готов был скорее умереть, чем открыть им дверь.
Марця, которую Петрик припугнул щурякой [13]13
Крыса.
[Закрыть], забилась под одеяло и замерла.
Сквозь закрытые двери Петрик слышит голос пани в трауре.
– О, панове, здесь живёт бедная девушка и её маленький брат. Их не надо трогать, пусть живут, они мне не помешают.
Шаги удаляются.
Петрик отмыкает засов и выглядывает во двор. «Значит, эта красивая пани, одетая во всё чёрное, – не немка?..»
Ганнуся пришла намного раньше обычного. У неё болела голова.
Петрик сбивчиво рассказал сестре, что произошло.
– Заступилась за нас, не позволила этим шупо [14]14
Так презрительно называли немецко-украинскую полицию.
[Закрыть]ворваться сюда. Она добрая…
– Ой, добрая, – со злой усмешкой покачала головой Ганнуся. – Да у неё в месяц по две служанки менялись, такая она добрая.
– Я её, кажется, узнал… Она тогда в баре «Тибор» подарила мне аж два злотых…
– Кто?
– Она…
– Что ты мелешь? Забыл что ли, как тебя в прачечной днём и ночью под замком держали!
– А это ещё раньше было! Когда мы жили у дяди Тараса.
– Стала бы она по барам шататься!
– А вот и шаталась, – упрямо стоял на своём мальчик. – Я всё теперь вспомнил. Всё!
Петрик приник к уху сестры и чуть слышно прошептал:
– Чтоб меня молния испепелила, если я брешу… Она и этот… Мартын Ткачук. Он тоже поляк, а выдаёт себя за украинца… Я ж теперь всё, всё припомнил…
– Да что ты?
– Могу даже поклясться…
– Сходи на Коперника…
– Ладно.
– Откроют дверь, что ты должен сказать?
– Прачка просила передать, что бельё будет готово вечером, – шёпотом выпалил Петрик.
– Скажешь…
– Не маленький, знаю, что сказать, – тихо пробасил мальчик. – И что ты заболела скажу.
– Нет, нет, не надо!.. Татку скажут, а он возьмёт да и придёт сюда… Это же опасно… Не говори, слышишь?..
– Как хочешь.
– Один не ходи… Забеги за Васильком. Его оставишь на улице, пусть наблюдает – не следят ли за тобой.
Петрик мчится к Васильку. Здесь он застаёт Йоську и узнает о новой беде: Йоська и его мама, согласно немецкому приказу, в течение трёх месяцев обязаны перебраться за железнодорожный мост, в кварталы северного предместья. Там будет еврейское гетто. Но этого ещё мало, Йоська и его мама должны немедленно пришить на правый рукав своей одежды белую повязку с голубой звездой. И под страхом смерти они не смеют больше ходить по тротуарам, а только по мостовой.
– Я не хочу в гетто! Я не хочу, как лошадь, ходить по мостовой! – возмущался Йоська. – Я ж в этом доме родился, зачем я должен уходить отсюда?
– А вы не признавайтесь, что евреи, – тихонько подсказала одна из сестрёнок Василька. – Скажите немцам – мы украинцы! Теперь тут у Львове будет Украина. Я сама слышала, возле ратуши радио так говорило.
– Молчи, дура, если ничего не понимаешь! – обругал девочку Петрик. – «Будет Украина…» Да тут с испокон века – Украина! Ещё сам Данило Галицкий Львов построил… А фрицы теперь переиначили по-своему – «Лемберг». И все улицы переиначили на немецкий лад. Язык скрутишь, пока выговоришь…
– Ох, Петрик, прикусил бы ты лучше свой язык! – нахохлилась Катруся, забежавшая в комнату за синькой. Она внизу, в общественной прачечной, помогала матери стирать чужое бельё. – За такие слова, Петрик, тебя схватят и в Неметчину угонят, как нашего батька. А то ещё и…
– Не боюсь их!
– Я тоже не боюсь, – с сомнением проронил Йоська. Он никак не мог забыть ту страшную картину, свидетелями которой они стали на улице св. Софии, когда относили с Васильком постиранное бельё одному клиенту.
Три пьяных эсэсовца в чёрных мундирах с черепами на петлицах в сквере привязались к девочке лет пятнадцати. Бедняжка со слезами умоляла их отпустить её. В это время мимо проходил старик-священник, который с крестом в руках стал упрашивать гитлеровцев не обижать девочку. Тогда пьяные фашисты накинулись на священника, сорвали с него рясу, скрутили ему назад руки и подожгли бороду. Старик упал на землю и начал биться лицом о песок, чтобы загасить огонь. Эссэсовцы пинали его ногами, дико смеялись. И неоткуда ему было ждать помощи во всём божьем мире. Один из фашистов выхватил револьвер и застрелил старика.
Ночью Йоське приснился священник с глазами, в которых застыл ужас. Сперва горели две восковые свечки, потом они начали быстро таять, и Йоське почудилось, что это капают чьи-то слёзы. Потом он ясно увидел – это плачет старик. Плачет и тушит о песок свою бороду…
Йоська вскрикнул и проснулся. На краю низкой деревянной кровати сидела мама и шептала молитву…
Но пока на рукаве куртки Йоськи ещё не было «повязки Давида», он равноправно шагал по тротуару рядом с друзьями.
Знакомые улицы, но с чужими теперь названиями. На каждом шагу таблички «Юден айнтритт ферботен» [15]15
Евреям вход воспрещён.
[Закрыть]. На дверях всех лучших магазинов, кафе, трамваев, ресторанов, аптек надписи: «Нур фюр дойче» [16]16
Только для немцев.
[Закрыть].
– Всё для фрицев, – зло бурчит себе под нос Василько. – А что же тогда для людей?
– Вам ещё хорошо, – вздыхает Йоська. – Украинцу норма хлеба двести граммов в день на каждую душу, а еврею на всю неделю – четыреста граммов. Будто бы не все одинаково хотят кушать…
– Глядите, хлопцы, опять какой-то новый приказ…
– Читай, читай, Петрик, – попросил Йоська, который из-за близорукости не мог ничего разобрать – приказ висел высоко.
«За малейшую попытку насилия и вражеские выступления против всех, принадлежащих к немецкой армии, виновные караются смертью, – читал Петрик. – Если не удастся задержать виновных, будут применены репрессии к ранее задержанным заложникам…»
– Как это – репрессии? – не понял Василько.
– А заложники? – пожал плечами Йоська.
– Расстреляют – вот и всё…
Петрик, соблюдая осторожность, повёл ребят через какой-то проходной двор, потом через бывший пассаж Миколяша и, наконец, расставив на улице своих дозорных, шмыгнул в нужный ему двор.
Через несколько минут мальчик остановился у знакомых дверей и условно позвонил.
Дверь не открывали.
Он ещё раз позвонил по всем правилам, как его научила Ганнуся.
– Иду, иду! – послышался чей-то недовольный, хриплый женский голос.
– Чего тебе? – открыла дверь женщина в пижаме и с сигаретой в зубах.
Петрик медлил.
– Чего тебе тут нужно? – переспросила она по-польски.
– Прачка просила передать, что бельё…
– Какое ещё бельё? – зябко пожала плечами женщина и захлопнула дверь перед оторопевшим Петриком.
Нет, Петрик не ошибся адресом. Это был именно тот дом, и та лестница, и та дверь…
Он опять вернулся и, набравшись духу, позвонил.
– Что ты хулиганишь, паршивый мальчишка! Хочешь, чтобы я полицию позвала? – как с цепи сорвалась женщина в пижаме. – Сейчас же убирайся вон и не смей больше тут звонить!
Дверь захлопнулась.
Петрика обдало ледяным ветерком страха.
«Неужели арестовали?..»
С тяжёлым сердцем он вернулся к друзьям.
Не успели мальчики завернуть за угол, в сторону главной почты, как вдруг Петрик тихо вскрикнул, почувствовав, как у него сразу пересохло во рту.
– Чтоб я так жил… Это ж старый профессор! – вскрикнул Йоська.
Старик нахмурился, давая мальчуганам понять, что им не следует его узнавать.
– Пошли как ни в чём не бывало, – шепнул Петрик, пересилив внезапный испуг.
И мальчики прошли мимо старого профессора, которого двое повели к машине.
Первым сел в машину чиновник рейхскомиссариата (мальчики определили по форме), затем профессор, а вслед за ним протиснулся тучный господин в гражданской одежде.
Петрик до боли стиснул руку Васильку.
– Арестовали…
Совсем побелевшие за последние дни волосы профессора, откинутые назад, открывали огромный лоб. Густые с проседью брови были строго сомкнуты. Но вот его глаза скрестились с горящими глазами Петрика. И в этот короткий миг, когда ни один мускул не дрогнул на лице профессора, казалось, Петрик уловил в уголках губ старика добрую улыбку друга.
Хлопнула дверца, приглушённо заурчал мотор и «Мерседес» рванулся вперёд.
– Бежим… надо выследить, куда они его повезут!
Мальчики бросились вслед за Петриком, но машина, как ртуть, ускользнула и где-то в сплетении улиц за Академической совсем скрылась из виду.
Между тем, «Мерседес» остановился на улице Пининского, возле белой виллы вице-губернатора Отто Бауэра. Тот, что был в штатском, очень вежливо попросил профессора сойти.
Старый профессор обвёл глазами знакомую улицу. В ста шагах от белой виллы находился дом великого украинского писателя Ивана Франко. При жизни писатель дружил с профессором. Сколько смелых дум когда-то рождалось под крышей этого дома! Сколько жестоких битв и сколько трудных побед одержали Иван Франко и его единомышленники, прокладывая чуть ли не первыми дорогу передовым идеям того времени. Теперь этот дом-музей занимал немецкий барон, который варил во Львове мыло.
Профессор поднял голову. Ещё никогда ему не приходилось видеть такого неба. Один край был голубой, с редкими розовато-прозрачными облаками, другой – совсем затянут свинцово-чёрными тучами. Там, над холмами, шёл дождь. И вдруг неожиданно ярко от светлого края неба за Черногорским лесом, в самую толщу этих туч, как меч, вонзилась радуга.
Сопровождающий в штатском распахнул перед профессором чугунную калитку. Он же проводил профессора в кабинет вице-губернатора.
– О! Я рад, очень рад вас видеть у себя, герр профессор! – как старого друга, встретил старика Отто Бауэр, хотя до этого никогда не встречался с учёным.
Огромный кривоногий бульдог, рыча, приподнялся с ковра.
Бауэр бросил испытывающий взгляд на профессора, как бы желая увериться, какое впечатление произвёл на гостя его свирепый телохранитель.
Но глаза профессора были прикованы к уникальному автопортрету Рембрандта. Узнал он и знаменитые картины художников Матейка, Рубенса, Дюрера. Всё это профессор ещё недавно видел во Львовской картинной галерее. Вероятно, дорогие гобелены, ковры и мебель в этом доме тоже были награблены.
– Прошу вас, присаживайтесь, герр профессор, – угловатым жестом скупца показал Бауэр на коричневое кожаное кресло.
Профессор медленно сел.
– Мне известно, вы прекрасно владеете немецким языком.
– Знаю этот язык, – сухо ответил профессор.
– Вот и отлично, мы будем говорить с вами как добрые, старые друзья. Вы, конечно, не догадываетесь, зачем я вас пригласил к себе.
– Нет.
– Так вот, мы хотим, чтобы вы, герр профессор, написали статью о вашем великом национальном герое Богдане Хмельницком.
– Богдане Хмельницком? – удивлённо приподнял левую бровь профессор и пристально посмотрел на Бауэра.
– Да, дорогой герр профессор, – тем же скупым жестом протянул через стол свой золотой портсигар вице-губернатор.
Профессор отрицательно качнул головой и, молча достав из кармана трубку, зажал её в зубах.
– О, понимаю!
Профессор ничего не ответил. Закрыв глаза, он думал.
– Герр Бауэру, конечно, известно, – наконец твёрдо сказал он, – что я много лет вёл борьбу с Грушевским и его буржуазно-националистической школой.
Бауэр заметно побагровел.
– Но я надеюсь, что в вопросе жизни и деятельности Богдана Хмельницкого у вас с покойным профессором Грушевским не могло быть расхождений.
– Вы ошибаетесь! Самый важный и прогрессивный шаг в жизни и деятельности Богдана Хмельницкого – союз с братским русским народом – Грушевский оценивает, как ошибку.
– Но да! – вскипел Бауэр, – сам Хмельницкий готов был каждую минуту порвать этот союз!
– Клевета на великого патриота. Это измышление пана Грушевского Ему за это щедрый гонорар заплатила буржуазия, которой он с рабской угодливостью прислуживал, продавая интересы всего трудового украинского народа…
Бауэр был предупреждён о резкости суждений профессора Квитко, его горячности, но это… но уже неприкрытый большевизм!..
Профессор страстно говорил, заставляя себя слушать.
– Мне незачем говорить о колониальной политике царизма. Вы ведь сами отлично знаете, что это ничего общего не имело с русским народом. Ход исторических событий подтвердил, что присоединение…
– Я не нуждаюсь в большевистской пропаганде, герр профессор! – холодно прервал Бауэр. – Вам заплатят утроенный гонорар, и вы напишете то, что нам нужно. Вы старик, а старики любят комфорт…
– Скажите, какой ценой вы заплатили за свой комфорт? – в тоне профессора прозвучал убийственный сарказм. – Как мне известно, эти картины – собственность народа. Их не могли вам продать…
Багровые пятна выступили на лице Бауэра. Глаза его округлились, и весь он стал похож на тугой, не в меру надутый мяч, который вот-вот лопнет.
В два прыжка Бауэр очутился за спиной профессора. Выстрел в затылок оборвал большую, светлую и честную жизнь профессора Квитко.
Глава вторая. Обман
Петрик и Василько сидели на порожке и накладывали в баночки ваксу собственного производства. Нужда заставила их стать уличными чистильщиками обуви, чтобы заработать на кусок хлеба.
Во двор, словно угорелый, забежал Йоська.
– Поджигают! – закричал он, отчаянно жестикулируя руками. – Чтоб я так жил, поджигают!
– Тсс… – приложил палец к губам Петрик показывая глазами на открытые окна виллы, откуда доносилась игра на рояле. – Ну, чего там ещё… говори толком.
– Я и говорю толком: под-жита-ают!
– Видали его! Что поджигают?
– Синагогу.
– Зачем?
– Немцы…
– Скажешь! – отмахнулся Василько. – Грешно храмы палить, немцы бога побоятся…
Но то, что Йоська видел, была не галлюцинация. Он бежал к своей тёте на Жовковскую улицу. Ну, что правда, то правда, немножко он задержался около красивого дома на Снежной улице – это недалеко от Старого Рынка. Из окон дома выбрасывали узлы, подушки, детскую коляску. Какая-то женщина кричала, плакала. Вот смешная! Раз есть приказ освободить квартиру для приезжих из Германии немцев, так что ей поможет кричать? Разве она не знает, что лучшие квартиры и даже целые улицы теперь освобождают для них? Листопада – это же самая красивая улица во всём городе! А кто теперь там живёт? Только немцы!
И вот шёл себе Йоська и видит, около синагоги на Старом Рынке остановилась большая зелёная машина, крытая брезентом. Из неё выскочили немецкие солдаты и, если Йоська не ошибается, с немцами был батько Данька-пирата…
– Ну, ну, дальше! – жарко дыша, торопил Петрик.
– А дальше они начали носить в синагогу большие ящики. Чтоб я так жил, я сразу догадался, что это мины… Вдруг выбегает, ну, этот как его… шамес [17]17
Работник, обслуживающий синагогу.
[Закрыть]и кричит: «Гевалд! Помоги-и-итее!» Потом в него немец выстрелил, и он уже больше не кричал… О, слышите взрывы? – насторожился Йоська. – Это там… На Старом Рынке…
– Бежим туда!
Через десять минут они уже были на Старом Рынке.
– Ух, ты-ы! А народу сколько!.. – тяжело дыша остановился Петрик.
Странно, но на этот раз немцы не разгоняли людей, хотя с минуты на минуту должен был наступить полицайцайт.
Огонь бесновался, развевая космы копоти. А неподалёку, как на параде, гарцуют немецкие всадники.
Вокруг шныряют журналисты, отчаянно накручивает киноаппарат какой-то с виду иностранец, а больше всех суетится, бегает лысоватый человек в бежевом пальто. Он то станет на колено, то присядет, я один раз даже на живот лёг – и всё фотографирует, фотографирует…
– Кто же это поджёг? – спрашивает пожилая толстая полька лысого с фотоаппаратом.
– Известно кто – народ!
– Какой народ? – недоумевает женщина.
– Украинский! Вы же знаете, как они ненавидят этих…
– Неправда! – перебил лысого Петрик. Выталкивая вперёд дрожащего от страха Йоську, он почти кричит: – Вот, он своими глазами видел! Это немцы подожгли! Правда, Йоська? Ты не бойся, скажи…
– Чтоб я так жил… – пролепетал Йоська.
И мальчики не успели даже опомниться, как их уже выволакивали из толпы какие-то люди в гражданской одежде.
По пустынным, онемевшим улицам, с наглухо закрытыми окнами домов, переодетые гестаповцы гнали трёх мальчиков, время от времени давая им затрещины.
– Обман!.. Всё у вас обман! – упирался Петрик, утирая кровь, побежавшую у него из носа.
– Заткнись! – сквозь зубы процедил тащивший его гестаповец и ещё раз ударил мальчика по голове.
На площади Смолки Петрика, Василька и Йоську втолкнули в широкую дверь огромного каменного дома, откуда редко кто возвращался. Люди обходили этот дом с опаской.
Мальчиков ввели в кабинет следователя гестапо.
– Так ты говоришь, што витил, кто сделал пожар? Скаши, я буду наказать! – миролюбиво улыбался следователь. Его ноги в ослепительно начищенных сапогах покоились на мягком пушистом ковре под письменным столом.
– Ты не бойся, Йоська, скажи… – шепнул Петрик, подталкивая локтем товарища.
– Я видел… Это сделали ваши… немцы… – робко проронил Йоська.
– Ай-ай-ай, – закатил глаза немец и незаметно нажал под столом кнопку.
Вошли два солдата.
– Ап!
Йоську подхватили под руки и вынесли.
– Ма-эм-м-м!
Этот душераздирающий вопль замер где-то в коридоре.
Как и прежде, словно ничего не произошло, немец продолжал улыбаться.
– Ай-ай-ай, украинишь мальтшик не можна верит юд! Ком до дому, до дому…
Он даже протянул Петрику шоколадку.
Лицо и руки Петрика стали горячими и влажными. Испытывая острую ненависть к гестаповцу, Петрик захотел схватить со стола массивную чернильницу и стукнуть улыбающегося немца.
Видя, что Петрик не берёт шоколадку, гестаповец протянул сё Васильку. Тот шоколадку взял, но губы его оставались упрямо сжатыми.
Тут их и выпроводили из кабинета.
В вестибюле, освещённом синей, маскировочной лампочкой, солдат пнул мальчиков в спины, и те, как мячики, вылетели на улицу.
Глава третья. Судьба товарища
– Айн, цвай, драй… – бесстрастно отсчитывает немец с эмблемой «мёртвая голова» на фуражке.
– Шнель!
Много дней провели дети в тёмном и смрадном подземелье. Сейчас, ослеплённые внезапным дневным светом, совершенно голые, грязные, они испуганно жмутся друг к другу. Среди них и Йоська.
– Шнель!
Два верзилы с засученными рукавами дулами автоматов загоняют детей в кузов грузовой машины.
– Шнель, шнель, шнель!
Сидеть приходится на корточках, так, чтобы не выглядывала голова из-за борта кузова.
Машина мчится узкими, кривыми улицами и останавливается на глухой окраине.
Люди в белых халатах и белых колпаках встречают измождённых детей без единого слова.
Долгое время Йоська не понимал, чего хочет от него немецкий доктор с холодным блеском глаз и тонкими извилистыми губами.
– Я не хворый, – робко защищался мальчик, когда к нему приближались палачи в белых халатах.
– У меня ничего не бо-ли-ит!
Но они набрасывались на Йоську. И он уже не мог сопротивляться, а только дико мычал, словно это могло испугать и остановить тени в белых халатах.
После впрыснутых лекарств Йоська постепенно слеп и терял сознание.
Неизвестно зачем, немцы долго, терпеливо возвращали его вновь к жизни. И опять кололи, и опять он слеп…
– Это учёные. Они опыты делают, – шепнул как-то Йоське совсем обескровленный мальчик с синеватыми веками, как у мертвеца.
– Опыты? Зачем?..
– Не знаю, – печально покачал головой мальчик.
Швея Ноэми – мать Йоськи, часто говорила: «Ничего не значит, что мой сынок худенький, зато он крепкий».
Да, Йоська был крепким. Это не раз говорили и его палачи.
Однажды, когда ему стало лучше, он стоял в полутёмном коридоре и с тоской думал о матери, Петрике, друзьях.
Вдруг Йоська услышал рядом голос девушки-уборщицы:
– Швыдко, йды за мною… Якщо зможеш вырватись, розкажи людям правду про те, що тут бачив. Мы звидсы жыви вже не выйдемо.
Она провела Йоську в тёмный подвал. Там показала на маленькое окно. Мальчик с её помощью залез на штабель дров и пополз к окну.
– Выйдешь на Медову Гроту, – шепнула спасительница. – Обережно… дывысь, щоб знову сюды не потрапыты…
Так бывает только во сне. Йоська хочет идти, а ноги отказываются двигаться. Но надо уйти, во что бы то ни стало уйти поскорей от этого жуткого серого дома.
Над городом прошумел весенний дождь. Но солнце уже снова выглянуло из-за редких туч.
Йоська не замечает, что на деревьях лопнули почки, и оттуда с любопытством глядят на мир первые зелёные листья.
Что стоило для Йоськи прежде пять-шесть раз в день бежать на Княжью гору к их пещере! А теперь…
Больше двух часов бредёт он по Пекарской улице, чувствуя, как через каждые несколько шагов у него темнеет в глазах, звенит в ушах… Но мысль о встрече с матерью, Петриком, друзьями подгоняет его.
На Сербской, около монастыря бернардинов, Йоська остановился, прислонясь к стволу каштана. Дерево было старо и тёмная, ноздреватая кора на стволе местами совсем отвалилась. Около дерева, в углублении каменных плит, поблёскивала лужа, Йоська увидел в ней своё отражение и отшатнулся.
– Что это со мной стало?!
Ветер поколыхал воду, и страшное лицо исчезло.
Прежде, чем постучать в дверь квартиры, где он родился и вырос, мальчик схватился руками за грудь и тяжело закашлялся.
В это время открылась дверь соседней квартиры, и оттуда вышла жена бондаря пани Гайдучкова.
– Тётечка Елена… – приблизился к ней Йоська.
– Это… Это ты!.. – едва узнала она маленького соседа.
Она с опаской посмотрела вниз, перегнувшись через перила лестницы, затем тихо промолвила:
– Заходи скорей…
Гайдучкова сбросила с себя пальто и, усадив Йоську за стол, торопливо зажгла газ, поставила чайник.
– Где моя мама? – подавленно спросил мальчик.
– В гетто на Замарстынове.
– Тётя, а меня к ней пустят?
– Ой, голубчик ты мой, да если они, клятые, узнают, что ты не там, в ихней душегубке, а сидишь у меня и чай пьёшь, так они меня повесят…
– Всё равно мы с мамой оттуда убежим, – вспыхнул Йоська.
– Побойся бога, что ты говоришь, дитя? – замахала она руками. – Слухай, Йоська, если кого-нибудь встретишь, не говори, что был у меня…
– Почему? – не понял мальчик.
– Немцы меня повесят за это.
И вот Йоська крадётся, как вор, прочь от родного дома, от родной улицы, где каждый камень, каждая ямка знакомы ему с первых шагов…
Несколько раз мальчик хотел повернуть на Замковую, но, чувствуя, что силы его оставляют, он спешил найти свою маму.
Пройдя под Замарстыновским железнодорожным мостом, который теперь львовяне называли мостом смерти, Йоська подошёл к воротам гетто. Он ещё не успел раскрыть рот, чтобы спросить у часового, как тот грубо схватил его за плечо и бросил по ту сторону ворот.
– Ноэми, тебя спрашивает какой-то мальчик, – заглядывая в маленькую комнатку с семью кроватями, плотно сдвинутыми в два ряда, произнёс чей-то женский голос.
Ноэми показалось, что она ослышалась.
– Гильда, вы что-то мне сказали? – с сильно бьющимся сердцем приподнялась с кровати совсем молодая, но седая женщина.
А на пороге уже стоял какой-то чужой, с вымученной улыбкой мальчик. Скорее угадав, чем узнав в нём сына, Ноэми бросилась к нему.
– Йоселе, дитя моё!..
С этого дня Ноэми задумала бежать из гетто. Она должна спасти своего мальчика или умереть вместе с ним. Всё равно здесь они обречены: рано или поздно – в одну из очередных акций её схватят вместе с сыном, бросят на грузовик и повезут в Долину смерти. Тысячи людей уже нашли там свой страшный конец.
Решение бежать окончательно укрепилось, когда в гетто явился «людоед». Так назвали мученики гауптштурмбанфюрера СС Гжимека. Имя Гжимека произносили с дрожью. Свой приход он ознаменовал тем, что повесил на балконах домов десять ни в чём неповинных людей, а через два дня – полторы тысячи евреев были расстреляны.
После нескольких неудачных попыток, наконец, Ноэми и её сыну повезло: вместе с партией рабочих, которых гнали на фабрику, они выскользнули за ворота гетто.
Чудом незамеченные, они отстали от колонны.
– Идём в пещеру, мама, – настаивал Йоська.
Бессонными ночами, когда жизнь их была на волоске, сын не раз шептал ей о пещере на Княжьей горе, о своих друзьях, которые помогут, только удалось бы им вырваться из гетто.
– Хорошо, мой мальчик, – сказала Ноэми, взяв за руку Йоську. – Пойдём…
Каждую минуту их могли схватить и застрелить на месте. Ноэми и сын, боязно озираясь, пробирались самыми окраинными улицами предместья. Облегчённо вздохнули только тогда, когда над их головами сомкнулась густая чаща деревьев на склоне Княжьей горы.
– Мама, ты посиди тут, а я сбегаю к нашей пещере. Хлопцы могут быть там…
– «Сбегаю», – горько усмехнулась Ноэми. – Ты же еле ноги передвигаешь.
Она не стала удерживать сына, и Йоська едва-едва поплёлся на гору.
Но до пещеры ему так и не пришлось добраться. Там, где ему предстояло пройти, немецкие солдаты рыли какие-то траншеи. Испуганно оглядываясь, Йоська повернул обратно.
– Хорошо, что ты пришёл, – прошептала Ноэми. – Я решила идти в Знесенье. Там у меня есть одна знакомая, может быть, она не побоится и спрячет нас.
И они пошли. Вот и домик на самом краю посёлка. Он полуразрушен. Окна забиты досками, а на калитке палисадника висит большой замок.
– Наверное, ушла в село… Что нам теперь делать? – в отчаянии заломила руки Ноэми.
– Мама, мы можем спрятаться вон в тех развалинах, – показал Йоська на разбитый бомбой домик. – А утром я проберусь к Петрику…
К счастью, в руинах уцелел подвал. Измученные беглецы бросились туда и прямо на голой земле заснули, как мёртвые…
Чуть свет Йоська выбрался из развалин, ставших теперь их убежищем, и направился на Замковую.
Первые солнечные лучи встретили его на перевале, у Песчаной горы.
Неумолчно заливались чёрные лесные дрозды, купаясь в росистой листве молоденького березняка. В холмистом Стрелецком парке кричала кукушка.
Йоська вспоминает, что ребята всегда говорили: сколько кукушка накукует, столько лет и проживёшь. Он считает до шестнадцати, потом сбивается и, светло улыбнувшись, идёт дальше.
У самой земли, путаясь в траве, летает грузный шмель. Просыпаются одуванчики, раскрывая свои золотистые тарелочки.
Странно, думает Йоська, ещё несколько минут назад здесь вроде не было ни одного цветка, а сейчас всё пожелтело.
Ах, Йоська совсем забыл, что одуванчик живёт по солнцу. Стоит солнцу взойти, цветок раскроется, спрячется – одуванчик сожмётся, уснёт.
Йоська видит, как в березняке возится с гнездом зяблик. Это хозяйка. А вон и самец поёт и по сторонам поглядывает.
– Не бойтесь, я не трону вас, – обращается к птицам мальчик и идёт дальше.
Остановился Йоська на холме около маленькой часовни. Отсюда в синеватой утренней дали ему отчётливо видны Святогорская гора и силуэт старинного собора.
И, конечно, меньше всего мог знать Йоська, что минувшей ночью на кирпичных стенах ограды собора Франек, Петрик, Олесь, Василько расклеили листовки.
Сейчас листовки белели на всех домах вблизи площади святого Юра.
В это утро машина шефа гестапо бригаденфюрера СС Кацмана остановилась около ворот Святогорского собора.
Из машины выскочил сам Кацман и взбешённо бросился к красноватой кирпичной стене, густо облепленной листовками…
«Я би сшвав щлий день.
Тай цiленьку нiчку.
Як бим учув, що складають
Гiтлеру на свiчку…
Червона Армiя прийде вже скоро. Смерть нiмецьким загарбникам!..»
Как безумный, Кацман срывает со стены свеженаклеенные листовки.
Зажав их в обеих руках, бригаденфюрер почти бежит к палатам митрополита графа Андрея Шептицкого.
Разбитый параличем митрополит встревожен появлением этих листовок на стене его дома, не менее самого Кацмана.
– Читайте, – показал глазами святой отец на ещё одну листовку. – Это было вчера на стенах собора.
В листовке говорилось:
«Украинцы и поляки Западной Украины!
Не идите за провокаторами, агентами оккупантов. Они зовут вас на грязное дело, межнациональную борьбу, бессмысленную борьбу, которая, по замыслу Гитлера, приведёт к полному уничтожению обоих народов. Помните, что фашист не делает разницы между украинцами и поляками в газовой камере на Майданеке. Если имеете оружие, подымайте его, но против общего врага, врага всех славянских народов, всего человечества, – озверелой от крови гитлеровской Германии. Уничтожайте без милосердия провокаторов, агентов, продавшихся Гитлеру, предателей своего народа. На последний смертный бой зовёт с оккупантами всех честных патриотов Западной Украины Народная Гвардия за лучшую долю наших детей, нашего народа! Вступайте в её ряды! На провокаторскую работу врага трудящиеся Западной Украины – украинцы и поляки – дадут ответ в рядах Народной Гвардии. Бить немецкого врага днём и ночью, в городе и на селе, бить до тех пор, пока не сбежит он с нашей земли. Да здравствует Народная Гвардия, передовой отряд всенародного восстания против оккупантов! Да здравствует совместная борьба против немецких захватчиков! Да здравствует освобождённая Родина!»








