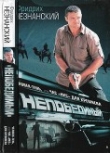Текст книги "Опасное молчание"
Автор книги: Златослава Каменкович
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 21 страниц)
Это очень опасно…
Новая двухэтажная бревенчатая больница в селе Родники, которой похвастался Данило Валидуб, Ганне действительно понравилась. Приемный покой, четыре палаты, два кабинета и своя маленькая лаборатория – все пришлось ей по душе. Была Ганна довольна и своей старательной помощницей фельдшерицей Христиной Царь, женщиной тихой и кроткой.
В саду при больнице – небольшой бревенчатый домик из двух комнат и кухни. Одну комнату занимала рано овдовевшая, бездетная фельдшерица, во второй поселилась Ганна.
Христина Царь, как успела заметить Ганна, в церковь не ходила, икон в ее комнате тоже не было, чем она еще больше расположила к себе Ганну.
В ясный солнечный день, когда деревья, покрытые золотыми листьями, от легкого дуновения ветра осыпались, Ганна и фельдшерица направились в село Хвошу, откуда была родом Христина Царь.
– Поверьте, панна доктор, зря мы тащимся в такую даль. Три раза я там была, а мало кто прививку согласился сделать. Вот посмотрите, зря…
– Я обязана там побывать, – возразила Ганна, – познакомиться с жителями, осмотреть всех ребятишек.
Когда смотришь на село от темно-серой ленты шоссе, кажется, что бревенчатые домики, словно теряя последние силы, карабкаются ввысь, чтобы вырваться из тесных объятий коричнево-бурых скал с беспорядочно разбросанными кривыми соснами.
Наконец Ганна и ее спутница, благополучно минув отвесный обрыв, добрались к первому дому.
Ганна постучала в дверь, но никто не отозвался. Она постучала настойчивее.
На порог вышла полногрудая хозяйка в вышитой кофточке.
– День добрый, – поздоровалась Ганна.
– Слава Исусу Христу! – ответила хозяйка.
– Я ваш новый врач, – улыбнулась Ганна. – У вас в доме все здоровы?
– Хвала богу, здоровы, – кивнула женщина, вытирая о фартух мокрые руки и косясь на фельдшерицу.
– У вас трое детей. Им надо сделать прививку против оспы.
Из-за спины хозяйки выглянула морщинистая старуха с запавшими щеками. Она молча втолкнула свою дочь в хижину и закрыла дверь на засов.
– Чуете, Ганна Михайловна, теперь хоть из ружья пали, не откроют! – безнадежно махнула рукой фельдшерица.
– Нет, воевать я не намерена, пойдемте в сельсовет.
Однако, пройдя мимо двух тихих гуцульских дворов, Ганна вдруг задержалась возле распахнутых новых ворот. На изгороди из перевязанных лозой кольев дрожали на осеннем ветру два глиняных кувшина и сохли детские пеленки.
– В доме есть хворый, – в ответ на недоумевающий взгляд промолвила фельдшерица.
– Откуда вы знаете?
– И ворота, и двери, окна – все настежь! Это чтоб хвороба выходила. Тут так… Люди верят, что на свете владычествует нечистая сила.
– Можно подумать, я очутилась в шестнадцатом веке, – так и застыла в недоумении Ганна. – Христина Ивановна, войдемте.
Фельдшерица смекнула, что молодой газда[11]11
Хозяин.
[Закрыть] отсутствует, потому что этот сатанист сразу бы доктора позвал…
Один случай всплыл в памяти, и Христина Царь вновь увидела перед собой коренастого весельчака и балагура лесоруба Михася Чеха, который позапрошлой осенью демобилизовался из Советской Армии и женился на самой красивой девушке в селе – Софийке, прождавшей его три года.
Еще до свадьбы он нечаянно покалечил пилой палец на руке. И вот, делая ему перевязку, Христина Царь осторожно повела такой разговор: дескать, братчику, скоро на людей обрушится небесная кара, и спасутся только те, кто останется верным богу Иегове… Кто верит в Иегову – это «свидетели Иеговы», они бессмертны. А все остальные – сатанисты. Их бог – сатана. Когда Иегова объявит войну сатане, начнется «армагеддон», священная война. После «армагеддона» настанет новый мир во главе с самим богом Иеговой… И намекнула, что Чеху и его Софийке следовало бы вступить в «воинство Христово…»
В ответ молодой гуцул только захохотал во все горло, и смех его, подхваченный ветром, разнесся по лесу, ударился о скалы и потонул в шуме реки… Испугалась Христина, выбежала из лесу, на ней лица не было… Ждала, не иначе лесоруб в район донесет, да нет, все, к счастью, обошлось…
Когда женщины вошли в дом, с низкого табурета встал очень старый гуцул в сиряке и армейских брюках (внук Михась подарил брюки – носи, дедусь, на здоровье!) и, отложив овчину, которую выделывал, шагнул навстречу гостям.
– Я ваш новый врач, – тихо, но внушительно представилась Ганна. – Кто у вас болен?
Старик был совершенно глухим, но, встретив открытый и чистый взгляд Ганны, развел сухими, как осенние вербы, руками:
– И чем завинилась наша Дзвиночка перед богом?..
Ганна раздвинула занавеску и увидела в колыбели ребенка, который, запрокинув головку, с хрипом ловил ротиком воздух.
Глотая слезы, над ребенком склонилась еще совсем молодая мать.
– Когда девочка заболела? – спросила Ганна, поспешно доставая из чемоданчика термометр и стетоскоп. – Это очень важно, прошу вас, вспомните, сколько прошло дней с момента начала болезни.
– Сразу как уехал в Мукачево мой муж… Уже пятый день, – сквозь слезы проронила мать, не противясь тому, что доктор выслушивает девочку.
– Сколько месяцев дочке?
– Годик… – теперь лицо матери выражало не только тревогу, но и нетерпение поскорее облегчить муки ребенка.
«Да, очень поздно… тяжелая форма», – подумала Ганна.
– Ой, не делайте укол! – взмолилась мать.
– Надо, милая, надо…
Ганна ввела сыворотку. Тревожное раздумье, и на минуту Ганна теряет самообладание от страха: ребенок задыхается… Неужели понадобится операция?
– Доктор… – холодеет мать. – Она умрет?..
– У вашего ребенка дифтерия гортани и дыхательных путей, – Ганна чувствует, как дрожит ее голос. – Это очень опасно… Надо немедленно в больницу.
– Нет! Не дам! – истерично вскрикнула мать. – Господь не оставит нас…
– Милая, поверьте, я хочу спасти вашу девочку, – со всей силой убеждения обнадеживала Ганна. – Теперь уже минуты решают жизнь ребенка. Умоляю вас, поверьте мне…
«У, сатанистка, как унижается… А когда Сойчиха хотела эту самую «товаришку докторку» отблагодарить курочкой и парой десятков яиц, какую из себя баронессу-гордячку показала: «У нас лечение бесплатное…» – так и кипела злобой фельдшерица. – А ко мне как привязывается: «Вы обязаны, Христина Ивановна, обращать внимание на свою внешность. Одеваться чисто и опрятно…» А чтоб тебя вода взяла! Скоро, скоро вам, слугам сатаны, всем конец наступит!..»
Между тем гуцулка больше не протестовала. Она торопливо начала завертывать малютку в одеяло, но руки ее так дрожали, что никак не могла с этим справиться.
– Позвольте мне, – мягко отстранив ее, сказала Ганна.
Тягостная атмосфера беды, которую принесла в дом болезнь единственного ребенка, казалось, лишила сил молодую мать.
Старик, словно оцепенев в каком-то тупом отчаянии, стоял посреди комнаты, когда Ганна с ребенком пробежала мима него.
Во дворе Ганна сказала:
– Христина Ивановна, пойдите в сельсовет, там вам помогут выяснить – возможно, инфекция уже распространилась по селу. Потом позвоните мне в больницу.
– Добре, – коротко опустила глаза фельдшерица.
Софийка знала более короткую тропинку вниз по косогору и, раздвигая на пути ветки сосняка, шла впереди, то и дело оглядываясь на молоденькую докторшу, которая бережно несла ребенка.
Потому ли, что в воздухе крепко пахло хвоей, или потому, что ветер утих и солнце по-летнему припекало непокрытую голову, а может быть, и от непривычной крутизны, по какой приходилось спускаться, у Ганны вдруг закружилась голова. Пришлось остановиться, даже на минуту присесть на камень, отдать матери малютку. Достав из чемоданчика косынку, Ганна поспешно накинула ее на голову.
– Теперь я понесу, – пошла вперед Софийка. И почти побежала вниз, к дороге, где из-за крутых поворотов машины всегда замедляли ход.
Когда они достигли асфальта, Ганна снова взяла ребенка, видя, что изнуренная бессонными ночами Софийка едва стоит.
И вдруг Ганна невольно вздрогнула, поняв, что малютка умирает у нее на руках.
«Если бы машина… если бы!» – где-то у самого горла стучит сердце Ганны.
Взгляд матери, невыносимо скорбный, следит за ней. Надо не выдать себя, надо казаться спокойной…
– Господи! Чем перед тобой завинилась моя Дзвиночка?.. За что ты наслал на мое дитя такие страдания и муки?.. – снова полились слезы из глаз матери, охваченной ужасом.
– Легковая машина! – облегченно шепчет Ганна.
В ту же минуту она выбегает на середину дороги и, высоко подняв на руки ребенка, ждет.
Машина затормозила.
«Неужели Любомир Ярославович?..» – волнение, смущение и радость слились воедино.
Секретарь райкома поспешил навстречу бегущим к нему Ганне и незнакомой молодой гуцулке.
– Позвольте, – Ярош хотел взять у Ганны ребенка.
– Нет, – отпрянула она, тяжело дыша. – Вы болели дифтерией?
– Не помню.
– Тогда… это опасно, я сама понесу.
И все же Ганна была вынуждена прибегнуть к операции.
Да, Ганна разрешила матери остаться в больнице, но после стольких дней и ночей, полных волнений, молодая гуцулка уснула, и Ганна до самого утра не отходила от девочки.
В осенний листопад
Когда широкие многоцветные разливы лесов, затопившие ущелья и долины, роняли на землю свое убранство, у дороги зацвела яблоня.
Никогда не видела Ганна ничего подобного. Она в изумлении засмотрелась на это чудо.
– Подсматриваете у природы ее сокровенные секреты? – неожиданно раздался веселый голос за ее спиной. И Ганна испытала что-то похожее на испуг, когда оглянулась и ощутила на своем лице дыхание Яроша.
– Просто удивительно, Любомир Ярославович… Все листья на дереве облетели, а эта ветка в цветах, как весной… Ведь уже близка зима.
Но Ярош ничуть не удивился. Он сказал:
– Весной, видно, кто-то обломал эту ветку…
– Обломал? – невольно вырвалось у Ганны. – Но… тогда она должна была зачахнуть, а не расцвести.
– Эге, мой доктор, – и опять Ганна ощутила его чистое дыхание на своем лице, – разве вы не знаете, что дерево, как и человек… За лето затянулась на ветке рана, вот вновь и зацвела яблоня…
Ганна вдруг почувствовала, что взгляд Яроша словно спрашивал ее о чем-то. И сердце девушки наполнилось давно забытой радостью. Она не может отойти от смущения, стоит, точно школьница перед строгим учителем, боясь поднять глаза.
Наступившее было неловкое молчание рассеялось, когда секретарь спросил:
– Вы по вызову к больному? – и взял из ее рук чемоданчик.
– Нет, в школу. Буду делать прививки от оспы. В прошлый раз несколько ребят сбежали…
– Брр, я бы тоже сбежал, – засмеялся Ярош.
Ганна не может сдержать улыбку.
Они идут рядом, и Ганна, стараясь казаться очень спокойной, рассказывает о том, что природа сама показала пути защиты от оспы.
Из наблюдений известно, что крестьянки, заражавшиеся при дойке коровьей оспой, тем самым защищались от обычной, черной оспы и либо не болели ею вовсе, либо очень легко переносили эту тяжелую болезнь.
– А вам делали прививку, Любомир Ярославович? – вдруг прямо посмотрела ему в лицо Ганна.
– Да, мой доктор, – шутливо отозвался Ярош, – вот могу даже показать.
– Не надо, я вам верю.
Они не виделись почти всю зиму. И у Ганны часто сжималось сердце от смутной тоски по Ярошу. Что бы она ни делала, куда бы ни шла, а в мыслях – Мирко… – так секретаря райкома любя называли между собой люди.
Теперь Ганна уже знала почти все, что вместилось в тридцать семь лет, прожитых Ярошем.
…Дорого надо было заплатить барону, мадьяру Галю, арендовавшему эти земли, чтобы поселиться на плодородном участке. А в скалах – там селится кто хочет: дешевые рабочие руки пану нужны. Точно орлиные гнезда, липнут к скалам убогие хижи гуцулов… Вот в той, совсем повисшей над обрывом, у лесоруба Ярослава Яроша родился седьмой ребенок, Мирко…
Рано в его детство ворвались жгучие, холодные весенние росы, едкий дым ватры[12]12
Костер.
[Закрыть], медленно уходящий через отверстие в потолке колыбы[13]13
Пастушья хижина.
[Закрыть] к низким осенним облакам.
В семь лет Мирко уже подпасок, кочует с пастухами по полонинам, ведет отару навстречу утренней заре, к водопою.
В каждом детстве есть памятные дни…
Однажды тринадцатилетний сын барона расстрелял из охотничьего ружья грачиное гнездо. Каким-то чудом один грачонок остался живым. Мирко нашел его в зарослях орешника. Вырастил. И осенью, когда грачи улетали, Мудрый (так прозвали домочадцы грача) не захотел расставаться с людьми, остался зимовать в тесной хиже лесоруба.
Умная птица потешала людей.
Бывало, даже старшие братья, раскрыв глаза и рот, удивлялись, когда Мудрый повторял вслед за Мирком:
– Барон холера! Барон холера! Барон холера!
И не было у Мирка большей радости и утехи, чем Мудрый.
Не в добрый час пришлось мальчику прибежать к двухэтажному красивому панскому дому, увитому плющом.
– Низко кланяюсь… – поклонился Мирко барону. Охваченный ужасом, маленький пастух совсем забыл, что на плече у него примостился Мудрый. – Там… – шептал Мирко, показывая в сторону леса, откуда только что спустился, – там… – запекшиеся губы мальчика жадно хватали воздух, – татуся деревом придавило… ликаря надо…
Барон Галь, которого оторвали от игры в крокет, раздосадованно что-то приказал слуге, а сам вернулся в прерванному занятию.
– Подожди, сейчас доктор выйдет, – сказал слуга.
Он торопливо ушел.
И вдруг – выстрел…
– Вот это класс стрельбы! Ха-ха-ха! – стоя с ружьем на балконе, хохотал довольный собой юный отпрыск барона.
Из кухни, помещавшейся внизу под домом, выбежала девочка, кухаркина дочка. Закусив в зубах краешек передника, она сочувственно смотрела на Мирка, который со слезами поднял с земли убитую птицу.
Потом в ребячьих снах он видел эту девочку, молчаливо разделившую с ним печаль.
Но вскоре горе куда пострашнее обрушилось на мальчика. Умер отец…
В четырнадцать лет рослый Мирко походил на юношу. Пан Галь взял его на работу в свою конюшню.
Как-то Мирко вывел оседланного коня. Пан Галь достал из кармана носовой платок и потер круп лошади. Лицо его побагровело.
– Как чистишь, дармоед!
Он изо всех сил ударил подростка хлыстом по голове.
Охваченный бешенством, пап Галь не заметил, каким ненавистным взглядом проводила его кухаркина дочка, когда он проскочил верхом мимо нее.
Иванна подбежала к юноше. Оглянулась по сторонам и шмыгнула в дверь.
– Ешь, Мирко, – девочка достала из-под фартука хлеб и гроздь винограда.
– Зачем ты пришла? Тебя опять будет бранить мама.
– И пусть…
Девочка присела возле Мирка и краем передника осторожно вытерла кровь у него на лбу.
В этот момент и появился в дверях. Галь-младший, – так его величали все слуги. На поводке у него была немецкая овчарка.
Секунду Галь-младший и Мирко с молчаливой неприязнью смотрели друг на друга.
И начался допрос:
– Что ты ему принесла?
– Я… ничего, ничего… – лепетала девочка.
– Не лги, воровка!
Он знает, что кухаркина дочка до ужаса боится собак, и с хохотом делает шаг вперед:
– Цезарь, возьми!
– Ма-а-а!!!
Мирко схватил вилы и крикнул:
– Уведи, паныч; собаку!
– Ах ты, быдло… Цезарь, возьми! – и он отпустил поводок.
Схватка подростка с овчаркой была жуткой. Но победил Мирко.
Галь-младший выбежал из конюшни.
– Это он за ружьем! – сквозь слезы крикнула девочка. Мирко настиг барчонка, сбил с ног и – бац! бац! бац!
– Мирко, убегай! Убегай! – предостерегла девочка, увидев, что из особняка выскочили слуги.
Мирко юркнул за ворота и скрылся в лесу.
Прошло пять лет…
Шумная центральная улица в городе Мукачево. Снуют извозчики. У обувного магазина остановился экипаж. Из него вышел Мирко.
Хозяин магазина, мадьяр, любезно усаживает заказчика.
– Прошу пана, ваши туфли готовы, – и он, будто жонглер в цирке, исчезает за портьерой.
Входят две молодые дамы.
Из-за портьеры появились хозяин и мастер. У мастера короткие вьющиеся волосы и черные, горячие, как уголь, глаза.
Хозяин устремляется к дамам.
Одну секунду мастер и Мирко смотрят друг другу в глаза. Потом мастер опускается на колено и тихо говорит:
– Попробуйте надеть. Не жмет?
– В самый раз. Благодарю.
И в это мгновение вместе с «чаевыми» записка скользнула из руки Мирка в руку мастера.
В девять вечера трое прилично одетых мужчин будто совершенно случайно встретились возле ресторана с вывеской «Молчи, грусть, молчи!» Владелец этого заведения, бежавший из России белогвардеец, всегда находил повод, чтобы клеветать на Советский Союз, был в почете у властей.
Притворившись изрядно выпившим, Мирко делает вид, будто отмахивается от своих «собутыльников», при этом тихо роняет:
– Уходите… Я проверю, не увязался ли за нами «тайняк».
Когда товарищи вышли, Мирко, шатаясь, подошел к стойке и, заказав еще рюмку коньяку, выпил.
Из распахнутых дверей ресторана выплескивался рокот пьяных голосов, женский смех, звон бокалов, рыдание скрипок. Мирко немного постоял на улице и, убедившись, что опасения напрасны, догнал товарищей. По глухим, безлюдным улочкам они вышли на окраину.
Остановились возле деревянной калитки. Мирко постучал.
Залаяла собака и начала рваться с цепи. Во дворе кто-то подошел к калитке.
– Что надо? – нелюбезно спросил мужской голос.
Мирко тихо произносит пароль:
– Здесь продается дом?
Загремел засов, и трое вошли в маленький дворик.
По крутой узкой лестнице они спустились в подвал. Остановились у двери. Провожатый стукнул один раз громко и два – тихо. Дверь бесшумно отворилась. Свет ослепил глаза. Они вошли в маленькую типографию под землей. Здесь печатались листовки.
Мирко взял одну и прочитал:
«Украинский народ многострадальной Карпатской Руси! Пришло время, когда ты должен сбросить тысячелетнее мадьярское рабство. Пора вздохнуть свободно. Пора покончить с мадьярским средневековым варварством раз и навсегда!
Берись за дело, народ!
Кто с косой, кто с мотыгой, кто с ружьем да пистолетом, бей и выгоняй врага с нашей земли!
Не бойся! Ты не один! За твоей спиной стоит на страже твой старший брат – СССР».
Ночь.
Глухие улицы городка, наполненные полицаями.
Мирко и Иванна расклеивают листовки. Сейчас они белеют едва заметными пятнами, но с восходом солнца ярко вспыхнут призывом к народу, вольют в истерзанные души веру в близкую свободу.
Все идет хорошо. Листовки уже белеют на рекламных тумбах, стенах, на дверях церкви.
Утром в Солотвино на базаре Мирко Ярош встретился с Олексой Валидубом. Старик уже давно помогал подпольщикам.
– Гей, гей, – усмехается Валидуб, наблюдая, с какой яростью полицаи срывают листовки, разгоняют народ, но толпы упрямо собираются на улицах городка.
Мирко и Валидуб остановились возле дороги.
– Если что случится…
Олекса Валидуб все понял без лишних слов. Сказал:
– Знаю… нем как рыба. За свой народ и смерть не побоюсь принять.
И они попрощались.
Пришел Олекса Валидуб на берег Тиссы, к плотогонам. Здесь и сыновья его.
– Верно, отец, люди говорят, будто на Карпатах уже стоят червони воякы?
– Так, так, правда…
Но той золотой осенью, схожей на весну, так и не пришло освобождение.
Мирко и многих его товарищей по борьбе бросили за решетку. Уже перед самым нападением гитлеровских орд Мирку удалось бежать из тюрьмы.
Страх и сомнения были чужды этому человеку. Вот почему за голову командира партизанского отряда «Олекса Довбуш» гитлеровцы сулили щедрое вознаграждение…
Уже после войны врагам казалось, что секретарь райкома Ярош станет «живым трупом», если мертвы его Иванна и дети, но они просчитались: у Яроша еще осталось то, чего они не властны были убить… И во всем новом, хорошем, что видит Ганна здесь каждый день, большая доля его энергии, ума, воли, труда…
Леся
Возле школы с Ганной и Ярошем поздоровалась улыбающаяся чернобровая девушка, одетая по-городскому. Ганна прежде ее не встречала.
– Понравился тебе Киев, Лесенька? – спросил Ярош.
– Очень, – отозвалась девушка, энергичным взмахом головы откидывая со лба легкие кольца волос.
– У своих уже была?
– Вот собираюсь. Иду к председателю, чтобы лошадь попросить. Хочу до вечера успеть вернуться обратно.
– Тебе повезло, я как раз еду в Верхние Родники, – сказал Ярош, заметно любуясь девушкой.
Сердце Ганны сжалось в тугой жгучий комок.
– Забегу к себе, возьму подарки для мамы и Надийки, – светилось радостью лицо Леси. – Вы меня подождите. Любомир Ярославович.
– Куда денусь, конечно, подожду.
– Кто это? – Ганна, сдерживая волнение, проводила взглядом девушку.
– Учительница. Леся Мироновна Курпита.
– А, знаю… дочь доярки из Верхних Родников. У нее еще одна дочь есть, и тоже красивая…
– Надийка? Да, красавица, – согласился Ярош.
Мать этих девушек Олена Курпита, когда лежала в больнице с радикулитом, многое рассказывала о своей жизни Ганне. За три лишь слова: «Рай забрало папство!», неосторожно оброненных ее мужем владельцу виноградников, мадьяр упек «бунтовщика» в криминал.
Бежал Мирон Курпита из тюрьмы. Прятался на половинах у пастухов. Но барон, охотясь в Карпатах, как-то напал на след своего батрака. Выследил в пещере Волчья Пасть, схватил и погнал на расправу.
В снежный зимний день, раздетого, босого, искусанного собаками, со связанными руками, гнали Мирона Курпиту в местечко. Здесь фашистские каты его жестоко били.
И разнеслась весть по селам, что не стерпел гуцул, свернул челюсть пану следователю или еще там какой-то птице поважнее, и за это Курпиту повесили вниз головой…
Осталась вдова с маленькой Лесей. Бедовала, ночами крапила слезами подушку… Потом и в ее убогую хижину заглянуло счастье. Посватался Иван Курпита (в Верхних Родниках полсела Курпитами называется). Веселую гуцульскую свадьбу сыграли. Любил ее Иван, жалел. Родилась на свет Надийка. «Да вот, видно, чем-то я прогневала бога, – вздохнула женщина, – умер и второй муж…»
Бесхитростная, откровенная, Олена Курпита не утаила от молоденькой докторши свою боль, обиду за судьбу старшей дочки Леси.
Когда Леся училась во Львове, полюбился ей Владимир Латорица, по фамилии, видать, он тоже из гуцулов… Карточку свою прислал, лицом славный такой, просил у матери благословения на бракосочетание с Лесей. И вдруг нежданно-негаданно ужалила Олену вестка, мол, не жди, мама, меня с женихом, не будет у нас никакой свадьбы…
Леся приехала домой одна. Матери стыдно, ведь все знали, что засватана, кумушкам рты не закроешь.
Прилегли дочки на мягкий зеленый бархат мха возле ручья, шепчутся, а мать слышит:
– Лесенька, милая, как же он мог тебя покинуть и жениться на другой? – негодует младшая. – Он злой человек!
– Добрый… Он поступил верно, – улыбается своим мыслям Леся. – Иначе… я не могла его любить…
«Вот и пойми ее!» – обижалась на дочь Олена Курпита.
А все началось с дождливого осеннего дня, тогда, в подъезде университета…
– Сенсация! Дитя гор, ураганных ливней, снежных лавин испугалось львовского дождика! – насмешливо раздалось позади Леси.
Она оглянулась, покраснела, точно ее хлестнули по лицу крапивой.
– Ирина, у нее же новое пальто, – с укором возразила подруге однокурсница Леси, стройная черноокая Наташа, похожая скорее на грузинку, чем на украинку.
– Тем более надо обновить! – звенели повелительные нотки. – Ха-ха-ха!
Ирина была дочерью известного хирурга. Всегда с ярко накрашенными губами, порхая в лучах отцовской славы, она стяжала в университете незавидную славу стиляги. Девушка первая когда-то появилась в аудитории в ошеломляющих чулках с черной пяткой, а позже – в платье «без плеч». Только лишь стали носить «японки с ластовицей» и чулки без всякой пятки и шва, опять же студенты узнали о новой моде, увидев все это на Ирине. О прическах и говорить не приходится! Их, как и платья, Ирина меняла с истинно хореографической легкостью.
И, надо отдать справедливость, она производила иногда фурор своими нарядами. Многие в университете считали, что Ирина прекрасно одевается и у нее тонкий вкус. И хотя говорят, что о вкусах не спорят, Леся наперекор этому правилу однажды крепко поспорила на комсомольском собрании. Она говорила, что иной раз Ирина является на лекции в неприлично крикливых платьях, которые оскорбляют девичью стыдливость.
Вот этого и не могла простить Лесе Курпите развязная Ирина, с острым как бритва языком.
Желая уязвить Лесю тем, что та всегда носит, сменяя одну другой, две вышитые гуцульские кофточки и домотканую юбку, выкрашенную в темно-синий цвет, она злорадно дала прозвище девушке – «Дитя гор». Но поэтическое имя так шло смуглолицей гуцулочке, что в устах товарищей «Дитя гор» звучало, вопреки желанию Ирины, как ласка.
– Нас ждут, Наташа! Мы же опаздываем… – громко упрекнула Ирина, видя нерешительность подруги. – Бог мой, не сахарные, не растаем под дождем!
– Тебе хорошо, у тебя плащ, – возразила Наташа.
– Но твои кудряшки после небесного душа станут еще прельстительнее. – И вдруг сквозь сдавленный хохоток Леся услышала уже в свой адрес: – Шик, блеск, красота! Взгляни, Наташа, как гармонируют ее туфли с этим модным пальто!
Прошуршав заграничным плащом ядовито-зеленого цвета, Ирина проскользнула мимо Леси и выскочила под дождь, увлекая за собой Наташу.
«Переживать из-за стиляги? И не подумаю. Просто непонятно, что ее привело на наш факультет? Разве такая сможет учить других, если сама так неправильно живет, если сама такая чужая, далекая людям… Чиненые-перечиненные туфлишки никак не подходят к моему новому пальто, это я и без тебя знаю. Но пока не могу выкроить из своей стипендии на новые туфли. И так попросила маму прислать мне недостающих денег на пальто…»
Деревья стряхивали капли дождя, когда Леся перебежала мостовую и торопливо зашагала вверх по аллее парка. Она уже приближалась к белой беседке, недалеко от здания банка, когда вдруг увидела под деревянной скамейкой черную дамскую сумку. Громко окликнула – может, услышит тот, кто ее потерял.
Но никто не отозвался. Тогда Леся вынула из сумки запечатанную пачку пятирублевок, паспорт и небольшую продолговатую пенсионную книжку. Перелистав паспорт, Леся узнала, что сумку с деньгами и документами потеряла жена погибшего полковника. У нее пятеро детей и старики – родители мужа. Живет она в районе Высокого Замка, на улице Довбуша. Но что было самым удивительным, в списке детей значилась Наташа Яременко.
– Да, лет ей примерно столько, – взволнованно шептала Леся.
С фотографии на паспорте грустно смотрела болезненная, еще не старая женщина, совсем не похожая на Наташу, однокурсницу Леси.
«Надо сейчас же вернуть сумку», – подумала Леся.
Она побежала по аллее назад, в сторону главней почты, где проходил трамвай, поднимающийся в район Высокого Замка.
Через тридцать минут Леся позвонила в дверь квартиры на втором этаже.
Двери открыла худенькая темноволосая девочка с заплаканным личиком.
– С мамой был припадок. А теперь лежит и плачет. У нас…
Вдруг девочка смолкла, лицо ее просветлело, и, подпрыгнув от радости, она бросилась в комнату, оставив Лесю в коридоре у раскрытых дверей.
– Мамочка!.. Там… твою сумку принесли!
Как светло, как радостно на душе, если ты можешь помочь человеку в беде.
Леся сидела напротив дивана, где лежала женщина, окруженная домочадцами.
– В банке было душно… Вышла, присела на скамейке в парке… а потом уже не помню, как добралась домой, и сразу этот припадок… Не знаю, чем мне отблагодарить вас, милая девушка.
– За что же? – смущенно краснела Леся. – Только, извините меня, пожалуйста, я взяла в вашей сумке… тридцать копеек на трамвай.
В комнату вошла Наташа.
– Так вот ты какая, наша Дитя гор? – сказала она, обнимая Лесю.
– Какая? – вконец смутилась Леся.
– Честная.
– Ты поступила бы иначе?
– Думаю, что нет.
В разговор вмешалась младшая сестренка Наташи, открывшая Лесе дверь.
– Один раз в хлебном магазине я тоже потеряла целых двадцать пять рублей. Кто-то бессовестный поднял и не отдал. Ой, как я плакала-а-а! – и, прильнув к гостье, девочка убежденно заключила: – Я тоже буду, как вы.
Потом девочка спрятала ключ от входных дверей, чтобы Леся не ушла. Волей-неволей пришлось остаться обедать в этой большой гостеприимной семье.
– Наталка, а ты почему не ешь борщ? – спросила старушка.
– Нет аппетита, бабушка, – ответила Наташа и отставила тарелку.
– Неприятности? – встревожилась мать.
– Да что ты, мамочка! Все хорошо.
Обед близился к концу, когда в передней раздалось несколько нетерпеливых звонков.
Ирина влетела в комнату, как вихрь, сразу даже не заметив Лесю.
– Нет, такой дурочки я еще никогда не видела! Лидия Ивановна, да хоть вы внушите Наташке! У нее талант! Ее ждет слава! Боже, если бы мне ее фигуру, лицо, голос! Ну что ей даст этот исторический факультет? Ушлют работать учительницей куда-нибудь в село! А ей предлагают… В нее влюбился знаменитый…
И вдруг, заметив Лесю, смолкла. Негодующе посмотрела на Наташу.
Леся, питая к Ирине взаимную неприязнь, заторопилась уходить.
– Посидите, – попросила хозяйка.
– Не уходи. Что ты там в общежитии не видела? – удержала за руку Наташа.
– Мне в библиотеку нужно. Я заказала книги, хочу позаниматься.
И Леся ушла.
За окном сгущались сумерки. Листья клена, словно большие птицы, слетались на подоконник читального зала. Дождь затих, но ветер усилился, и Лесе стало холодно сидеть у окна. Она собрала книжки и пересела поближе к кафельной печи, в которой горел газ. Не успела девушка углубиться в раскрытую книгу, как кто-то, усаживаясь, неловко и шумно задел стул, на котором она сидела.
– Надо осторожней, – недовольно шепнула Леся, порывисто повернув голову.
Ее взгляд встретился с виноватой улыбкой молодого человека, которого Леся уже не раз встречала здесь. Он всегда умудрялся сесть как-то так, чтобы она его видела. Это был тот самый Владимир Латорица, из политехнического института, известный студент, о котором писала молодежная газета. Там же был помещен и его портрет.
Вот и сейчас он сел очень близко.
Леся по нескольку раз перечитывала одни и те же строки, не запоминая ни одного слова. Хотела украдкой взглянуть на своего соседа, что-то быстро писавшего в толстой общей тетради. Но в тот же миг он перестал писать и посмотрел ей в лицо.
От смущения у Леси пойманной птицей затрепетало сердце. Уткнувшись в книгу, злясь, мысленно укоряла себя: «Нашла время глаза пялить! Как неловко получилось… Он, конечно, выдающийся, а ты?»
Но и «выдающийся» в эти минуты сидел в раздумье над раскрытой книгой, глядя куда-то мимо строк. Он думал о Лесе, даже не зная ее имени. Прежде, издали он не раз заглядывался на стройную гуцулочку.
Там, в селе Родники, где Леся родилась и росла, девушки говорили, что любовь приходит, когда в садах деревья, словно невесты, одеваются в нежно-розовую дымку цветов, когда ласточки прилетают в родные гнезда из-за синего моря, а гром весело играет в горах с весенней грозой. А потом снежно белеют в лесной траве душистые ландыши, похожие на чистые светлые надежды…
Но к Лесе это пришло в холодный дождливый осенний вечер, когда аллеи парка покрылись листьями клена. Рядом с нею шел этот большой, сильный молодой человек.
– У меня с детства была мучительная тоска по родному и близкому человеку, – рассказывал Владимир. – И вот я встретил девушку. Мне показалось, что мы полюбили друг друга. Да, мы расписались. Мечтал, что она будет мне верной женой… Но она хотела уехать с одним артистом… И вот уже четыре месяца я не ищу с ней встреч, мы стали совсем чужими… Зачем я все это говорю? Может быть, вам это совсем неинтересно.