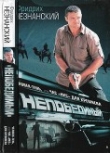Текст книги "Опасное молчание"
Автор книги: Златослава Каменкович
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 21 страниц)
Человек «умеет жить»
Мелана лежала не шевелясь, как мертвая, хотя смутно до ее сознания доходили тревожные людские голоса. Ей казалось, что она уже никогда не вырвется из беспросветного мрака, где чьи-то сильные пальцы впились ей в горло. И этот шум… нестерпимый шум… и холод… Когда же ощущение шума в ушах стихло, она почувствовала, что отогревается, оживает.
– Где я? Кто вы? – открыв глаза, сдавленным голосом спросила Мелана.
– В доме друзей, – веселым и дружелюбным тоном отозвался Кремнев, и его черные глаза под сросшимися бровями, в первое мгновение испугавшие Мелану своей строгостью, как только он улыбнулся, неожиданно показались ей по-отцовски ласковыми.
– Но… я вас… вы меня совсем не знаете.
На глазах появилась непрошенная слеза и покатилась вниз.
– А плакать зачем? Вот сейчас мы выпьем валерианочки, – проговорила тоненькая блондинка с ямочками на щеках. Она взяла мензурку с водой, отсчитала капли и бережно, чтобы не пролить на платье Мелане, поднесла к ее губам.
Мелана покорно выпила, поблагодарив Ганну.
Когда прошла первая минута исступленного горя, Мелана вдруг вся затрепетала от сознания, что ее покинуло чувство своей ненужности. Она облегченно вздохнула всей грудью.
Мирослава Борисовна нагнулась и подняла с пола траурную ленту, видимо упавшую с руки Меланы, когда ее закосили в комнату.
– У вас кто-то умер? – осторожно спросила Ганна.
– Дочка, – как бы снова поднимая непосильную тяжесть, громко вздохнула Мелана. – А моего сына…
– Нет, нет, вы лучше ничего не рассказывайте, – остановила ее Мирослава Борисовна, испугавшись, что это может травмировать женщину.
«Пускай выговорится, пускай успокоится, – сказал жене взгляд Кремнева. – Самое страшное для нее сейчас апатия, безразличие, равнодушие».
В первую минуту, когда Мелана начала свою исповедь, в душе Петра шевельнулось неприятное чувство: «Эта особа достаточно раскрыла свою жизненную позицию, а сейчас будет винить кого угодно, только не себя за легкомыслие, которое едва не стоило ей жизни…»
Но беззвучный голос рассудка тут же упрекнул:
«Как ты можешь судить человека, если не умеешь подмечать в нем то, что скрыто от тебя? Может быть, здесь кроется нечто более значительное, сложное? Не спеши с выводами, может, личная драма этой молодой женщины, как охотника по заячьему следу, приведет тебя к медведю. И может быть, тебе откроется не только то, с чего началась ее беда, а ты сумеешь разглядеть более широкий конфликт. Сложны оттенки чувств человека, но ты знаешь, сколько терпения, такта, чуткости, психологической тонкости понадобится в твоем нелегком труде».
Сейчас Петро открывал для себя удивительно противоречивый характер Меланы. Но ее искренность… Не зря же этот драгоценный дар природы сравнивают с красотой, талантом, умом… И уже не просто вежливость или любопытство, а скорее чувство, похожее на муки голода, заставило Петра слушать эту женщину, позабыв, что ему необходимо собрать вещи, отобрать нужные тетради с набросками. Он собирался в колхозе работать и писать.
Меж тем исповедь, в которой чередовались нежность и надежда со страстью и гневом, близилась к концу…
– Так вы уже читали этот фельетон? – краска залила бледное лицо Меланы. – Жаль, что его автор не до конца назвал зло своим полным именем. И это потому, что Петро Ковальчук, совсем не зная меня, никогда не видя в глаза, взялся думать и говорить за меня…
– Жанр фельетона это позволяет, – возразил Петро, выдержав взгляд, полный открытого упрека. – Важен сам факт.
– А человек? Человек не важен? – теперь она уже посмотрела на него удивленно, почти с испугом, хотя и не подозревала, с кем говорит. – Да он же своим колючим пером расписал меня такой, что мне другой дороги нет, как только в петлю…
– Теперь вы задним числом раскаиваетесь, – заговорил Петро. – А тогда…
– Вы хотите сказать, что я тогда была бездушной? Да?
Петру стало неловко, он сконфуженно молчал.
Мелана вдруг присела на кровати, схватила руку Ганны, точно чего-то испугавшись.
– Вы очень волнуетесь, не надо рассказывать, – попросил Кремнев.
– Нет, нет, того, что они делают… нельзя допускать! Это преступно…
– Успокойтесь. Кто «они»? – спросил Кремнев.
– Его прихлебатели… подхалимы… Они с почтением говорят о Димарском: «Этот человек умеет жить»… Боже мой, как я уставала! С утра топчусь на кухне, чтобы вечером они пировали… Сперва думала, что все эти приемы у Димарского от чистого сердца, от доброты… И я сама старалась, чтобы угодить… Но иллюзии мои пропали, когда я поняла, зачем собираются у нас эти люди. Бывало, из кухни слышу, как Димарский безжалостно, точно топором рубит, кричит: «Разгромить!» Пройдет неделя, другая, приносит он домой газету. Настроение у него чудесное.
«Прочитай, – хохочет, – мокрого места от художника не оставили!»
Читаю и глазам своим не верю. Я же была на выставке, видела его картины. Димарскому далеко до этого художника. А в газете – жуть!
Художник бросается за сочувствием к Димарскому.
О да, Димарский умеет казаться порядочным.
«Рецензия похожа на расправу без суда! – лицемерно возмущается он. – Я непременно скажу свое слово в твою защиту, будь спокоен, друг мой…»
– Подобные типы, вроде Димарского, к сожалению, далеко не последние могикане прошлого, – заметил Кремнев.
– Страшно, – Мелана закрыла руками лицо. – Можно подумать, что у честных людей, с которыми он встречается, глаза завязаны. Они не видят подлеца, который уродует, пачкает чужую жизнь.
– Вы же видели? Почему молчали? – вспыхнул Петро.
– Ах, что я? Кто меня станет слушать? Да, я хотела работать, но Димарский запрещал… Да, да, я хотела взять к себе сына и мать, но Димарский кричал: «Ты сама – тунеядка, живешь за мой счет, а еще хочешь, чтобы я содержал какую-то старуху и чужого ребенка!» Я была неблагодарной дочерью, плохой матерью, все это так… Но почему же автор фельетона умолчал о Димарском?
– В этом она права, Петрик, – заметил Кремнев. – Общеизвестно же – куда не достанет меч закона, туда всегда достигнет бич сатиры.
– Да, я был обязан поговорить с вами, прежде чем написать этот фельетон, пусть для этого мне даже пришлось бы пройти пешком сотни километров. – Петро прямо глядел в глаза женщине.
– Так это… вы? – волна безотчетной ненависти захлестнула Мелану.
– Петрик, выйди пожалуйста, – попросила встревоженная Ганна.
– Нет… Я больше и минуты здесь не останусь, – поспешно надевая туфли, зло прошептала Мелана.
– Вы никуда не уйдете, – решительно удержал ее Петро. – Хватит вам ходить по краю жизни.
– Не ваша забота… Пустите!
– Мелана Орестовна, – ласково обняла ее за плечи Мирослава Борисовна. – Вам некуда идти. Вы останетесь у нас. Петрик, тебе пора собираться. Когда уходит автобус?
– В шесть утра.
Сильнее смерти
Кусок тревожной жизни села, не так давно освобожденного от гитлеровцев, уже глядел со страниц тетради Петра Ковальчука. Это были очерки, зарисовки. Что ни день – встреча с новой судьбой, новым интересным человеком.
Доярка Михайлина Гавриш… Пусть яростно хлещет весенний ливень, или туман мутной пеленой окутает все вокруг, или осенняя непогода бушует, пронизывая до костей, или ветер наметает глубокие снежные сугробы, кружит метель, а морозная тьма гуще смолы, но эта худенькая, прихрамывающая на правую ногу доярка с глазами, полными извечных, неисчислимых женских забот, каждый день неизменно с четырех часов утра уже на ферме.
Пять лет назад в колхозе было всего-навсего восемнадцать коров. Страшно было на них глядеть! Не хотели женщины работать доярками. И тогда Михайлина сказала себе: «А, не святые горшки обжигают!» – и взялась одна доить четырнадцать коров.
– Да в уме ли ты? Нехай наш председатель сам становится за дояра до таких коров, – сочувственно советовали люди.
– Ой, доченька, хватишь ты беды, – тревожилась мать.
Муж сказал:
– Ну, смотри, дело твое.
Не раз Михайлина возвращалась домой то смятенная и встревоженная, то подавленная, украдкой от мужа, матери и детей утирая слезы.
Потом дела пошли лучше: построили новый двухрядный коровник с цементными кормушками, автопоилки. Купили еще коров.
Осенью решили Михайлину послать во Львов на совещание передовиков сельского хозяйства.
Во Львов! От волнения у Михайлины перехватило дыхание. За все свои двадцать восемь лет жизни она дальше райцентра нигде не была.
– Поезжай, – сказал ей муж. – Мама за детьми приглядит. А я и за конюха справлюсь, и за дояра.
И Михайлина поехала.
Обратно словно на крыльях прилетела.
В райцентре на автобусной станции ее встретил заведующий фермой Захар Черемош, человек обходительный и деликатный. Каждый знает, что он и муравья не обидит, а однажды все-таки вышиб колхозному председателю Лозе пару зубов. Отсидел в милиции. Лютые они враги с председателем. А с чего пошла эта вражда, никто и не припомнит. Оба из бедняков, всю жизнь горб на кулаков гнули.
– Поведаешь людям, что нового узнала на совещании, – сказал Захар Черемош.
Собрание, которого Михайлина ждала как праздника, после всего, что случилось, до сих пор не может вспомнить без грусти.
Еще не чувствуя себя беззащитной, но инстинктивно настороженная, как птица, Михайлина принялась рассказывать о достижениях лучших доярок области, которые надоили свыше пяти тысяч литров молока от каждой коровы, когда вдруг услышала злой смешок председателя:
– Брось, не смеши людей!
А вслед за этим докладчицу оглушил выкрик колхозного счетовода:
– Не дети тут, чтоб сказки слушать!
– Не сказки я рассказываю! – побледнела Михайлина. – Все помнят, какая досталась мне Ласка? Сколько она сперва литров давала? Два? А теперь?
– Эге, кабы сивому коню черную гриву, был бы буланый, – замороченно отмахивался председатель. – Нечего от наших коров ждать чуда!
– Ты, председатель, не выкручивайся, – прямо сказал Черемош. – Что меж нами с тобой, то коров не должно касаться. Большинство коров теперь на ферме – высокоудойные. Твоя теперь забота обеспечить кормами.
– Так вот! – стукнул ладонью о стол Лоза. – Будет языком зря молоть! Корма я дам. Только, люди добрые, плюньте ему потом в очи, если расхвастается на весь район, а оно – во, дуля с маком, из этой шумихи получится.
– Выходит, то брехня, что другие и по пять тысяч надаивают? – не сдавалась Михайлина.
– Поживем – увидим! – отмахнулся председатель.
Ночью Михайлина не могла сомкнуть глаз. Спрятав лицо в подушку, она тихо плакала, чтобы не разбудить мать и детей. Ох, как было горько, что люди не поверили в такую ясную правду.
– Не реви, дуреха! Не верят – ты им делом докажи, – гладя большой теплой рукой волосы жены, успокаивал Павло, не признаваясь, что его самого так и подмывает перейти в дояры, чтобы утереть нос тем, кто не верит в высокие удои. Да ведь засмеют, не мужское это дело…
На следующее утро, как всегда раньше солнца, Михайлина уже была на ферме. И все она начала делать так, как советовали передовые доярки: перед доением обмыла вымя коровы теплой водой и вытерла чистым полотенцем, в конце доения еще раз сделала массаж вымени. Так изо дня в день, одновременно прибавляя кормов, Михайлина начала раздаивать коров, радуясь, что молока они начали давать все больше и больше. Применила она и опыт лучших доярок области по уходу за тельными коровами. В колхозе, как и во всем районе, укоренился обычай – тельных коров кормить кое-как, одной соломкой, а потом удивляться: почему после отела корова дает мало молока? И вот Михайлина, на удивление всем, наоборот, после запуска еще улучшила уход за своими коровами. Она кормила их по рациону, давала сена, концентратов, немного сочных кормов. После отела ее коровы сразу начали давать больше молока.
Ходит Михайлина, сияет вся, будто в радости выкупалась. И у других доярок тоже каждый день успехи.
С доброй завистью поговаривают между собой доярки:
– А Ласка, поглядите, уже дает Михайлине по двадцать восемь литров в день!
– Кто б мог подумать?
– А будет и сорок! – довольно рокотал бас Захара Черемоша.
Минул еще год. На первой полосе районной газеты «Вiльне життя» поместили портрет Михайлины Гавриш. Раньше ничем не приметные коровы, раздоенные неутомимыми руками Михайлины, теперь давали по четыре с лишком тысяч литров молока каждая.
И вдруг как гром с ясного неба: кормодобывающая бригада совсем прекратила подвоз на ферму викомешанки.
Прошел день, другой. В субботу, после третьей дойки, явился бригадир и привел двух престарелых коней.
– Вот, получайте! Теперь будете сами возить зеленый корм. И подстилку тоже.
– Как же мы управляться будем? – ахнули доярки.
– Про это вы у нашего председателя спросите. Я тут ни при чем, – проговорил бригадир негромко и виновато.
Михайлина вся так и закипела. Мало того, что у председателя слова расходятся с делом, он стал теперь открыто вредить.
Ну, хотя бы последняя история с высечкой. При всех районный зоотехник сказал Лозе, что для колхоза отпустили восемь тонн первосортной высечки. Да, Лоза честь-честью деньги перечислил. Павло Гавриш эту высечку сам привез. Но тут-то и случилось совсем непонятное: колхозный скот и грамма этой нормы не получил.
Михайлина собрала доярок – и в контору.
– Где высечка, председатель?
– «Свет коммунизма» попросил. Я и отдал соседям, – как ни в чем не бывало развел руками Лоза.
– А нашему скоту?
– И-и, что, у нас своей высечки мало? Вот намелю – и получите.
Прошло еще несколько дней. Рацион был окончательно нарушен, коровы недоедали, и удой катастрофически начал падать.
В тот вечер, когда Михайлина пришла на заседание правления колхоза, Лоза вынул трубку изо рта, сплюнул на пол и сказал:
– Дояркам тут никакого дела нет. Не звали, – в голосе председателя чувствовалась издевка.
Подхалимы угодливо захихикали.
– Не звали, а я пришла, – с достоинством отозвалась Михайлина. – Пришла спросить: долго еще наши коровы будут голодать?
– Эге, а пора бы тебе, Гавриш, знать, что молоко у коровы не на языке, как в старину говорили, а во, – председатель положил перед собой обнаженные по локоть огромные корявые ручища в рыжей щетине. – Теперь на весь свет заявили, что молоко у доярки во – в руках! Чула, вчера по радио объявили: Мария Омелько, из Сокальского района, от каждой из десяти коров надоила по пять тысяч семьсот четырнадцать литров! А другая доярка, известная тебе Ганна Клюк, та надоила от каждой из десяти коров по пять тысяч пятьсот тридцать литров. Вот как надо работать, Михайлина! А ты?
– По всему видать, у них председатели палки в колеса не суют… Вы ж видите, наших доярок усталость с ног валит, а вы…
– Как репей прицепилась. Замучила! – вдруг крикнул Лоза. – Не до коров мне сейчас. Уборка! А там молотьба! А еще вот, – председатель кивнул на студентов, – сто с лишним ртов прибавилось. Ну, в школу, если их набить, как зерна в мешок, семьдесят запхнем. А остальных куда? И хлеба нет, еще не смололи! Жмыхом мне их кормить? Эге?
– Прокормим как-нибудь, – отозвалась Михайлина.
– Оф, Петрик, этот председатель напрашивается…
– Спокойно, Йоська, – шепнул Петро. – Запальчивость легко может превратить промах в крупную ошибку…
– Ловлю тебя на слове, Гавриш, – опять сплюнул Лоза, – бери к себе в хату этих, – указал он на Петра и стоящего с ним Иосифа.
– И возьму. Да только не двух. Хата у меня просторная – четверых размещу.
Она посмотрела на студентов с той доброжелательной прямотой, которая с первой же минуты знакомства сближает людей. Но улыбка короткая, озабоченная, осветившая на миг лицо женщины, тут же погасла, как порой сквозь тучи прорвутся лучи солнца, чтобы потом сникнуть в темноте неба.
– Буду на тебя, председатель, в райком партии жаловаться, – пригрозила.
– Притом как ты есть калека, тебя там пожалеют, – усмехнулся Лоза. – А то и председательствовать за меня призначат. Я им спасибо скажу. По горло сыт этим председательством.
«Какая торжествующая наглость, – едва сдержал себя Петро. – Посмотрим, посмотрим, что ты за птица…»
Вот так Петро познакомился с Михайлиной Гавриш.
По дороге он осторожно спросил доярку:
– Лоза у вас давно председательствует?
– Говорят, как колхоз тут организовался.
– Так вы не из этого села?
– Мы тут недавно стали жить. Может, слышали про наше село Острив?
– Которое бандеровцы сожгли?
– Да.
Михайлина провела рукой по лицу, как бы отгоняя какие-то страшные воспоминания. И вдруг сказала:
– Там уже отстроились.
– Почему же вы не вернулись? – спросил Талмуд.
– Из-за мамы… Ей там все время чудится, будто из колодца слышатся голоса…
И, слушая Михайлину, молодые люди чувствовали, как у них в жилах стынет кровь.
– …Тогда бандиты погнали маму и меня… На руках несу годовалую дочку… Вот и колодец… Боже милый, стоят мои браты – Гнат и Федько. Руки колючей проволокой скручены… у Гната рубаха вся в крови. А Федька… его признать можно только по одеже… Лицо распухло, око выбито, с губ кровь сочится…
– Ты заявление в комсомол правой рукой писал? – спрашивает младшего пьяный бандит Гондий, вечное проклятие ему. Он из нашего села. Еще в сороковом у этих богатеев колхоз забрал мельницу и лошадей…
Гнат молчит.
– Правой, спрашиваю? – хлестнул его плеткой Гондий.
– Как сам левша, думаешь и другие? – усмехнулся Гнат, будто перед ним не главарь банды с автоматом, а тот же губастый мельниковский отпрыск, который всегда первым наскакивал, как петух, а потом с побитой харей бежал жаловаться своему батьке…
– А ты? Тоже правой рукой заявление в колхоз писал? – это Гондий Федька спрашивает.
– Я такой падали и отвечать не буду! – плюнул ему в глаза Федько.
– Выкалывайте ему второе око! – крикнул Гондий бандитам.
Мама упали в ноги этому убивцу и стали молить, чтоб простил сыновей…
– Встаньте, мамо!!! – закричал Федько. Этого крика мне уже до самой смерти не забыть… То еще счастье, что мама без памяти лежали, не видели, как Федьку и Гнатку, уже слепым, рубили правые руки… бросали в колодец… Потом маму поволокли в хату… Меня с дитем тоже загнали… И подожгли хату…
В огне бы нам и конец. Ведь триста дворов взялись костром! Ни детей, ни старых, ни женщин ироды проклятые не щадили… Стреляли из автоматов в огонь… Да, видно, на роду написано нам жить… Сквозь пламя пробился к хате Павло, мой муж… Он неподалеку у брата прятался. Вышиб окно, маму на плечо, ребенка в охапку, и мы побежали… Уже на краю села догнала меня бандитская пуля, в ногу жахнула… Мама, где только силы у них взялись, побрели, а меня понес Павло…
– Ваш муж герой! – с волнением сказал Иосиф. – Это подвиг…
– И любовь, – в задумчивости добавил Петро.
Возле самого дома Гавриш от группы пионеров, шедших навстречу, отделилась девочка в пестром платьице.
– Добрый вечер, – подбегая, засмущалась она.
– Это моя Марийка, – доярка погладила волосы дочки. – Та самая ласточка, которую из огня Павло вынес…
– Мамо, я помогла бабусе выкупать детей. В хате прибрала. Иду к телятам.
– Умница. Татусю скажи, что у нас гости, пусть поспешит домой.
Еще одно знакомство
Горячая беспокойная пора жатвы подходила к концу.
Василь окончательно потерял покой. Помимо своей воли страх за Петра, который опубликовал свой очерк и вывел на чистую воду председателя, просыпался с ним утром, а иногда будил его и по ночам. Зря хвалилась перед председателем Михайлина: «Хата у меня большая – четверых размещу». Хатенка оказалась незавидная, тесная, с оползающей соломенной крышей, как говорится, и курице носом негде клюнуть. Так что студенты, протомившись несколько ночей в духоте, перебрались на сеновал возле коровника. И однажды, когда старая Богдана доила корову, стук молока о подойник почудился Василю автоматной очередью. Он схватился со сна и, крича: «Петрик, берегись!» – прикрыл собой друга. Хлопцы весь день посмеивались над ним. В душе Василь и сам стыдился этого страха, но ничего не мог с собой поделать.
Он часто ссорился с Петром.
В этот раз схватились на току, во время перекура.
– Чего ты вмешиваешься во все, где тебя даже не просят? – кричал Василь. – Наше дело тут маленькое, поможем – и будьте здоровы. Так нет, сцепился с этим Лозой…
– И это говорит будущий врач? Человек, чья профессия требует самоотверженности, чистоты души и помыслов. Да, видно ошибаться в людях – тоже недостаток врожденный, – нахмурился Петро.
– Это ты мне приписываешь? – наступал Василь.
– Себе. Из-за этого я никогда не смогу написать хорошую книгу.
– Ерунда, – возразил Иосиф, тщательно туша каблуком самокрутку. – Что значит: «Не смогу написать?» И зачем ты ему, Василько, надоедаешь? Это его душевная потребность быть людям нужным. Пусть живет, как он понимает.
– А ты блином масляным в рот не лезь! – раздраженно оборвал его Василь. – Забыл что ли, как сам за голову хватался: «Петрик спятил! Написать около двухсот писем, чтобы разыскать родителей какой-то девушки Раи, которая потеряла их в войну!»
– Да, тогда я таки думал так, – не стал отпираться Иосиф. – Но раз поиски принесли людям радость и Рая все же нашла своих родителей, мне самому даже совестно за те слова. Петрик это знает, я ему говорил.
– Тогда вспомни историю с директором универмага! Что ты сказал, когда стая жуликов выслеживала Петра, чтобы учинить над ним расправу?
– А чья взяла? Они таки да получили по заслугам. И Петрик про это здорово написал! Это получилось знаменито, когда стена в ванной комнате у этого мошенника-директора оказалась пустотелой, а на кафельный пол из тайника посыпались золото, бриллианты и двенадцать сберкнижек! Выкрутиться жулику не удалось, и он вынужден был признаться, как под вывеской универмага нахапал полтора миллиончика: обмер, пересортица, «левая» продукция…
– Он мне рассказывает, – с досадой прерывает Василь. – Может, не я как тень ходил за Петром после того письма, где ему угрожали какие-то там «коллеги» этого директора?
– Никто тебя не просил, – сдержанно проронил Петро. У него было нехорошо на душе. Да, он понимал, ценил в друге детства чувство товарищества, бескорыстной заботы, но почему, почему Василь может мириться с нравственной грязью? Не станет ли эта его черта характера причиной разрыва их многолетней дружбы?..
– Вот брошу все и уеду! – в порыве нового волнения почти крикнул Василь.
– Хватит тебе, Василько, – беззлобно ударил его по спине Иосиф, чувствуя, что перепалка опять может кончиться ссорой друзей. – Не жалей, брат, спины – будут трудодни! Пошли на подачу. Будешь потрошить снопы, и злость пройдет. Ну, айда, а то вечереть начнет.
Погоди, я еще не все ему сказал. Можно подумать, он тут лично ответственный за все.
– Да, ответственный!
– И опять уже нажил себе кучу неприятностей, – тяжело выдохнул Василь.
– У меня совесть не глухонемая. Понял? По-твоему, ничего страшного в том, что Лоза кричит на людей, точно на скотину? Что запугал всех? Что он всегда пьян? Хоть раз ты видел, чтобы этот председатель поговорил, посоветовался с колхозниками? Нет. Плюет он на их заботы и тревоги! Только один товарищ Черемош осмелился ему в глаза сказать: «Ты у нас, Лоза, хитер: с чужого воза берешь, а в свой кладешь!»
– Между ними старинная вражда, – отмахнулся Василь, – все село про это знает.
– Так вот, о завфермой люди всегда добрым словом вспоминают, жалеют человека. Но заговори с ними о колхозном председателе, вздохнут: «А еще партейный…» Да, вот по такому Лозе они судят о партии. Слово чести, я доведу дело до конца! Выгонят его из колхоза!
– Ну, знаешь… У богатого гумна и свинья умна – так моя покойная бабушка говорила. Какой он ни есть этот Лоза, а урожай собрали хороший. Кому будет честь и хвала? Председателю. А ты – выгонять из колхоза!
– О нет, Лоза не дурак, – на высоком лбу Петра собрались морщинки, а глаза заметно потемнели. – Он – зло! И если я вижу, что зло – вот оно, рядом, я не могу его обходить молча.
Василь приблизился вплотную, подышав в лицо Петру:
– А если он… связан с этими?.. Недели ж не прошло, как скосили автоматной очередью Захара Черемоша, позавчера убили секретаря райкома… Выходит, бандиты где-то тут…
– Не бойся смерти, если хочешь жить, – мудро гласит пословица, – ответил Петро.
– Подумай, какое теперь время. Не такие, как мы с тобой, пока что не могут остановить этого разбоя. И у нас, Петрик, много еще осталось земных дел… Да ты не обижайся…
– Обиженного обижать – двойной грех, – с оттенком горького разочарования в голосе, не дослушав Василя, отвернулся Петро. Но в то же мгновение снова порывисто повернул к нему лицо: – Пойми же, не хочу я полумертвой жизни! Не хочу осквернять светлую память моего отца… Он ведь не испугался?
– Да, но немцы его расстреляли.
– Фашисты… А он – жив! Он во мне жив!
После минутного молчания, во время которого они, как по уговору, все трое разом закурили, до них донесся женский голос, звавший Василя.
– Это уже точно, где женщина за командира, там нашему брату и покурить некогда, – оборвал молчание Василь, чтобы скрыть на этот раз уже смущение, хотя Петро и Иосиф не могли догадаться, что Христина снится Василю по ночам. Да и ничего друзья не знали о разговоре, что был между Василем и девушкой, когда они в воскресенье возвращались из клуба после кино. Судьба безжалостна. Христина, правда, не без грусти, меж тем вполне определенно сказала, что лучше им не свыкаться, все равно придется расставаться. Никуда она из села не поедет. И так в колхозе настоящая беда, некому работать. Почти вся сельская молодежь в городе пристроилась: кто на заводе, а девчата больше в домработницах. Да, у Христины есть мечта. Она будет агрономом. Зачем уезжать? Можно учиться заочно.
Сейчас Христина бежала, утирая косынкой пот с лица, что-то говорила, изредка оборачиваясь назад. Но из-за шума молотилки нельзя было разобрать ни одного слова.
– Что там случилось? – подбежал к ней Василь.
– Какие-то неизвестные… Трое их… Наши женщины боятся, – на милом и простодушном лице девушки метался испуг.
– А неизвестные на танках или пешком? – шутливый тон Петра сразу погасил панику.
– У них… одно ружье, – смущенно проговорила Христина.
– Пошли! – сказал Петро, на ходу доставая пистолет и снимая предохранитель.
Виновниками кратковременного переполоха на току оказались геологи. Среди них особенно нагнал страху на женщин атлетического сложения человек лет двадцати восьми. За спиной у него темнело ружье.
Вскоре, благодаря своему общительному характеру, Петро узнал, что этот молодой геолог весной побывал на Камчатке, где в это время происходило извержение вулкана.
– И землетрясение было? – спросил Иосиф.
– Да еще какое! – ответил Игорь Северов, – так он себя сразу назвал при знакомстве. – Извержение сопровождалось молниями, которые, словно гигантские огненные удавы, извивались в черных вулканических тучах.
– А как же вы? – с недоверием взглянул на геолога Иосиф.
– Я находился в трехстах километрах от вулкана. Но эти молнии видны даже за пятьсот километров. Из вершины падали раскаленные облака лавы и даже вулканические камни-бомбы. Вот ими я позже и занимался. Между прочим, я здесь вчера нашел, – геолог быстро стал извлекать из рюкзака сперва полотенце, рубашку, книгу, – вот этот камень. Посмотрите внимательно.
Иосиф взял в руки камень цвета густого красного вина и с любопытством принялся его рассматривать, ожидая объяснения, чем же этот камень так обрадовал геолога.
Петра же привлекла книга, которую он увидел у геолога. Это была повесть «Дерсу Узала». Спросив разрешения посмотреть ее, Ковальчук отошел к умолкающей веялке, где уставшие женщины вытряхивали косынки, собираясь в село.
– Про любовь? – краснея спросила Христина, ткнув пальцем в книгу.
– И да, и нет, – улыбнулся девушке Петро, раскрывая книгу. И вдруг так и впился глазами в надпись на титульном листе:
«Будущему советскому следопыту. Учись хорошо, Игорь. Твои знания нужны Родине. Иди смело в жизнь. А жизнь – золотая книга, и таким, как ты, юным, пытливым, отважным, еще много осталось перевернуть золотых страниц этой замечательной книги.
С. М. Киров».
Петро весь как бы заискрился светом: «Вот это знакомство! Сколько Игорь Северов может рассказать о Кирове… Он знал, видел его, говорил с этим замечательным человеком!..»
К Петру подошел худощавый геолог с острыми глазами и седеющим клинышком бородки, удивительно похожий на Чехова.
– Ваш товарищ говорит, – кивнул он на Василя, – что последний автобус на Львов уже ушел. Как вы думаете, мы сможем переночевать в школе?
– Зачем же в школе? – Петро бросил осуждающий взгляд на Василя. – Идемте с нами.
Они зашагали прямиком через скошенный луг, иногда вспугивая не то жаворонков, не то каких-то других птиц.
Игорь Северов оказался на редкость простым и симпатичным человеком. Стоило Петру попросить рассказать о своем знакомстве с Кировым, как тот оживленно сказал:
– Пожалуйста, я с великой охотой. Тогда я учился в третьем классе и до умопомрачения зачитывался приключенческими книгами. Одноклассники мне дали кличку «Ястребиный Коготь». Я, конечно, гордился этим. И очень скоро я поверил в то, что я – не я, а бесстрашный следопыт и вождь непобедимого и отважного племени. И все было бы хорошо, но однажды наши ребята стали выбирать нового старосту класса.
Все в один голос закричали, что надо выбрать меня. Однако пионервожатый Костя вдруг заявил: «Игорь Северов не подходит. Во-первых, он не совсем в дружбе с грамматикой, да и по арифметике прихрамывает. К тому же он вчера организовал «восхождение» на школьный чердак, и из-за этого шесть ребят опоздали на урок…» В общем, меня не выбрали, хотя все ребята потом говорили, что непременно выберут меня в другой раз. Вероятно, думали, что я на них обиду затаил. Только они ошибались. Просто-напросто я твердо решил – не один, а с моим верным другом Васькой Топоровым, пареньком по кличке «Орлиный Клюв» – бежать к настоящим индейцам.
Счастье нам улыбалось. Мой отец в это время был в командировке. А мама… она всегда верила мне. Теперь даже стыдно и больно вспоминать, как часто я огорчал ее и обманывал…
Итак, на другой день был назначен побег. Утром я притворился, что у меня болит горло, голова и живот. Встревоженная мама не позволила мне вставать с постели. А ровно в десять часов утра кто-то позвонил в нашу дверь.
– Что же ты не в школе, Васек? – услышал я, как спрашивала мама моего приятеля. – А это зачем же у тебя мешок за плечами?
Я лежу ни жив ни мертв. Как он выкрутится? Ведь Васька, наверное, подумал, что моя мама побежала в поликлинику за врачом.
– Мы… мы… – растерянно мычит Васька, – на экскурсию сегодня всем классом ехать собираемся, – вдруг складно соврал «Орлиный Клюв». – На Елагин остров. Я увидел, что Игоря нет, и забежал…
– Нет, дружок, ты лучше не ходи к Игорю, кто знает, а может быть, у него что-нибудь инфекционное? – с тревогой в голосе сказала моя мама.
«Западня!» – дрогнуло мое сердце.
Вскакиваю на пол, хватаю со стола зеркало и, нырнув снова в постель, пускаю в коридор зайчика. Вот он прыгнул на стену, потом перебрался на руки моего верного друга. Да, «Орлиный Клюв» догадался, потому что слышу, как он начал торопливо прощаться: