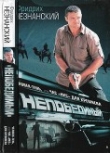Текст книги "Опасное молчание"
Автор книги: Златослава Каменкович
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 21 страниц)
– Нам неизвестно, что предпримут бандиты. Неизвестна и численность их, – сказал Скобелев. – Дипломатию здесь в ход не пустишь. Так что ты, гроза, грозись, а мы друг за друга держись!
И он, проверяя оружие, изложил свой план действий.
На столе две нетронутые бутылки самогона, хлеб, нарезанное сало, глиняные миски с холодцом. Но Гондий ни к чему не притрагивается. Злые глаза его, неожиданно вспыхивающие, как угли, обжигают хозяина. Однако, не чувствуя за собой вины, Лоза спокойно наливает гостю стакан. На лице хозяина – ни тени страха, беспокойства или смущения.
– Не прикидывайся овечкой, – в упор смотрит Гондий. – Только ты знал, где оставили бензин. Давай сюда канистру, соль тебе в очи!
– Нехай надо мной вороны крякают, если я к тому бензину руку приложил, друже провиднык[8]8
Вожак, главарь.
[Закрыть].
Сутулый, большеглазый, с мальчишеским лицом бандит по кличке «Флояра» кивнул на стаканы: мол, выпьем?
Гондий решительно отодвинул от себя стакан.
– Выпей, Апостол, не обижай хозяина, – сказал Лоза, присаживаясь к Гондию. – Христом богом заверяю, не брал бензина. Может, утром какая холера и притащит ту канистру в сельсовет. Верь мне, как тяжелый крест, ниспосланный злой долей, тащу на себе эту службу. Скоро конец? Скоро конец? Когда начнется?
Чуткий слух Гондия все время насторожен. Кто-то со двора подает сигналы тревоги. Гондий схватился за автомат. Ждет…
Не по возрасту легко вбежала хозяйка.
– Ну? – настороженно глянул Лоза.
– Стучала в дверь… а потом и в окно… Ни ее, ни матери добудиться не смогла… Но лампа в хате не погашена.
Лоза видит, как Гондий из-под приспущенных век недоверчиво косится на Мотрю.
– А у Гавришей? – спешит Лоза разрядить накаленную обстановку.
– Была, – кивнула жена. – Передала, что утром Михайлину в район, к секретарю партейному вызывают… Заторопилась она пораньше уложить детей. Я тоже пошла. Уже на улице из-за плетня увидела: старуха лампу погасила.
– Академики тоже в хате были?
– Нет, – Мотря отвела глаза, словно боялась себя выдать. Насчет Михайлины она соврала: не заходила к ней, а только, пробегая мимо дояркиной хаты, видела – кто-то задул лампу. И тогда ей подумалось, ведь все равно никуда уже Христина утром не поедет, эти изверги не пощадят ни ее, ни старую мать, детей, даже младенца в колыбели… И ей, Мотре, незачем приобщаться к этим зверствам – все же меньше греха на душе…
– Я ж говорил, эта рвань на сеновале спит, – Лоза заискивающе заглянул в лицо Гондию. – Ну, опорожним по стаканчику?
– А у этих… голодранцев-академиков оружия нет? Ручаешься? – спросил Гондий.
– Есть, есть, как у жабы перья, – хохотнул Лоза. Он залпом опорожнил стакан и, не закусывая, крякнул: – Горька, холера, да и жизнь не слаще!
Дверь отворилась, и на пороге бесшумно появился высокий горбоносый здоровяк с бычьей шеей. На груди у него висел автомат.
Горбоносый был в милицейской форме.
– Пес у Гавришей во дворе есть? – спросил Флояра.
– Пса нет, – уточнил Лоза, – только… хуже собаки там этот… белявый академик-писатель… У, холера, совет стопроцентный!
– Хватит, друже, пить, – предостерег Гондий, когда Флояра собирался опрокинуть второй стакан, – Выпьем, когда воротитесь, Явир! – обратился главарь к «милиционеру», все еще стоявшему в дверях. – Хату Гавришей найдешь?
– Хоть с завязанными глазами.
– Старайтесь без шума, – давал указания Гондий. – А к дивчине пойдем все разом. Лоза нас проводит. Помогай вам бог.
Мотря, дрожа от страха, прошла через сенцы в другую комнату, где спали дети. Как и в ту ночь, когда убили Захара Черемоша, она намеревалась молиться, но невольно шептала проклятья мужу и тем, с кем он связал свою судьбу… Господи, что им сделал Захар? Кормилец такой большой семьи… Когда-то… давно-давно это было, и все как во сне… Захар Черемош приносил ей охапки первой черемухи. Они с матерью были так бедны, что еле перебивались с хлеба на воду… Пугалась мать голодной бесприютной старости. Говорила: «Так так, у Захара работящие руки, добрый разум, но где он у нас в селе работу сыщет? Будет скитаться, искать заработка и куска хлеба. А у Лозы как-никак есть пара моргов своей земли, хотя он и безлошадный… Как-нибудь будете перебиваться…»
Сиротство и вечная нужда приучили к покорности. Не посмела ослушаться материнского слова и, не дождавшись Захара с солдатчины, покорилась, пошла за нелюба… Казалось, сам бог насмехался: весной прилетели аисты и свили на крыше гнездо. «То к счастью, к счастью аисты, благодарение богу», – мать радовалась за Мотрю. А Мотре хоть веревку на шею… Как полынь, горька жизнь с нелюбом. А было время, молила Исуса Христа, чтоб заставил впустить Лозу к ней в сердце. Да не помог бог. Уже и дети посыпались, а не живет Мотря, только дни доживает. Может, и грешна перед богом и детьми своими: стоило ей имя Захара услышать, стоило хоть краешком глаза издали взглянуть на него, дух захватывало в груди… Собою он был совсем неприметный: ростом мал, смуглое лицо, уже и лысеть начал… Но как открыто и приветливо смотрел он на людей… Кабы не драка тогда в правлении, быть бы ему, Захару, председателем. Да у Лозы нашлись крепкие свидетели, из тех, что за халявой нож носят, все и обернулось против Захара… А теперь он в сырой земле… Господи, не за себя страх гложет, за детей… Ночами заливалась слезами, говорила Лозе: советская власть крепко стоит. Куда с топором против солнца? Упрашивала порвать с «этими» из леса, нехай буйный ветер ихние поганые кости развеет… Но ее слова – будто капли дождя в стоячее болото, не в силах сделать его чище… Господи, да как же земля носит этих извергов! Сколько ни в чем не повинных людей загубили, сколько невинной крови пролили!.. Михайлину уже не спасти… А Христю? Да, дивчину с матерью еще успею…
Не пьет Гондий, глаза из-под приспущенных век зорко наблюдают за подвыпившим Лозой. У того язык развязался, горечь, обида и разочарование выплескиваются наружу: уже два срока назначили, чего ж там за кордоном медлят? Когда же придет их армия? Невмоготу становится вот так, на два фронта… земля под ногами горит!
– Пока что закордонный провид[9]9
Руководство националистической организации.
[Закрыть] приказывает беспощадно уничтожать коммунистов, комсомольцев и эту… рвань, что им подпевает!
Тем временем Мотря подкралась к окну. Осторожно открыла. Прислушивается… Где-то близко лают собаки. В просветах между тучами еще светят звезды, но по всему видно – будет гроза…
Гондий насторожился. Ему почудилось, что кто-то пробежал под занавешенным женской шалью окном. Одним прыжком он очутился у лампы и загасил огонь.
– Мотря! – позвал Лоза.
Молчание.
– Ах ты, сатана! Удавка по тебе плачет! – послышался из темноты сдавленный крик Лозы. И почти одновременно с этим где-то неподалеку прострочила пулеметная очередь.
– Кретины! – еще не заподозрив неладное, раздраженно гаркнул Гондий. – Я же приказал…
– Мотря!!! – крикнул Лоза, выбежав во двор. Вслед за ним, озираясь, вышел Гондий.
– Побежала к калитке! – шепнул Лоза, заметив метнувшуюся в темноте фигуру.
Гондий нажал на спусковой крючок автомата, и Мотря, даже не вскрикнув, упала замертво.
Короткие выстрелы вперемежку с автоматными очередями приближались.
– Что это? Наши боевики попали в засаду? – Гондий схватил за ворот Лозу. – Продал? Забыл, что ждет отступника?!
– Побойся бога… – испуганно выдавил Лоза.
Отстреливаясь, во двор вбежал Флояра и, упав почти у ног главаря, крикнул:
– Измена! Явир убит…
– Ах ты, иуда! – в ярости захрипел Гондий, отшвырнув от себя Лозу.
Поняв, что не миновать здесь беды, Лоза бросился бежать.
– Черт, заело автомат! – ругнулся Флояра. – Убей! Убей его, Апостол! – с чувством дикой злобы и мести взвыл Флояра.
Не успел скрыться Лоза: на пороге хаты скосила его автоматная очередь.
– Помоги мне встать, друже, – простонал Флояра. – ногу прострелили…
Он не видел, какой угрюмой решимостью в эту минуту дышало искаженное лицо Гондия.
Не подозревая о коварном замысле, Флояра еще из последних сил пополз за ним, но Гондий плеснул свинцом в лицо своему телохранителю.
Петляя огородом, Гондий выбрался к придорожному кресту, месту явок, где много раз Лоза передавал бандитам продукты. От дороги в двухстах шагах начинался лес. Не добежав до леса, Гондий едва не наскочил на машину с «ястребками», которые по сигналу Христины мчались в село.
Припав к земле, бандит еще долго не решался поднять голову.
Взошло солнце, щедро рассыпая золото повсюду: и на соломенные крыши, и на листву деревьев, и на землю, где под кустами смородины возле дома Гавришей лежал кто-то прямо на земле, прикрытый белой простыней. А возле бочки с дождевой водой из-под рядна тоже виднелись кончики чьих-то сапог.
Вырвавшись из могильной тьмы, дети весело забегали по двору, но бабушка укоризненно покачала головой и сказала:
– Тихо, тихо…
– А что, там дяди спят? – спросил Михась.
– Спят, спят…
– А почему на земле? Им же холодно.
Богдана утерла слезу.
– Бегите в хату, – велела она детям.
Скрипнула калитка, и во двор вошли, блестя мокрыми от росы сапогами, Петро с друзьями и еще несколько незнакомых Михайлине и Богдане людей.
Петро осторожно приоткрыл простыню и дрогнувшим голосом сказал:
– Товарища Скобелева автоматная очередь сразила на этом месте. А бандит был убит на крыльце. Его уже перенесли отсюда. Вероятно, чтоб не видели дети.
Лейтенант МГБ откинул край рядна, вглядываясь в лицо бандеровца.
– Да это же… Данько-пират! – не мог сдержать удивленного возгласа Петро.
– Вы его знаете? – в свою очередь удивился лейтенант.
– Да. Его фамилия Антонюк.
– Вы, кажется, назвали какую-то кличку? Это что – его псевдо?
– В детстве мы были соседями. Его мальчишеское прозвище Данько-пират.
Жизнь дана для добрых дел
Больше месяца живет Мелана у Кремневых. Ее мать и сын насовсем выехали в Ровно. Сейчас в однокомнатной квартире напротив идет побелка. Ордер на эту квартиру уже у Меланы. Завтра она впервые выходит на работу. Сперва ей было стыдно поступать в восьмой класс вечерней школы, но, увидев, что люди вдвое старше ее подают документы, решилась, и мало-помалу чувство неловкости сменилось радостью. Ведь три года пробегут быстро, закончит она десятилетку, а там – в институт.
В семье Кремневых Мелана познает все новые человеческие взаимоотношения. Как здесь просто решаются мелкие и важные дела! Все внимательны и нежны друг к другу. Когда говорят о тяжелом недуге, чужой беде, сердца их растревожены, словно речь идет о ком-то из близких, родных. Если Кремневу удается спасти больного, которого эти люди едва знают по фамилии, в доме настоящий праздник. Каждый из них одержим желанием приносить людям пользу. Их мир так широк и богат…
Какой теперь нестерпимо удушливой кажется Мелане та «красивая жизнь» с холодной жестокостью Димарского, его неверием ни во что, честолюбием, рабским поклонением вещам… Его идеалом было: «Какое мне дело до того, кто споткнулся и упал? Жизнь коротка, поэтому бери от нее все, что можешь!..» Но боже упаси, если этому типу жала туфля или не угодил портной. Тут предавался анафеме весь мир!
Мелана распрямляет спину, как бы сбрасывая непосильную тяжесть всего пережитого. Но пока еще эта тяжесть часто наваливается на плечи молодой женщины, и тогда она подолгу остается замкнутой, неподвижной, точно окаменевает.
«Вернулся с работы Кремнев», – прислушивается Мелана к шагам в коридоре.
– Папочка! – окликает его Наталка.
Мелана не может разобрать, о чем девочка так взволнованно рассказывает отцу. Но вот они подошли к самой двери, теперь отчетливо слышен голос Кремнева:
– Жизнь дана для добрых дел. И ты, Наталочка, не должна стыдиться доброты, великодушия…
«Какой хороший человек! – думает Мелана. – Знает, его жизнь может оборваться каждую минуту, внезапно, а вот… – она долго подыскивает подходящие слова и наконец находит их: – Он не утратил любовь к жизни. Может быть, поэтому в этой семье есть место шуткам и смеху… Только вот Ганночка почему-то часто бывает грустная. Ей-то зачем грустить? Мы ровесницы, но она через год уже врач с дипломом. И девушка так женственна, так красива. В чем же дело?..
Мелана лежит на кровати, Ганна – на диване. Свет погашен, но часто вспыхивающая неоновая реклама против окон освещает печальное лицо Ганны.
– Человек, которого я люблю… – задумчиво промолвила она. – Его уже нет. Остался его подвиг… Есть улица его имени… школа его имени…
– Кто же это? – тихо спрашивает Мелана.
– Александр Марченко.
В другое время Мелана не замедлила бы упрекнуть Ганну в наивном взгляде на жизнь: «Мертвого не воскресишь, а самой жить надо…»
Но сейчас Мелана молчала. Ее личная житейская мудрость оказалась такой несостоятельной, что Мелане теперь было не до советов другим, тем более Ганне, чья душевная чистота и стойкость вызывала в Мелане силы к жизни.
У Мирославы Борисовны большие, синие глаза, и смотрят они так прямо, открыто, что перед ними трудно лгать, кривить душой.
– Многие дети из моего пятого класса ведут такие дневники, – говорит она, протянув Мелане аккуратно обернутую в клетчатую бумагу объемистую тетрадь. – Этим дневникам они поверяют свои тайны, мечты. Дети пишут о самом дорогом, что у них есть в жизни. Откровенно признаться, я очень горжусь их доверием ко мне.
Мелана пробегает глазами страничку дневника.
«Моя мама всегда приветлива, – пишет мальчик. – Для меня она самый родной и близкий человек. Когда мой папа погиб на фронте, жить нам стало трудней. Особенно маме. Она и работает, она и дома все хозяйство ведет. И я часто задумывался: как сделать так, чтобы мама не уставала? Однажды она заболела. И тогда я почувствовал, как много она для меня делала!
Бывало в школу идешь, мама приготовит чистую рубашку, носки заштопает, брюки починит. А тут все как-то нескладно пошло. И в доме не прибрано, неуютно. Как-то я заметил, что мама с огорчением посмотрела на пол и покачала головой: пол был грязный, а мама очень любила, чтобы в комнате было чисто. Когда она уснула, я нагрел воду и стал мыть пол. Несколько раз протирал каждую половицу. С непривычки даже спина заболела. Но я маме в этом не признался. А теперь мне уже совсем легко дается эта работа. Стал я помогать маме и в других домашних делах. А раньше мне казалось, что это могут делать только девочки.
По вечерам, когда мама приходит с работы, чайник уже кипит, и мы садимся за стол. Мама рассказывает о фабрике, а я о своей школе.
Мама просматривает мои тетради. С радостью показываю их. Мои отметки – только четверки и пятерки. Мне приятно, когда мама улыбается и говорит: «Спасибо тебе, сынок».
Мне очень хочется скорее вырасти и получить специальность. Я еще не знаю, кем я буду, но знаю твердо: я сделаю все, чтобы моей маме всегда хорошо жилось».
После уроков Мирослава Борисовна попросила Ваню Близниченко остаться.
– Ха! Я ничего не знаю, – без теин смущения взглянул на учительницу мальчик с короткой челкой на высоком лбу.
Тишина.
– Чего вы от меня хотите?
– Я хочу, чтобы ты сказал, почему ты спрятал все чернильницы и сорвал урок?
– Вот еще… Чем вы докажете, что я спрятал?
Мальчик упрямо отрицал свою вину.
– Близниченко, пусть завтра придет в школу твой отец.
– Мама его выгнала. Он не умеет сам зарабатывать деньги. Только умеет допрашивать: «А где эти десять рублей?.. Куда девала?..»
– Дай, пожалуйста, свой дневник.
– Подумаешь, не очень-то испугался. Нате, пишите…
На другой день Ваня Близниченко не явился на уроки. Но на большой перемене ребята его видели на школьном дворе. Он курил и демонстрировал свое умение выстреливать с ногтя окурок.
Вечером Мирослава Борисовна пришла к Близниченко домой. Живут небогато, но в квартире чисто, просторно.
– Мать работает на вокзале в буфете. Она должна скоро придти, – сказала бабушка Вани.
Узнав, с чем пришла учительница, старушка и сама начала жаловаться на внука.
– Обижает свою сестричку. Другого имени для маленькой у него нет, только и слышно: «Хвост! Прилипало! Дура!» Кончит делать уроки, прошу: «Ванюша, да собери ты бога ради книжки». А он: «Не приставай! Устал я». А недавно – ужас какого сраму натерпелась… Заходим мы с ним в трамвай. Встал военный, место мне уступил. Сели мы с Ваней рядышком. Едем к Оксане на вокзал. Ну, возле главпочты заходит в вагон женщина с грудным ребенком на руках, просит: «Встань, пожалуйста, мальчик, видишь, я с ребенком». – «Я тоже ребенок, видите, с бабушкой еду!» – огрызнулся Ваня. Ну, поверите, я чуть сквозь землю не провалилась. Срам на людей глаза поднять…
– Где же Ваня? – спросила Мирослава Борисовна.
– Кто его знает? Может, и в кино. Мать ему за каждую пятерку – на, Ванюша, получай пять рублей.
Пришла с работы Близниченко. Выслушав учительницу, она закурила сигарету и раздраженно сказала:
– Вы к нему придираетесь. Слава богу, у Вани ни одной тройки, а у вас есть и двоечники. Вот к ним и ходите.
Нет, эту женщину не тревожило то, что сын курит, грубит преподавателям, обманывает, убегает с уроков.
– Ваня очень способный ученик, я не отрицаю, но давайте вместе подумаем над его дальнейшей судьбой, – подавляя свою личную обиду, заговорила учительница. – Он грубит преподавателям, курит, обманывает…
– У вас нет к нему подхода, – упрямо твердила в ответ Близниченко. – Нет подхода…
Мирослава Борисовна вернулась домой усталая и подавленная. Когда она объяснила Мелане, почему задержалась, Мелана вынесла быстрый и суровый приговор:
– Надо его исключить из школы, вот тогда и мамаша задумается.
– Нет, – качает головой учительница, – мой долг найти заветный ключик к сердцу этого несомненно способного мальчика, вынуть кусочек льда, брошенного туда неосторожной рукой, а вместо льда положить кусочек солнца. Тогда в сердце Вани не будут замерзать ростки всего доброго и прекрасного. Буду искать…
Конечно, доверие товарищей порадовало Любашу. Пусть будет так, она согласна стать редактором классной сатирической газеты «Колючка».
О, да! Все обещали писать заметки.
Но прошла неделя, а члены редколлегии только плечами пожимали: ни одной заметки!
– Давайте первый номер выпустим только втроем, – предложила Любаша.
– Правильно, – согласилась Катя Максименко.
– Где собираемся? – деловито осведомилась Неля Степная.
– Приходите ко мне, девочки, – сказала Любаша.
– У вас, Люба, живет писатель, он нам может помочь. Правда?
– Он сейчас очень занят, девочки. Мы и сами справимся. Бумага и краски у меня найдутся. Я вас жду в шесть.
– Па! – что означало: «пока».
– Па, па!
И девочки разбежались по домам.
Ни в шесть, ни в семь, ни в восемь подруги не явились.
Оказалось, что у Кати объелся яблоками младший брат. Мамы у них нет, отец военный, в общем, у нее была уважительная причина.
Неля оправдывалась: пришлось помогать маме делать уборку в квартире.
– Ладно, соберемся сегодня в пять.
Девочки согласились.
И опять в назначенный час они не пришли.
Тогда Любаша решила выпустить газету одна. Нарисовала красочный заголовок. Затем сочинила басню и высмеяла озорную Веру Шило, которая считала «геройством» надерзить учителям. На уроке французского языка она мяукала и сорвала урок. Затем Вера с тремя подружками сбежала в кино. Мораль басни была такова: «Вера не отважная, а просто у нее нет никакого самолюбия, ей не стыдно, что над ней смеются».
Конечно, это не совсем отвечало обычным правилам, по басню Любаша поместила вместо передовицы и внизу подписалась.
Немного поразмыслив, Любаша вывела еще один заголовок на три колонки: «Голос активных корреспондентов». Первая заметка называлась «Мои предложения». Она начиналась так: «Девочки! Я думаю… я предлагаю…» А дальше шли какие-то кружочки, палочки, вопросительные знаки, точки и запятые, а в конце под всей этой «цепью загадок и тайн» крупно надпись: Катя Максименко. Другая заметка тоже целиком состояла из непонятных иероглифов. Под ней красовалось имя второго члена редколлегии. Три остальные заметки с содержательными заголовками, под которыми оставалось пустое место, были подписаны лучшими учениками класса, как раз теми, кто с таким рвением выбирал редколлегию и горячо обещал помогать.
Затем Любаша расцветила газету интересными загадками, головоломками, шарадами, взятыми из книги «Пятьсот игр и развлечений». Завершила большим выразительным рисунком, изображающим редактора, буквально засыпанного заметками.
– Папа, как «Колючка?» – с трудом разгибая спину, спросила Любаша, показывая газету.
– В находчивости тебе нельзя отказать, – похвалил Кремнев.
Петро, Ганна и Мелана вернулись из театра взволнованные. Спектакль, поставленный по комедии Ивана Франко «Учитель», заставил их смеяться, радоваться и тревожиться за судьбу полюбившихся героев.
Кремневы еще не спали. Евгений Николаевич сидел в столовой и просматривал газеты.
– Понравилось? – спросил он Мелану.
– Очень. Я наревелась…
– О чем пьеса, Петрик? – отложив газету, Кремнев приготовился слушать.
– Мне трудно рассказать в нескольких словах.
– Как сможешь.
– Карпаты… Конец девятнадцатого столетия. Где-то среди гор затерялось глухое село Борынь. У обрыва, одиноко на отшибе, стоит школа. Три дня тому назад приехал сюда на место старого учителе, который прожил здесь пятнадцать лет, никого и ничему не научив, новый учитель Омелян Ткач.
Третье утро настойчиво звонит Омелян Ткач в небольшой школьный колокол, сзывая учеников, но темные, забитые селяне упорно не посылают детей в школу.
Не знает Омелян Ткач, что его предшественник на редкие ревизии инспектора одалживал школьников из соседнего села, а сам хозяйством занимался. Не знает Омелян Ткач и того, что темнотой и суеверием запуганного здесь народа пользуется сельский арендатор, ростовщик Зильберглянц и вийт[10]10
Сельский староста.
[Закрыть] Микита Сойка, в руках которых послушным орудием был предшественник Ткача.
Это Вольф Зильберглянц через вийта распустил сплетню, что новый учитель не крещеный и «на веру» живет с какой-то панночкой. Вот почему с такой немой враждебностью встретило село Омеляна Ткача и его сестру Юлию.
Признаться, я не сразу в болезненном, невысокого роста, большелобом, рыжеусом Омеляне Ткаче узнал знакомого мне артиста Александра Янчукова. Обаятельный, сильный духом образ народного учителя создал он в этом спектакле.
– Мне показалось, что артист очень похож на Ивана Франко, – сказала Ганнуся.
– Похож, – согласился Петро. – Между прочим, эту пьесу Иван Франко написал из жизни. Был у него друг учитель, так это он рассказал о своем житье-бытье, о трагической судьбе украинского учителя в Австро-Венгерской империи. Между прочим, постановщик спектакля нашел острые, образные детали, выражающие большие мысли. Тому ярким примером финал спектакля. Омелян Ткач будто и побежден арендатором в трудной и долгой борьбе. Он вынужден покинуть село и школу, но дух учителя не сломлен, моральная победа на его стороне.
Уже во тьму погружены Карпаты. Омелян Ткач, освещая себе путь фонарем, уходит в далекое, глухое село, как бы неся туда свет. А если к этому добавить, что одно из трех стекол его фонаря красное, то станет ясной острая, граничащая с символикой, образная мысль режиссера.
– Вы ничего не сказали, Петрик, о костюмах. Они ведь очень хорошо продуманы художником, верно передают эпоху. Жаль только, что они слишком бедны, лишены тех украшений, которые так самобытны и характерны в одежде бойков. Я среди них жила короткое время… – проговорила Мелана. Лицо ее омрачилось.
Вспомнился Димарский. Она ведь там была с ним.
– А музыка? – добавила Ганна.
– О да, – поспешил сказать Петро. – Композитор, используя богатейший источник народных мелодий, написал прекрасную музыку и песни к спектаклю. Он сумел передать дух и характер нашего свободолюбивого народа.
– Искристы и танцы, – снова оживилась Мелана.
– Еще бы, – отозвался Петро. – Балетмейстер сама жила среди бойков и не раз встречалась с Иваном Франко, собиравшим в этих краях фольклор.
– Благодарю вас, друзья, мы с Мирославой Борисовной словно сами побывали на этом замечательном спектакле, – улыбался молодым людям Кремнев.