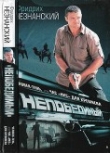Текст книги "Опасное молчание"
Автор книги: Златослава Каменкович
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 21 страниц)
– Ах, я и моя жена с самого начала были против этого брака! – с досадой отмахнулся профессор. – Мелана не пара моему сыну…
Так и ушел Петро ни с чем. Но еще по дороге он продумал от начала до конца фельетон, который должен пригвоздить к позорному столбу Иванишина и его бывшую супругу, покинувших своего ребенка. Через три часа Петро уже был на главпочтамте и отправил пакет с фельетоном в Киев, в редакцию республиканской комсомольской газеты.
Как лодка без весел…
Редактор газеты вызвал к себе Алексея Иванишина.
– Вы уже читали фельетон Петра Ковальчука? – показал он глазами на газету.
– Читал.
– Ребенок ваш?
– Мой.
– Почему же вы отказываетесь от него?
– У него есть мать. И по закону…
– А по совести?
– У меня совесть чиста, Роман Леонидович.
– Конечно, если ваша совесть молчит…
– Я понимаю, Роман Леонидович, вам будет неприятно со мной работать, – Иванишин достал из кармана вдвое сложенный лист бумаги и протянул редактору:
– Вот мое заявление. Я уезжаю из Львова.
– Не скрою, я ценил остроту и злободневность ваших материалов, ценил умение быстро ориентироваться в сложной обстановке. Хватка у вас настоящего газетчика. Но после всего, что я о вас узнал, скажу прямо: я вас не удерживаю.
Димарский в светлой пижаме, с присущим ему апломбом, «снимает стружку» с незнакомого Мелане робкого парня с периферии.
– Мелкотемье! Главное – не гнаться за внешним эффектом! А это уже набило оскомину… Э-э, ты, друг мой, скворцом не пой!
– Почему скворцом?
– Да потому, друг мой, что эта птица всегда подхватывает чьи-то чужие мотивы, непременно кому-нибудь подражает.
Парень защищается.
– Что вы? Все это я сам рисовал… Наблюдал в жизни…
Маринка подбегает к отцу, ласкается, хочет взобраться ему на колени.
– Мелася, она нам мешает! – прокричал Димарский.
Прежде чем увести из комнаты ребенка, Мелана успевает взглянуть на рисунки. И, как всякая встреча с настоящим талантом, рисунки поражают.
«За что же Игорь его корит?..» – недоумевает она.
Едва успев выпроводить молодого художника, Димарский вдруг раздраженно набрасывается на Мелану с упреками:
– Сижу в этих четырех стенах у твоей юбки. Завтра же беру творческую командировку. Уеду.
Она не стала отговаривать.
Из денег, которые Димарский оставил Мелане на жизнь, отложила лишь то, что было крайне необходимо, остальное отослала матери. Перевод вернулся обратно, мать отказалась от этих денег.
К огорчению прибавилась тревога за Маринку. Обычно спокойная и ласковая, девочка теперь, казалось без всякой причины, капризничала, плакала.
В тот вечер, когда Димарский вернулся, у Маринки поднялась температура. Вызвать врача помешали приятели, слетевшиеся точно мухи на мед.
Пока Мелана суетилась на кухне, Димарский показывал приятелям свой новый «шедевр».
– Какой переход от тени к свету, блеск! Вершина мастерства!
– Сама природа открыла тебе свои тайны!
– Ну, старина, только одному итальянцу Джузеппе Креспи удавалось вот так с помощью двух-трех тонов достигать подобного! – надсадно петухом орал уже подвыпивший «фавн». – Я не пророк, но Сталинская тебе обеспечена!
Как только Мелана увидела картину, ей стало не по себе, почувствовала вину перед тем парнем, который приходил с рисунками к Димарскому в один из первых летних дней. Это была точь-в-точь виденная ею картина.
Заплакала Маринка.
Мелана бросилась в спальню, прильнула к тяжело дышащему ребенку.
– Не плачь, щебетунья, мама с тобой… О боже, как они галдят, как накурили…
Вошел Димарский.
– Подавай кофе. Я возле Маринки посижу. Хотя бы причесалась. На кого ты похожа?
– А ты? Ты хорош… Высмеивал того парня, а сам у него… Где твоя порядочность?..
– Замолкни, дура!
И больше за весь вечер они не обменялись ни словом, ни взглядом.
Димарский ушел и не ночевал дома. А на следующий день он почти вбежал в квартиру, чтобы злорадно швырнуть в лицо Мелане газету с фельетоном Ковальчука и заявить: «Ты еще о порядочности говоришь?! Вот здесь пишут, как ты бросила своего ребенка… Хватит с меня сладостного безумия! Я ставлю точку – и бесповоротно!»
Меланы не оказалось дома. Обеспокоенная квартирная хозяйка без обычной любезности сообщила:
– У Марины дифтерия. Увезли в инфекционную больницу. Ах, только бы не учинили здесь дезинфекцию. Я не отзываюсь на звонки. Вас прошу тоже…
Несмотря на все мольбы Меланы, которой разрешили остаться с ребенком в больнице, и все старания врачей, спасти Маринку так и не удалось.
Кроме Меланы, Димарского и погребальщиков, не было ни души, когда маленький гробик опустили в могилу.
– Боль нашей утраты велика, – проговорил художник, стараясь увести Мелану от холмика, на котором никогда не появится надгробие с датой рождения или смерти. – Какой кошмарный день. В пять мне надо вылететь в Москву. Идем.
– Уходи, – не поднимая головы, тяжело обронила Мелана.
– Прошу тебя, будь умницей, не надо истерик… Мне и без того тягостно.
Потом он говорил о каком-то фельетоне, письмах, хозяйке, отказавшей им сдавать комнаты. Он с ней уже расплатился и две недели ночует у брата. Но вещи Меланы остались там.
– Вот билет до Львова, – художник сам расстегнул черную замшевую сумочку на руке Меланы. – В мягкий вагон, место нижнее. Поезд отходит сегодня, в девять вечера. Завтра обнимешь своих…
Димарский еще что-то говорит, оправдывается, советует.
– Не надо… – Мелана еле шевелит запекшимися губами. – Я присяду… мне плохо…
«Опять начинаются эти женские штучки, – хмурится Димарский, усаживая ее на каменную скамью возле заботливо убранной цветами могилы трагически погибшего летчика. – Но нет, твои чары больше не властны надо мной… Я, к счастью, прозрел…» Мелана беззвучно плачет.
«Прекрасная композиция, – вдруг загорается художник. – Мелана смотрится такой юной и искренней в своем горе… Назвать: «Дорогая утрата». Нет, лучше: «У могилы любимого»… Шаблон, шаблон!.. Скорее прочь из этого мертвого царства…»
Мелана не плетется за художником, как это случалось, если они ссорились. Димарский бережно ведет ее под руку к трамваю.
Едут. Молчат. Мелана без слез, с потухшим взглядом.
Неподалеку от дома, куда Мелана едет за вещами, Димарский спохватывается, что забыл дать ей на дорогу деньги.
– Прости, конечно, маловато, но это все, что я сейчас могу… Пиши мне на главпочтамт, я пришлю.
Из-за угла выехала машина.
– Такси, такси! – обрадовался художник. – Теперь я не опоздаю. Мы скоро увидимся.
Димарский хотел поцеловать Мелану, но она отшатнулась, с трудом выдавив:
– Хочу тебя видеть мертвым…
– Идиотка! – и дверь машины захлопнулась за Димарским.
Мелана с трудом поднялась на третий этаж. Позвонила. Дверь открыла хозяйка, отчужденная, злая. Вместе с чемоданом, в который художник втолкнул все пожитки Меланы, хозяйка передала какую-то газету, оставленную художником, и письма. Их было такое множество, что Мелана недоуменно взглянула на квартирную хозяйку: «Неужели все мне?»
– Вам; – подтвердила хозяйка. – Но сперва прочитайте газету, там есть о вас… фельетон!
Читала…
Порой в глазах Меланы вспыхивало возмущение, но тут же гасло: ведь все так, все справедливо, она же могла не послушаться Димарского…
Письма были от незнакомых, чужих людей. Каждая строка резала, как лезвие.
С Меланой творилось что-то неладное. Ее всю словно охватывал огонь, то вдруг казалось, будто она проваливается в вязкую холодную тину. Все вокруг тлело червонным жаром. Дышать становилось невмоготу. Сознание туманилось.
«Как лодка без весел… как лодка без весел…» – почему-то настойчиво звучали в ушах материнские слова.
И все же она нашла в себе силы спуститься на улицу. Но до вокзала уже не доехала. В троллейбусе огромной глыбой навалилась темнота, и Мелана потеряла сознание. «Скорая помощь» доставила ее в больницу, где определили дифтерию.
Три месяца пролежала Мелана в больнице, чувствуя себя затерянной в необъятном одиночестве, тогда как квартирная хозяйка, чертыхаясь, два раза в день опорожняла почтовый ящик, забитый письмами, адресованными Мелане.
А Марьян тем временем жил в детском доме.
Дети лепили из пластилина.
– Ребята, вы только посмотрите, какую собаку сделал наш Марик, – с похвалой отозвалась девочка из старшей группы. Она лишь осторожно поправила собаке одно ухо.
Дети зашумели:
– Ой, как живая!
– А как ты назовешь ее? – спросила остроносенькая черноглазая Зирка.
– Собачка, – смущенно ответил Марьян.
– Так нельзя, – тут же опровергла Зирка. – Надо Серко или Хапка.
– Кто тебя так хорошо научил лепить? – заинтересовалась юная руководительница.
– А это, когда моя мама привезла пластилин…
И вдруг глаза мальчика наполнились слезами.
– Твоя мама недавно умерла? – в голосе старшей девочки Марьян улавливает открытые нотки сочувствия.
– Она живая…
– Может, скажешь, что у тебя и папа живой? – недоверчиво покосилась на соседа Зирка.
– И папа, – тяжело вздохнул Марьян.
– Он обманывает! Врунишка! – громко запротестовала все та же Зирка, по-старушечьи втянув щеки и осуждающе качая головой.
– А вот и нет.
– Обманываешь! В детдоме живут только сироты. А ты врун! Врун…
Увидев, что к ним подходит воспитательница, да еще и не одна, Зирка умолкла.
– Бабуня… – Марьян всхлипнул и уткнулся лицом в ее юбку.
– Ах ты дурачок, – пожурила Мария. – Зачем ты плачешь?
Но мальчику казалось, бабушка говорит так потому, что она совсем не знает, как он боялся оставлять ее дома одну.
В тот день Марьян впервые увидел Ванду Чеславовну и Ежи Станиславовича. И хотя он даже не подозревал, что эти люди живут на свете, они вдруг оказались его мамой и папой. Так сказала бабушка.
Марьян доверчиво поцеловал маму и папу, и они вчетвером – бабушка, мама, папа и Марьян – веселые, пошли домой.
Проходили дни, недели, месяцы. Иногда над городом нависала серая мгла, и откуда-то из глубины неба, словно из прорвы, днем и ночью лил дождь. Однако Мария больше не жаловалась, что у нее болят все кости. Квартира сухая, теплая. На душе тоже спокойно. Кто знает, может, это и к лучшему, что скоро придется переехать жить в Ровно, все же там у Ежи Станиславовича свой домик, сад. Здесь только с соседями жаль расставаться. Удивительно бескорыстная, добрая, трудолюбивая женщина Мирослава Борисовна, жена доктора Кремнева. Да и сам доктор золотой человек, каких поискать надо. Мало того, что без единой копейки поставил больную Марию на ноги, – Евгений Николаевич отдал ей свои валенки, а сам в эдакую стужу проходил в старых армейских сапогах. Женщина с Гуцульской улицы рассказывала, что доктор однажды всю ночь на руках с ее Дмитриком по комнате шагал, потому как мальчонка уже кончался. Но доктор его спас. И не дай бог про деньги словом обмолвиться: брови черные нахмурит, еще и упрекнет: «Вот уж такой обиды не заслужил…»
Один раз Марьян обиделся на доктора, Наталкиного отца. Только мальчик про эту обиду никому не сказал – ни бабушке, ни Наталке. Это случилось, когда доктор накричал на бабушку: «Мария Романовна, я вас очень прошу, никогда больше не водите детей в церковь!»
Надо бы бабушке оправдаться, ведь в большой серый дом, где живет бог, они зачем ходили? Чтобы бабушка помолилась, попросила бога дать здоровье доктору…
Правда, когда они возвращались из церкви, Марьян сказал, что бабушка зря просила бога. Раз Наталкин папа доктор, он сам себя вылечит. Наталка тоже это подтвердила: ее папа всех вылечивает. Только бабушка почему-то печально поглядела на девочку, погладила ее по волосам и заплакала.
А вообще Марьян еще никогда в жизни не был так счастлив, как теперь, когда Ванда Чеславовна и Ежи Станиславович приняли его и бабушку в свою семью.
Крик, похожий на зов
– Да, это я, Ванда Чеславовна, – заметно бледнея, ответила Станюкевич. Она никогда до этого не встречала Мелану, но сразу же помимо воли угадала: тоненькая, как подросток, женщина с траурной лентой на руке – мать Марьяна.
– Прошу, входите, – Ванда Чеславовна провела нежданную гостью в комнату.
Из-за рояля встал узкоплечий мальчик лет семи.
– Марик, сынок…
Ресницы мальчика чуть-чуть вздрогнули, но он не бросился навстречу заплакавшей женщине. Наоборот, отшатнулся, как от сильного толчка в грудь, и взгляд его, полный смятения, остановился на Ванде Чеславовне, как бы ища у нее защиты.
– Пойди, детка, к Кремневым, – тихо сказала Ванда Чеславовна.
– Зачем? Это мой сын… Я пришла за ним! – воскликнула гостья.
Мальчик поспешно ушел.
Наталка Кремнева очень обрадовалась, когда пришел Марьян. Но, заметив, что он чем-то опечален, сочувственно спросила:
– Тебе еще не купили сумку для книг?
– Купили.
– А чего же ты?
Марьян подавленно молчал.
Наталка это поняла по-своему.
– Вы уже уезжаете? Да? Ты не думай, Ровно это близко. Мама сказала, мы к вам в гости будем ездить, а вы к нам. Меня записали в школу. Я тоже с мамой ходила. Там похвалили, что я умею читать. А дядя Петрик тоже уезжает. Только он в колхоз, там хлеб будут с поля убирать. Дядя Петрик позволил, чтобы я рыбок кормила, при всех позволил… Ой, да ты совсем не слушаешь!
Обливаясь слезами, Мелана упрашивала:
– Отдайте мне сына… Поверьте, я никогда… никогда не лишалась материнских чувств к нему, хотя и написала тогда это позорное заявление… Вы добрый человек… Моя мать писала… Если вы отдадите мне сына, я верю, его отец вернется к нам… У нас снова будет семья…
Ванда Чеславовна обняла за плечи Мелану и искренне сказала:
– Не надо так. Зачем вы унижаете себя? Вздохи и жалобы тут не помогут. Ребенок дорог мне и моему мужу. Марьян привязался к нам…
Кто-то открыл входную дверь, но женщины в комнате этого не услышали.
– Я буду добиваться отмены решения о лишении меня материнских прав! – твердо сказала Мелана, вытирая слезы с пылающих щек.
– О боже милый!
Мелана оглянулась. Мама!
– Чего не воротишь, о том лучше забыть.
– Мама… – у Меланы перехватило дыхание. – И это говорите вы?
Взгляд матери, казалось, обвинял: «Ты покинула нас… покинула своего ребенка и меня в страшной беде… Ты жила только для себя… И если в твоем сердце сейчас пробудились какие-то человеческие чувства, все равно – изменить уже ничего нельзя… Виновата только ты…»
Теперь уже не страх перед нуждой волновал эту больную, стареющую женщину, волновало ее гораздо большее – будущее внука. И она не допускала, не хотела допустить хотя бы на секунду мысли, что дочь уведет из этой семьи Марьяна.
– Уходи…
Мать проговорила это негромко, голосом, в котором прозвучали гнев, осуждение, боль, та нестерпимо жгучая боль, которая навсегда остается в сердцах матерей за ошибки, за подлость и зло своих детей. Матери часто прощают. Но если из рапы вынуть нож, разве она станет меньше болеть?
В запальчивости и раздражении чего только Мелана не наговорила: мать ее предала, продала ее сына! Лучше бы мать торговала ею, дороже бы заплатили! Нет, бог никогда не простит матери такого вероломства!
Прежде чем уйти, Мелана выхватила из сумки пачку писем. Вот, вот, вот… Пишут, осуждают… Пусть мать читает, пусть она радуется, как опозорена ее дочь…
Письма, как птицы, разлетелись по комнате.
Мелана выбежала на лестницу, едва не сбив с ног Кремнева. Сегодня он возвращался домой раньше обычного. Фронтовой осколок в сердце давал себя чувствовать.
Пожилая секретарша в приемной председателя райисполкома не сразу узнала Мелану. Когда посетительница назвала себя, та всплеснула руками: за год так измениться!
– Мне только двадцать пятый пошел, – призналась Мелана обессиленным голосом исхлестанного жизнью, многое испытавшего человека.
Выслушав Мелану, секретарша посочувствовала ее беде, сказала, что не надо так печалиться. Зная необыкновенную отзывчивость Стебленко, она не сомневалась, что он все уладит, все будет хорошо.
В ожидании, когда закончится совещание в кабинете председателя, Мелана еще раз перечитала свое заявление:
«25 сентября прошлого года Львовский суд вынес решение о лишении меня материнских прав на сына Марьяна Иванишина на основании моего собственного заявления. Сейчас я прошу отмены этого решения. Слишком дорого заплатила я за свой необдуманный шаг. Я прошу отменить решение, лишающее меня материнских прав на Марьяна Иванишина. Верните мне сына. Прошу поверить: никогда я не лишалась материнских чувств к нему, хотя и написала то заявление»…
Тарас Стебленко принял уже знакомую ему посетительницу сдержанно. Оно и понятно. Прошлой осенью ему пришлось столько сделать, чтобы предупредить катастрофу, чтобы раскрыть женщине глаза. Сейчас ему нечего было ей сказать. Он знал, у кого ребенок, и был спокоен за его судьбу. Однако он терпеливо слушал молодую женщину, которая старалась оправдать Алексея Иванишина, но не щадила черных красок для его отца, профессора Иванишина. Сперва профессор пытался сделать из нее прислугу. Но Мелана не хотела с этим мириться: ей семнадцать лет, она должна учиться. Тогда этот тип с козлиной бородкой, который, по словам его же жены, не мог забыть своей беспутной молодости, начал приставать к Мелане. Когда же Мелана пожаловалась его жене, профессор выгнал ее и вдобавок оклеветал перед сыном. Мелана уже ждала ребенка. Она ушла в тесную дворницкую, к своей матери… Уже после рождения сына, на суде, почему-то очень оскорбленный, Алексей требовал развода. Мелана держалась гордо и ни о чем не просила. Как желает Алексей, пусть так и будет, ведь он образованный, умный, а на руках у Меланы его ребенок…
– Комнату райисполком вам поможет получить, – мягко прервал Мелану Стебленко. – А вот вернуть сына, – темный рубец на его правой щеке дрогнул, – не сможем. Вы сами поставили себя в трудное положение. Я понимаю, вам больно. Но, помните, я вас предупреждал, что, возможно, вы сразу и не почувствуете своей утраты, а спохватитесь, тогда вам помочь будет невозможно.
В Мелане зашевелились недобрые чувства.
– Пан… ой, товарищ Стебленко, – поправилась она, глубоко переведя дыхание, – мой сын украинец. Разве закон позволяет, чтобы ополячивали советских людей? Я не хочу, я не позволю, чтобы мой сын носил польскую фамилию!
Стебленко долгим, пристальным взглядом посмотрел ей в лицо. Потом сказал:
– Есть закон жизни: если мать бросает на произвол судьбы своего ребенка, она уже не мать ему. Чужая.
– Нет… – борясь с душившими ее слезами, прошептала Мелана. – Но я не стану больше докучать вам… – дрожащей рукой взяла со стола свое заявление. – Я знаю, что мне делать…
– Самонадеянность слепа, – предостерег Стебленко. – Приходите завтра с утра. Получите ордер на комнату. Устроим на работу.
– Не нужна мне ваша комната, ваша работа! – вырвалось у нее в нервном возбуждении, и не помня себя Мелана выбежала прочь из кабинета.
– Непременно приходите утром, – сказал ей вслед Стебленко, но она уже не слышала этих слов.
По дороге в редакцию с Меланой творилось что-то страшное.
– Моя дурацкая гордость оттолкнула Алешу от меня… – шептала Мелана, не замечая, что прохожие кто удивленно, кто с сочувствием, а кто насмешливо смотрят ей вслед. – При его знакомствах, связях… Он же отец… Неужели он откажется помочь мне забрать Марика у чужих?..
В коридоре редакции Мелану вдруг охватила робость. Ведь в комнате Алексей, наверно, не один? С чего начать? Согласится ли он выйти с ней на улицу, чтобы поговорить?
– Вы к кому? – пробегая мимо с ворохом гранок, спросил Мелану лысый сотрудник.
– Мне нужен Алексей Иванишин.
– Он у нас уже не работает. Уехал из Львова. А вы по какому вопросу?
– По личному.
– А-а, – причмокнул лысый репортер и поспешил дальше.
Очутившись на улице, Мелана побрела в сторону старинного королевского арсенала, к Успенской церкви. Ее Львов с разбежавшимися по холмам тесными, одетыми в камень улочками, его площади у каждого костела, хранившие таинственность средневековья, улицы, аллеи, всегда заполненные нарядной толпой, вдруг опостыл ей.
«Чужая, чужая, чужая…» – слышалось Мелане в шарканье сотен ног по асфальту. Люди шли, разговаривая, улыбаясь, смеясь, горячась и ссорясь, шли, неся в себе сомнения и печали, надежды и радости. Где-то кто-то их ждал: служебные дела, близкие, родные, друзья или знакомые. А Мелану уже никто не ждет, нет у нее ни дел, ни цели, ни даже пристанища.
Господи, разве прежде она проходила равнодушно мимо хотя бы одной витрины комиссионного магазина? Войдет в магазин, очарует продавца или продавщицу своей внешностью, вежливостью. Охотно снимут с витрины то, что Мелане приглянулось, подают: «Прошу, паненка…» или: «Пожалуйста, гражданочка…» Нет, Мелана и не собирается купить эту вещь, просто так приятно примерить и хотя бы несколько минут понежиться в белоснежном стеганом атласном халате. Ведь в белом цвете ей так хорошо. А то облачится в роскошную шубку из «правдивой обезьянки», любуясь собой в огромном зеркале: «Ах, какая шикарная дама!..»
На Краковской улице церковь св. Спаса была открыта. Мелана вошла, купила несколько свечей, зажгла и поставила у ног распятого Христа.
Великая грешница! Там, в Киеве, она ни разу не была в церкви. Только видела собор издали, проезжая с вокзала и на вокзал.
Опустившись на колени, в первое мгновение почувствовала лишь холод каменного пола, и вся задрожала. Молилась долго, исступленно, стараясь заглушить стук в висках: «Чужая, чужая, чужая…»
Синие глаза девы Марии, спорившие с синевой нарисованного неба, по которому она шла, неся младенца на руках, вдруг напомнили Мелане глаза сестры Ольги из монастыря бенедиктинок. Молодая монахиня часто приходила в больницу для бедных, где одно время работала мать Меланы. Это было еще до того, как она впервые услышала на улицах русскую речь и видела советского человека.
Сестра Ольга тогда говорила, что только в монастыре можно найти прибежище исстрадавшейся душе.
Мелана выбежала из церкви на пронизанную солнцем улицу, точно слепая, ничего не видя, натыкаясь на прохожих.
«Туда… Никто у меня там не спросит паспорта… даже справки из домоуправления… Дам обет отречения от мира сего… Пусть за высокими каменными стенами монастыря пройдет вся моя жизнь…»
Она взбежала по сбитым гранитным ступенькам старинного костела Марии Снежной, около которого толпились экскурсанты, и свернула на тесную улочку, где густая тень от старых вязов ложилась на большие квадратные плиты тротуара и каменную мостовую.
Вот и площадь Вечевая. Мелана остановилась перевести дух под небольшим домом с балконом.
«Что это? Я и не знала… Оказывается, в этом доме в 1876–1877 годах жил и работал Иван Франко? Видно, эту мемориальную доску повесили недавно…» – подумала Мелана.
Подойдя к открытым настежь кованым воротам монастыря, Мелана просто остолбенела, прочитав: «Львовская восьмилетняя школа № 48».
Тишину бывшего монастырского двора еще не нарушали детские голоса, только в ветвях старых вязов как-то особенно громко и озабоченно щебетали птицы.
– Прошу пани, здесь был монастырь, – обратилась Мелана к женщине, входившей во двор с ведром, из которого торчали два веника.
– Сестры выехали.
– Куда?
– В Польшу.
Мелану охватило жуткое чувство пустоты и покинутости. Она стояла словно каменная, пока не почувствовала, что ей стало холодно в легком платье. В полдень, когда она приехала, было очень жарко. Мелана сунула шерстяную кофточку в чемодан, сдавая его в камеру хранения. Не знала, застанет ли мать, которая писала, что собирается уехать в Ровно.
«Куда теперь?» – грудь сжало тоскливой, щемящей болью. И побрела в сторону площади Данила Галицкого.
Возле Кукольного театра царило оживление. Видно, только что кончился спектакль, и дети, громко делясь впечатлениями, сбегали по широким гранитным ступенькам.
Вдруг сердце Меланы встрепенулось. Вон тот, худенький мальчик в белой рубашонке, это же Марик… Но мальчик прошел мимо, нет, не он.
В лицо Мелане ударили большие, холодные капли дождя. Удивительно, так ярко сияет солнце, а дождь…
– Слепой дождик! Слепой дождик! – прокричала девочка в пестром сарафане.
– Это к счастью, если вот так: солнце и дождь, – перекрестилась вторая девочка с короткими косичками.
– Как не стыдно, Галка! Ты же пионерка, а веришь в приметы.
– Это моя бабушка… – начала оправдываться Галя.
Девочки не стали пережидать дождь, разулись, спрятали под платье туфельки и босиком зашлепали по лужам.
На Холме Славы, где горит вечный огонь, у могилы Александра Марченко всегда люди и много цветов. Кто-то неизменно до самой поздней осени приносит розы – любимые цветы Сашка…
Первое время Ганнуся неподвижная, словно статуя, в горестном отчаянии долго стояла у этой могилы, пока ее не уводил брат или девочки Кремневых.
Но время смягчило горе. И девушку больше не мучила мысль, что никто никогда не узнает, кем был этот человек. Поэты сложили о нем стихи и песни, его именем назвали школу и одну из красивых улиц в центре города, с его именем на знамени шагают пионерская дружина и отряды. Но Ганна еще не знает, что будет учреждена книга почетных граждан Львова и в ней первым будет занесено имя танкиста Александра Марченко.
В этот летний день на улице Ленина против большого тенистого парка состоялось открытие памятника танкистам. На высоком гранитном постаменте был установлен танк «Гвардия», откуда в то июльское утро шагнул в бессмертие Александр Марченко. Легкий ветер рассыпает над морем голов торжественные звуки Гимна.
Разумеется, Ганна, Петро и их друзья были здесь.
Последнее время Олесь почти не виделся с Ковальчуком. Олесь работал в две смены на заводе. Отливали, обрабатывали и вот – этот чудесный бронзовый орнамент из лавровых венков, метровый гвардейский значок на фасаде памятника и двухметровые металлические доски с высеченными на них именами героев-танкистов, павших смертью храбрых в боях за освобождение Львова.
После открытия памятника Олесь с женой (он недавно женился на Катрусе, сестре Василька), Ганна, Петрик и Йоська поспешили на аэродром встречать Юрия Вольнова, который летел на Москву.
И хотя самолет немного опоздал, встреча была не менее радостной.
– Как ты возмужал, Юрко! Уже капитан? – обняла и расцеловала Ганнуся. – А усища! Да ты, видно, всех женщин в Польше свел с ума!? И как только Стефа рискнула такого красавца одного отпустить? Ай-ай-ай!
– Да не слушай ты эту старую интриганку, – Петро, смеясь, оттеснил сестру, сам хватая в охапку друга.
– Ну, знаешь… Петрик, я бы тебя не узнал. Да ты вымахал выше меня!
– А нас узнал бы? – близоруко щурясь, обнял друга Йоська Талмуд.
– Это просто здорово, что вы все стали такие громадные!
Не беда, что предсказания Стефы не сбылись. Пусть не стал артистом Петрик и не поет в опере, зато как сильно зазвучал его голос в литературе!
Олесь – токарь, это замечательно! Дорожи, брат, своим потомственным рабочим именем. Иосиф и Василько – будущие врачи? Юрий рад за них, благородная профессия. Виделся ли он с Франеком?
Что за вопрос! Разумеется, да. Франек хоть и важная персона – заместитель министра, но все тот же простой, кипучий и часа в кабинете не посидит. Всем от него сердечные приветы. Приглашает к себе в гости. На Петра в обиде. Кому-кому, а молодому писателю не побывать в Народной Польше? Не посмотреть, как строится Новая Гута?
– Как Варшава? – спросил Петро.
– Западных писак, которые раззвонили на весь мир, что Варшава навсегда останется мертвым городом, ожидает горькое разочарование, – светло улыбнулся Юрий. – Поляки из руин и пепла поднимают свою любимую Варшаву. Франек мне показывал проекты: широкие проспекты, новые жилые здания, гостиницы, театры, парки, кафе!
Нет, это уже было возмутительно! Только сейчас, когда до отлета оставались считанные минуты, Юрий вдруг сказал, что вчера в одиннадцать часов вечера Стефа подарила ему наследника, сына, в три килограмма весом.
– Богатырь! И главное, точно по заказу – сын, – просияла Ганна. – Стефа мне писала, что ты мечтаешь о сыне.
– Так это же надо отметить! – рванулся за шампанским Петро, попыхивая трубкой.
И они все же успели выпить по бокалу шампанского, прежде чем радио объявило посадку на московский самолет.
Юра улетел.
Хлынувший внезапно дождь не утихал.
– Петрик, сходи узнай, может быть, мы уже опоздали на автобус, – сказала Ганна.
Брата опередил Василько.
– Так и есть, опоздали. Последний ушел в город в шесть, – вернувшись, сообщил он.
– Доберемся в город на попутной, – невозмутимо, затягиваясь душистым табаком, отозвался Петро.
– А наши платья, наши туфли? – забеспокоилась Катруся.
– Не сахарные, – отшутился Олесь и шагнул под дождь, сохраняя несокрушимое спокойствие.
До центра они доехали в кузове грузовика, промокнув, словно в одежде ныряли в реку.
Олесь предложил всем зайти к нему, обсушиться, выпить чаю. Он теперь жил в самом центре, на улице Первого мая в новом доме.
– Спасибо, Лесик, но надо спешить домой, – за всех ответила Ганна. – Им, студентам, завтра в колхоз ехать.
Друзья попрощались.
Дома Ганну и Петра встретила Мирослава Борисовна, обеспокоенная столь долгим их отсутствием.
– Боже мой, так промокнуть! Вы же можете простудиться… Ганнуся, вот мой халат, надевай без разговоров, – командовала она. – Петрик, босиком не ходи! Наталка, неси сюда его шлепанцы…
Они уже сидели за ужином, когда Ганнуся вдруг сплеснула руками:
– Рубашки!
– Какие рубашки? – спросила Мирослава Борисовна.
– Петрика. Я их утром постирала и повесила на балконе. Кто мог подумать, что этот проклятый дождь…
– Нечего устраивать девятибалльный шторм в чайной чашке, – усмехнулся Петро. – Сейчас сниму.
– Когда же они теперь успеют высохнуть? Кошмар! – переживала Ганна.
– Над плитой высушим, – успокоила Мирослава Борисовна.
Петро вышел в тускло освещенный коридор и у самых дверей на балкон едва не наступил на черную замшевую дамскую сумочку. И не успел поднять, как вдруг послышался сперва сильный стук падающего предмета, затем чей-то сдавленный крик, похожий на зов…
Петро стремглав выбежал на балкой и весь похолодел: перед ним висела женщина. В ту же минуту он подскочил к повешенной, высоко подняв ее.
– Ганя! Нож! Быстрее! – как-то неожиданно и жутко прозвучал голос брата.
– Зачем он тебе? – сестра, выглянув в раскрытое окно, протянула нож и… ахнула!
– Кто это?.. Боже мой! Евгений Николаевич! Скорее!!!
Мирослава Борисовна поспешно увела в комнату Наталку и Любашу.
Кремневу и Ганне с трудом удалось вырвать незнакомку из тяжелого обморока.
«Где я ее видел? – пытался вспомнить Кремнев. – Да, сегодня на лестнице, когда возвращался домой».
Петру было известно, что самоубийцы оставляют записки или письма. Пока незнакомку приводили в сознание, он осмотрел содержимое черной сумочки. Кроме просроченного на несколько месяцев паспорта на имя Меланы Орестовны Гринь квитанции из камеры хранения, двух ключей от чемодана и пятнадцати рублей денег – больше ничего. Но теперь он знал, кто эта женщина, которая сейчас лежала в его комнате, на его кровати. И мысленно он говорил себе: «Да, да, Николай Островский тысячу раз был прав: эгоист погибает раньше всех. Он живёт только в себе и для себя. И если исковеркано его «я», то ему нечем жить. Перед ним ночь эгоизма, обреченности… Но когда человек живет не для себя, когда он растворяется в общественном, то его трудно убить, – ведь надо убить все окружающее, убить всю страну, всю жизнь…»