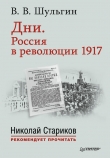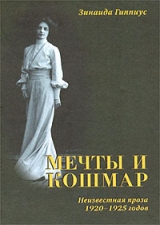
Текст книги "Мечты и кошмар"
Автор книги: Зинаида Гиппиус
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 37 страниц)
Среди лучших рассказов Гиппиус – «Мальчик в пелеринке» и «До воскресенья». Это золотой фонд русской новеллистики XX века, который до сих пор не был известен отечественному читателю.
В эмиграции Гиппиус написала два романа. Роман «Чужая любовь» печатался летом 1929 года в газете «Возрождение» и повествует о том, как молодой француз влюбился в русскую барышню-эмигрантку, служившую в его семье горничной. «Тема самая невинная, – вспоминала через десятилетие Гиппиус, – там даже не было сказано, «что из этой любви вышло», а лишь что могло или не могло выйти… В наши дни эта тема довольно опасна, и вопроса о «смешанных» лучше не подымать».
В основе многих рассказов Гиппиус – горечь утраты. Любовной – в таких рассказах, как «Кольцо молчания», «Я простил», или духовной, общечеловеческой, как в рассказе «Мальчик в пелеринке»: небывалого таланта мальчик Део, поразивший своими литературными знаниями и чувствами маститых петербургских писателей, гибнет в огне братоубийственной гражданской войны на Кавказе. И никто об истинных виновниках, бросивших Россию в разорение ради утопических планов преобразования народа и страны, ничего не сказал.
Ностальгия по ушедшей России преобладает во втором романе Гиппиус, созданном в эмиграции в 1927–1934 годы. Он печатался в виде рассказов в газете «Звено» и в журналах «Иллюстрированная Россия», «Числа». Рассказчик Иван Леонидович Мартынов повествует о своем детстве, юности и годах возмужания. В рассказе «Сашенька» он гимназистом испытывает платоническую любовь к студенту Сашеньке. «Скандал» посвящен тому, как стареющая женщина пытается соблазнить его, он грубо обрывает ее, но потом хитро выворачивается от угрозы дамы обвинить его в попытке насилия над ней. В рассказе «Смирение» Мартынов рассказывает о первой близости с женщиной, которая оказывается проституткой. В рассказе «Ты – ты» красивый молодой француз в Ницце становится его интимным другом, «единственным «ты» во всем мире». В пятой новелле «Что это такое?» действие переносится в Петербург, где Мартынов помолвлен с Анной, дочерью университетского профессора, но заводит роман с ее матерью. «Ложь, в любви, послана как милосердие, как одежда для прикрытия слишком жестокой и непостижимой правды Любви».
В повести «Перламутровая трость» Мартынов в Сицилии в окружении гомосексуальной молодежи. Его близкий друг Франц фон Галлен влюблен в графа Отто, живущего в Берлине с женой. Юные сицилийцы Нино и Джиованне связаны близкими отношениями с Францем, к чему причастен и Мартынов. А бедная девушка Клара тщетно стремится иметь ребенка от Франца. Весь этот сложный клубок любовных отношений писательница имела возможность наблюдать во время посещения Сицилии (Таормина) в 1896 году.
Один из поэтичных рассказов из «Мемуаров Мартынова» – «Горный кизил», – повествует о том, как Мартынов, поссорившись со своей любовницей в Ялте, уехал на горный курорт, где благородно отказался от соблазнения девушки, которую «доверил» ему робкий приятель на время своего отъезда. «Сама любовь такая не «средняя вещь», – говорит Мартынов, – что чуть она где хоть перышком коснулась – все делается особенным. Тогда, если верить Владимиру Соловьеву, за каждым человеком начинают внимательно следить «и небеса, и преисподняя». И выясняется лицо человеческое, его собственное, какого другого нет». Вот почему щеголеватый петербургский студент Мартынов, целуя под кизиловыми кустами невинные и алые, как солнечный кизил, девичьи губы, не соблазнил Соничку, обещавшую его «так любить…».
* * *
Вскоре после первых постановлений правящей большевистской партии по вопросам литературы Гиппиус писала (в статье «О «Верстах» и о прочем», 1926), что партийное руководство и художественное творчество несовместимы: «И в какой мере власть над литературой и писателями реально осуществляется – в той же мере перестает существовать искусство».
С этих принципиальных позиций она рассматривала современную литературу, сопоставляя ее с великой русской классикой. В эмиграции появились люди, которые говорили о русском народе почти одно и то же: «Русский народ только теперь показал свой настоящий «лик». И это не лик, а звериная харя. Русский народ не способен ни к какому человеческому развитию, культуре, просвещению. Его нужно запереть, ему нужно совершенное рабство, железная палка». М. Горький, попав в эмиграцию, заявил, что он «ненавидит русский народ» (крестьянство), «этих низколобых, недостойных называться людьми».
Гиппиус противопоставила горьковскому отрицанию крестьянства книгу И. Бунина «Деревня». «Вопрос о русском народе, о его сущности, о его лице, – старый вопрос, – отмечала она в статье «Бесстрашная любовь (Русский народ и Ив. Бунин)». – Мы не разрешим его. Но такой новой болью терзает он теперь сердца, что не должен ли всякий, по мере сил, сызнова подойти к нему, пытаться увидеть хоть малую часть правды и осветить ее. Для этого… нам нужна помощь художника… Нам нужен художник самый близкий, наш современник, и самый точный, самый правдивый. Такой художник у нас есть. Это – Ив. Бунин… Каким же видели зоркие очи Бунина русский народ вчера, – видят сегодня? И пусть он нам не рассказывает о народе, а показывает его. Мы сами отличим лицо человеческое от хари звериной».
Писательница всматривается в страшную картину, нарисованную Буниным. Бесстрашен в правде Бунин. Не боится показать: «Воры, пьяницы, мошенники, убийцы, да такие бесстыжие, что друг другу не верят». И что же мы скажем, вопрошает Гиппиус. «Скажем только самое несомненное, самое бесспорное. И на первый, страшный вопрос: кто – русский народ? Кто – русский мужик? Человек или зверь? – мы должны ответить раз и навсегда, и ответить – просто уничтожением вопроса. До какого отчаяния нужно довести человека, чтобы он ставил себе этот вопрос, или до какой постыдной потери личности, чтобы он ответил на него, как Горький: «Они недостойны называться людьми!».
Нет, мы знаем; – знают в темной глубине души и отчаявшиеся: русский народ – люди, подобно всем другим народам. Но как у других – есть у него свое собственное лицо, единственное, особенное. Вместе с Буниным мы еще раз, еще ближе, всмотрелись в него, – и в жизнь народа, вековую, – вчерашнюю. Великое томление увидели мы». Однако жизнь России, жизнь русского народа, по мнению писательницы, только у начала.
Творчество Бунина издавна привлекало Гиппиус. Она была современницей его «тихой и действительной славы». В статье «Тайна зеркала (Иван Бунин)» она вспоминает: «С начала 90-х годов, когда Бунин впервые появился на литературном горизонте, русская литература пережила много судорог, метаний, взлетов, провалов; много имен выскакивало на поверхность – и мгновенно исчезало навсегда. Шумели скороспелые славы. Строился картонный трон Л. Андрееву. Тут же объявлялись «новые течения» и рождались хрупкие «школы»… Бунин тихо шел рядом, ко всему приглядываясь и прислушиваясь, никуда не бросаясь с головой, не оставляя собственного крепкого пути».
Гиппиус пишет, что Бунин связан с русской землей, с народной Россией той таинственной внутренней связью, которая позволяет ему чувствовать боль ее как свою боль. «Бунин при этом зорок. Он видит, – ни один, может быть, писатель не обладает столь острыми глазами, – и рассказывает то, что видит. Острота зрения у Бунина – это первое, что поражает читателя». Теперь, когда после захвата власти большевиками, Россия стала «отрицательной величиной», имя Бунина вселяло уверенность: «Россия есть, была и будет, Россия вечна. Не только потому, конечно, что у нее была такая литература и такие люди, ее создавшие; но, между прочим, и потому, что эта литература и эти люди есть».
Гиппиус-критик писала о всех крупнейших писателях своего времени – Андрее Белом, А. Блоке, В. Брюсове, Вяч. Иванове, Георгии Иванове, С. Есенине, М. Кузмине, В. Розанове, И. Северянине, Ф. Сологубе, В. Ходасевиче и, конечно, о Л. Н. Толстом, к которому Мережковские ездили в Ясную Поляну в мае 1904 года. Всех писателей конца XIX и начала XX века, с кем была знакома Гиппиус и о ком она вспоминала в своих очерках, трудно перечислить. И к каждому она прикладывала, как говорила, «лакмусовую бумажку», нелицеприятную оценку. К. Бальмонта, например, она проверяла на «аполитичность». «Если прежде еще можно было горделиво бросить: «Я занимаюсь искусством, мне наплевать на форму правительства», то повторить это теперь, сказать: «Я занимаюсь искусством и глубоко плюю на то, что мой народ дошел до людоедства» – согласитесь, это звучит уже не весьма гордо. Испытание лакмусовой бумажкой дало нам, и продолжает давать, массу неожиданностей. В частности, между писателями «нелюдьми» оказались многие, которых мы никак в этом не смели подозревать… А вот поэт, которому, казалось, Богом самим назначено жить вне «политики», самый напевный, самый природный, самый соловьиный, – Бальмонт, – оказался настоящим человеком» (статья «Бальмонт»).
Поэзию Сергея Есенина Гиппиус не приняла по вполне политическим причинам: «Хотя это звучит парадоксом, разве многие тысячи Есениных, в свою очередь, не помогали и не помогли самим большевикам превратить их возможности – в действительность?». Политическая «лакмусовая бумажка» Гиппиус оказалась сильнее, чем ее понимание и чувство поэзии. Подобные «накладки» случались у писательницы, редко, но случались. Из живших в Советском Союзе, она высоко ценила Анну Ахматову, Михаила Булгакова; Бориса Пастернака упрекала в нарочитой сложности его стиха, и конечно, высмеивала большевистский запал Владимира Маяковского.
Отношение Гиппиус к фашистской Германии было довольно сложным. С одной стороны, для нее был неприемлем любой вид деспотизма; с другой, против большевиков она готова была сотрудничать хоть с дьяволом. В этом отношении она приближалась к беспринципности «классовой морали» большевиковленинцев. В письме В. Злобину 26 октября 1936 года она называла Гитлера «идиотом с мышью под носом», но не исключала, что он поможет сокрушить большевизм в России.
И все же, несмотря на страстное желание видеть родину свободной, Гиппиус никогда не сотрудничала с гитлеровцами во время войны (как и Мережковский, хотя и выступивший в сентябре 1941 года с речью по радио «Большевизм и человечество», опубликованной у нас в его книге «Царство Антихриста». СПб., 2001).
Ю. Терапиано, близко знавший Гиппиус, подчеркивал, что она всегда была подлинно русской патриоткой, глубоко любящей свою родину. В отличие от Ленина и Маяковского, желавшего жить «без России, без Латвии» (чудовищные слова в устах как бы русского поэта!), Мережковские любили Россию и русский народ, ждали его освобождения от власти коммунистов, что произошло лишь через полвека после их смерти.
Гиппиус размышляла о причинах второй мировой войны и уже после ее начала писала 19 декабря 1939 года своей близкой подруге Грете Герелль, что следовало бы давно понять – без большевиков в России и их чудовищной деятельности не появился бы ни этот «сумасшедший Гитлер», ни эта ужасная мировая война. Ведь после гибели «этого сумасшедшего» главный европейский Сатана – большевизм – останется цел и невредим. Так оно и случилось.
На протяжении многих десятилетий у русской эмиграции было сомненье: возможно ли подлинное художественное творчество в отрыве от родной почвы? Иные утверждали: «Невозможно». И. А. Бунин решительно возражал: раз из родного уезда уехал, то, пиши, пропал человек? У Гиппиус этот вопрос приобрел иной аспект: как могло случиться, что после десяти лет, в которые рушилось полмира, и все, казалось, погибло для эмигрантов, люди продолжали писать в Париже так же и о том же, что и раньше.
Зинаида Гиппиус – одна из центральных фигур поэзии и прозы Серебряного века, религиозного Возрождения начала века и литературы русского зарубежья, чьи наиболее интересные произведения появились именно в эмиграции. Как и многие другие писатели-эмигранты, вышедшие из символизма, она отвергала позитивизм и приложение материализма к проблемам искусства и литературы. Отклоняя социологизирован-ное понимание искусства, идущее от Чернышевского, Михайловского, Плеханова, она проявляла глубокое уважение к общечеловеческой культуре, противополагая идеи свободы утвердившемуся в советской России тоталитаризму и партийной литературе.
А. Николюкин
РАССКАЗЫ
ПЕСТРЫЙ ПЛАТОЧЕК
Это неинтересно. Никаких нет приключений, вовсе это не рассказ.
А просто ехали мы, во втором классе, через всю Россию, на юг.
Ехали всей семьей: с дедушкой, с тетей, с ее кошкой, с двумя маленькими моими братьями, с бонной, с чайниками и со всякими пожитками. Потому что мы переселялись в южный город, где жил мой дядя, мамин единственный брат – он ее и уговорил в этот город переселиться.
Я был мальчик хрупкий и нежный, – минуло мне тогда шестнадцать лет, – а в южном городе климат хороший, и мне легче будет учиться. Переведут прямо в шестой класс тамошней гимназии.
Ужасно хорошо мы ехали, – это ведь было очень давно. Поезд шел тихонько, часто останавливался на солнечных, веселых станциях, где были деревья кругом, высокие, в бледно-зеленых майских кудрях. Я выбегал на каждой станции, и каждая мне казалась такой счастливой, что я бы рад был на ней остаться жить.
В вагоне – точно маленькая наша комнатка: и дедушку тетя поит молоком, – всегда кошке отливает в черепушку, – и мама книжку читает, и дети, Миша и Тиша, в окна глядят и болтают с фрейлейн. Как ехать интересно! А что-то там будет, в Т*? Какой дядя, какая тетя? Я их едва помню, видел, когда совсем маленький был.
У меня есть и кузина Таня, дядина и тетина дочка. Как сквозь сон я и ее помню. Крошечной девочкой-толстушкой у няни на руках. И сам-то я тогда не очень тверд был на ногах, хотя и стремился бегать, – скучно ходить.
Кузина Таня меня очень интересует. Стараюсь вообразить ее, но ничего не выходит. Знакомых барышень гимназисток у меня много, но это ведь не знакомая барышня, это родная, как бы сестра. Сестры у меня никогда не было.
Так мы ехали два, а может быть, и три дня. И все становилось интереснее, а ожиданье нового все больше захватывало. Ведь все, все будет новое, и уж, конечно, радостное, веселое и счастливое.
К концу последнего дня мама сказала:
– Мы приедем около 9 часов вечера, но через полчаса будет станция, куда нас тетя Маня выехала встретить. Боится, чтоб мы в незнакомом городе ночью не растерялись.
Эти полчаса мне показались очень длинными. Едва-едва прошли. Однако прошли. И только что поезд остановился (а уж темнело) в наш вагон вошла быстро полная дама с седеющими волнистыми волосами и бросилась маме на шею.
Это и была тетя Маня. Дедушка заплакал, обнимаясь с ней, а за ним и другая тетя, наша, которая ехала с нами и везла кошку.
Тетя Маня со всеми нами познакомилась, перецеловалась и села в мамин уголок, на серую скамеечку. Поезд пошел, и тетя, наклонясь к маме (оне сидели друг против друга) стала с ней разговаривать.
Тетя мне тогда казалась уже старой, но теперь, вспоминая, вижу, что она была довольно молода, хотя и не молодилась; она мне сразу понравилась.
Говорили оне с мамой о том, конечно, как в новом городе устроиться, квартиру подыскать, и все такое. Квартиру уже с осени, потому что сейчас мы все остановимся у них, – у них просторно! а потом поедем вместе на дачу, в отличное место, где они всегда живут, и дача уже нанята, большая.
Я весь замирал от восторга, и от нового города, и от дачи, и от тети. Только про Таню тетя ничего не говорила, а я не смел спросить, и чем больше хотел, тем больше не смел.
А станции мелькали, уж совсем синие, в желтых огнях. Предпоследняя… Последняя… У нас все собрано, увязано, кошка изредка мяучит в корзинке, дети сонные капризничают.
Смотри в окно, Валя, – говорит мне тетя Маня. – Теперь минут через десять приедем. Наши будут на вокзале, ты дай им знак…
Я, ведь, тетя… – начинаю я робко. – Я, ведь, пожалуй, не смогу их… угадать…
Тетя засмеялась.
– Ах, правда, я и забыла! Ведь ты их не знаешь! Ну, смотри, хорошенько: у Тани на шляпке пестренький платочек. Как увидишь пестренький платочек – значит, Таня. А дядя с ней.
Я от окна больше не отрывался, хотя за окном пока еще бежала только темно-синяя душистая теплота, и эти десять минут совсем мне показались нескончаемыми, длиннее гораздо всех трех дней.
Но и они стали проходить и прошли.
Поезд свистит и тихо двигается вдоль еще пустынной платформы, к огням. Под огнями люди чернеют, люди, люди, – но все не те, ненужные.
И вдруг как-то сразу, очень ко мне близко, под огнями, я увидал черную соломенную шляпку с пестреньким платочком. Поезд, точно нарочно, тут же и остановился. Я, может быть, крикнул что-то, может быть, нет, но только на меня прямо глянули, из-под шляпки с пестрым платочком, узнающие темно-карие глаза, полудетские, полудевичьи.
Радость в том, что они были узнающие, узнавшие меня; радость в том, что они были новые, никогда мной невиданные, а все-таки для меня свои, родные.
Я помню еще свежий холодок Таниной смуглой, румяной щеки, когда я ее в первый раз, там, на вокзале, поцеловал. Потом мы пошли вместе, рядом, и так как я был выше нее ростом, то я все время видел этот ее, красиво на шляпке смятый, пестрый платочек, да иногда, из-под черных полей, милый взор ее, смущенный, веселый и родной.
Ну вот, больше ничего. Да больше ничего и не нужно, потому что тут уже – все. Другое дело, если бы выдумывать: можно бы выдумать, что я влюбился в Таню, любил ее всю жизнь, а она меня не любила, или, наоборот, что она меня всю жизнь любила, а я разлюбил… мало ли! Однако ничего этого не случилось, а было необыкновенно просто. Даже до удивительности просто.
Я Таню полюбил не сразу, начал медленно, потихоньку; зато любовь росла, не переставая. Росла, как люди растут, незаметно. Как мы с ней росли, и большими людьми выросли, но расти не перестали, и с нами росла наша любовь – так же незаметно.
Мы были такие разные, а в любви нашей братской, человеческой, до такой степени было одно, что нам и слова не очень были надобны. Сразу как-то взглянешь – и все уже есть.
Жили мы вместе, потом в разных городах, потом опять вместе; и опять расставались, и опять виделись. У каждого из нас была своя жизнь, но это не разделяло нас, и не могло разделить.
Таня вышла замуж. Удивительная, совсем особенная, жена; совсем особенная мать, я таких не видал, да и не слыхал о таких никогда. Но я не буду говорить об ее удивительности: нельзя рассказать, да и совсем уж будет неинтересно. Я только о пестром платочке скажу, вот тогда, на вокзале-Были мы с Таней, в наших двух жизнях, и счастливы очень, и несчастны очень. Как многие. Каюсь, при всей моей любви, завидовал я ей часто, главное – силе, которая у нее была во всем, к чему она ни касалась: сила тихая, человечная ужасно – и не совсем человеческая.
Тихости этой силы, дающей бесстрашие, я и завидовал.
Так годы шли, длинные… Я видел Таню в последний раз в тот роковой год… когда в мире что-то переломилось; когда началась война.
Почти десять лет.
Таня пережила за эти десять лет все, что могла пережить русская женщина. Жизнь разорвала нас – но не разорвала нашей связи. Я знал о ней все, она – обо мне. И редкие письма наши – точно мы и не расставались никогда, и почти слов не надо, – душа к душе.
Но я все не о том!
Таня умерла. Светло, тихо, просто. Ушла. А я остался.
Таня умерла. Около нее были дети, муж. Они знали ее, любили ее, как только можно любить. Знали больше меня, – ведь она всегда была с ними.
Но есть что-то, было что-то у здешней Тани, – мелочи, не мелочи, – которые знаю только я. Один я на всем свете! И когда умру я – их, значит, совсем не будет?
Вот хотя бы пестрого платочка… Не будет? Муж Тани о нем не знает. И дети не знают. И никто. Куда же девается пестрый платочек?
Велика, скажут, потеря. Да пусть его пропадает. Таких вещей, пропавших, и сосчитать нельзя. Куда девается бывшее, в душу человечью попавшее, душой сохраненное, никому никогда не сказанное, и даже ни в каких словах невыразимое – куда же ему деваться, если человек умрет? Пропадает.
И теперь уже от пестрого платочка осталась только половина; он был наш с Таней, наш общий, и только наш. Ее половинка пропала, – я храню свой кусочек… пока…
Нет. Пусть так думают те, у кого не бывало никогда ни малейшего пестрого платочка. Они могут. А я не могу, даже если бы и захотел. Я знаю (все мы знаем, у кого есть свой «пестрый платочек»), что бесследным пропадом пропадает только чистая материя, каждый ее лик. Где настоящий, реальный пестрый платочек с Таниной шляпки? Он и не может существовать; он должен был или пропасть, или – сохраниться, – чуть-чуть изменив существо, – между мной и Таней: в нашей любви.
Стоит кольцу любви замкнуть что-нибудь в себя – и вот, оно неистребимо. Большое, малое, пестренький платочек и то, для чего слова нет – все цело, какое бы ни было его количество неисчислимое, все – у Бога. У него и слово для бессловно-го найдется; кто же не слыхал, что «слово было у Бога». И пестренький платочек у Бога; в сущности я о нем и не беспокоюсь.
Ах, вот как! Это значит – «на том свете»?
Полноте, пожалуйста. Никакого «того света» нет. Есть только один – этот. И Бог в нем же, и все тут же. Но как увидеть? Мы еще в хаосе; мы – в движении материи. Это ничего, это материя делится; и надо время, чтобы она разделилась: чему, в кольцо любви заключившись, сохраниться, а чему, не попав в него, провалиться. Надо время, чтобы «последний враг был побежден – Смерть».