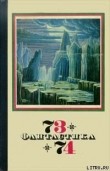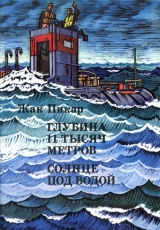
Текст книги "Глубина 11 тысяч метров. Солнце под водой"
Автор книги: Жак Пикар
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 33 страниц)
Мы с Буоно с головой ушли в работу: нам предстояло подготовить сменный экипаж, кроме того, появилась ценная возможность выписывать любые приборы и запасные части. На наши заявки неизменно отвечали согласием, даже не осведомляясь о стоимости. Единственное неудобство – это потеря времени. Формальности иногда вырастали до таких размеров, что я предпочитал кое-что покупать за свои деньги; это обстоятельство неизменно приводило в недоумение моих американских коллег.
– Как же вы вернете деньги? – спрашивали они.
– Во время погружения, – отвечал я, но, должен признать, это звучало для них малоубедительно.
В один из дней меня разыскал невероятно озабоченный Рехницер.
– Серьезное дело, – сказал он. – У нас на счете осталось двадцать пять тысяч долларов. Если мы не потратим их немедленно, они пропадут. Но, что хуже, их автоматически срежут из ассигнований на следующий год как неиспользованные. Что вы предлагаете купить?
100 тысяч швейцарских франков! Больше, чем мы заплатили за всю гондолу на заводе в Терни!.. И их надо было «задействовать» немедленно, выбросить на ветер! Я предложил купить батареи; они были такие дорогие, что денег хватило всего на три комплекта…
Эта безумная система расходования средств неоднократно подвергалась критике, но американцы в ответ лишь улыбались. Нельзя же в самом деле ориентироваться на европейскую науку, экономящую каждый сантим. Да и потом, добавляли наши собеседники, это лишь видимая трата; ее скорее надо рассматривать как долгосрочное вложение.
В мае 1959 года мы приступили к программе научных погружений. Море в районе Сан-Диего очень и очень любопытно. Хотя этот район едва ли не самый изученный, дно хранит много загадок. С одной стороны, это не океанская бездна, но с другой – и не континентальный шельф. Уникальное в своем роде дно представляет собой древнее погрузившееся плато с отмелями, возвышенностями и ущельями глубиной до двух километров. Для него было даже придумано специальное название – «континентальный бордерленд». Дитц, изучавший его несколько лет назад, говорил, что многие отмели покрыты слоем фосфоритных конкреций, образовавшихся из костей рыб и других морских животных. Эти отложения – своеобразные подводные острова гуано, и рано или поздно здесь начнется их промышленная разработка… Да, причуд Калифорнии с успехом хватило бы на целую флотилию батискафов.
Богатством и разнообразием здешние воды не шли ни в какое сравнение с Капри. Особенно много было планктона. До сих пор «Триест» знавал прозрачные голубые воды своей юности; здесь вода была серо-стальной и куда менее прозрачной. На глубине 200 метров в полдень было уже почти темно. Кроме того, возле Сан-Диего было много холоднее, чем в Средиземном море. Гибралтарский «порог», глубиной всего в 300 метров, не пускает холодные воды Атлантики, идущие из полярных широт, в Средиземноморье. Возле Капри при быстром спуске температура бензина в поплавке повышалась за счет сжатия – это явление общеизвестно, его даже используют в дизельном моторе. Затем уже на дне бензин немного охлаждался, чтобы вновь начать согреваться за счет расширения при подъеме. В Тихом океане было все наоборот: когда батискаф уходил с поверхности, бензин охлаждался – вначале довольно медленно, потом на дне быстрее и совсем быстро во время подъема. После больших погружений мы поднимались на поверхность, когда термометр показывал температуру воды 30 градусов, а температура бензина была в это время ниже нуля! Все это играло роль при расчете количества сбрасываемого балласта.
На богатом калифорнийском дне «Триест» обнаружил довольно мощное течение скоростью в полузла, [30]30
Один узел равен одной миле (1,85 км) в час.
[Закрыть]но, как ни странно, на дне не было ни ряби, ни промоин, как обычно при сильных течениях. Интересно, что в Италии на глубине 2800 метров мы обнаружили громадные промоины в зоне, где не заметно было малейшего течения. Лет десять назад океанографы считали, что воды на больших глубинах неподвижны. Затем были получены первые фотографии с рябью на дне. Итальянские и калифорнийские наблюдения вновь вернули нас к этой загадке.
Желоб Сан-Диего богат рыбой. Это, правда, не означает, что мы спускались в сплошном рыбном месиве, нет, конечно. На батискафе редко доводится наблюдать на глубине рыбу, в Италии на дне мне не удалось заметить ни одной. Море настолько велико, а рыбы настолько чувствительны к чужеродному телу, что наблюдать их можно только при очень благоприятных обстоятельствах. Великолепные подводные киносъемки, столько сделавшие для популярности голубого континента, производились в совершенно особых условиях: для них выбирали изобилующие рыбой места возле рифов и скал – именно там, где мы избегали опускаться на батискафе. Съемки велись на очень небольшой глубине, а часто просто в аквариуме.
Возле Сан-Диего нам повезло, мы видели рыб вблизи в чудесных условиях. Мы быстро подружились с любопытной пучеглазой «черной треской» – эта рыба сантиметров в тридцать длиной, довольно толстая. Поначалу они не обращали на нас внимания, но затем им понравилось принимать «солнечные ванны» в лучах ртутных фар батискафа. Как-то раз одна рыба заметила свет в гондоле и начала тыкаться в плексиглас, просясь в гости. Я видел ее отчетливо, как сквозь аквариумное стекло. Хотя, если вдуматься, кто за кем наблюдал? Кто был заперт в клетке, а кто гулял на свободе? Рыба вряд ли подозревала, что случай послал ей для изучения два образца Гомо сапиенс в стальном шаре…
В другой раз, когда мы совершали погружение на 1200 метров, Дитц из чистого любопытства положил в пластмассовую корзинку, укрепленную снаружи, дюжину яиц. Опыт был интересен: яичная скорлупа полупориста, и мы ожидали, что вода просочится внутрь и уравновесит давление. Именно так оно и оказалось: все яйца вернулись наверх целыми.
Естественно, это был не единственный научный эксперимент, поставленный нами во время погружений у Сан-Диего. Мы сравнивали скорости прохождения звука на разных глубинах, эти опыты ставил сотрудник Лаборатории электроники К. Макензи. Подготовка была тщательной, накануне мы даже провели репетицию в бухте Сан-Диего. На специально оборудованных рельсах укрепили измерительные приборы, эталонированные в Лаборатории. Было условлено, что во время спуска я попытаюсь остановить батискаф и зависнуть без движения, пока Макензи не спишет показания приборов и не «перевернет» с помощью электромагнита батометры. Скорость прохождения звука в воде давно известна, но нуждается в уточнении. Обычно она в пять раз превышает скорость звука в воздухе, но все же есть отклонения на несколько процентов в зависимости от плотности воды, глубины, солености и даже силы тяжести, меняющейся на разной широте. Скорость на одной и той же глубине, трех километров скажем, колеблется от 1530 метров в секунду в Средиземном море до 1494 метров в секунду в отдельных районах Тихого океана. Таким образом, перед Макензи открывалось широкое поле деятельности. Сбрасывая попеременно дробь и бензин, я восемь раз останавливал «Триест» на разной глубине, и все замеры прошли удачно.
За три недели мы совершили шесть погружений с наблюдателями, сменный экипаж осваивал управление батискафом.
Флот по первому требованию выдавал нам все необходимое, не останавливаясь ни перед какими тратами. Тем не менее и здесь не обошлось все гладко. Причем самыми сложными оказывались вещи вроде бы простые. Вспоминаю по этому поводу, сколько труда положил Рехницер, чтобы выклянчить разрешение на покупку моторной шхуны для сопровождения батискафа. Флот еще в первые дни выделил нам старый списанный бот, метра три длиной, пропускавший воду не хуже, чем дуршлаг. К тому же его моторчик капризным нравом напоминал старую деву; судно явно было предназначено для любого другого океана, кроме Тихого. Бот, как резвящийся дельфин, зарывался носом в каждую волну, грозя вот-вот затонуть. Рехницер, я уже говорил, был опытным аквалангистом и давно заприметил, что местные ловцы лангуст ходят на маленькой шхуне, прекрасно выдерживающей волнение; она легко брала пять-шесть человек, а на палубе вполне могло разместиться аварийное оборудование. Да, но это было гражданское судно, то есть в глазах военно-морского начальства вовсе не являлось судном. Мы отправились к моему хорошему знакомому капитану X.
Пропев хвалу моторному боту, мы все же выразили мнение, что он, к великому сожалению, не подходит для наших целей. Капитан в щедром порыве предложил нам выбирать любое судно – от спасательной шлюпки до адмиральского катера. Но Рехницеру нужна была шхуна, вполне конкретная рыболовная шхуна.
– Ничего не понимаю, – нахмурился капитан, – ведь это… гм – гражданское судно.
– Да, – подтвердил Рехницер.
– Тогда ничего не выйдет. Она не может ходить в паре с батискафом, являющимся кораблем военно-морского флота! У нас на вооружении суда всех типов, выбирайте любое, но только не гражданское! Забудьте об этом.
– Рыбаки, между прочим, выбрали именно шхуну. Они тоже могли купить любое судно, а выбрали ее. Значит, лучше ничего нет, – возразил Рехницер.
Но капитан X. не желал входить в философский спор. Он поднялся из-за стола, по очереди оглядел нас и с искренним возмущением закончил:
– Неужели вы в самом деле думаете, что штатские могут нам указывать, какой корабль хороший, а какой плохой?!
Когда понурые мы выходили из кабинета, он придержал меня за локоть:
– Вы небось про себя думаете: «Смогли же двое штатских построить глубоководное судно». Но устав есть устав…
Несколько дней спустя мы вышли в море. Закончив погружение, «Триест» прицепили к буксиру, и тот потащил батискаф в порт. Не знаю уж, кому пришло в голову привязать наш ботик не как обычно – к корме батискафа, а к буксиру. При скорости пять-шесть узлов бот стал сильно рыскать, набрал воды, отяжелел; буксирный трос неожиданно лопнул, и следовавший за буксиром батискаф мгновенно раздавил посудину. С трудом нам удалось выловить оставшийся от бота… компас. Драгоценный трофей!
На следующий день капитан X. пришел к нам. Вид у него был глубоко несчастный. Уж не случилось ли за ночь землетрясение, осведомился я.
– А вы разве не знаете? – спросил он.
– Нет, капитан, что случилось?
– Бот…
– Что бот?
– Затонул…
Тут я вспомнил вчерашнее происшествие.
– Но ведь судно не потеряно, – ответил кто-то из нас. – По крайней мере с точки зрения устава. Вот доказательство. – И он протянул компас. – Если от судна осталась какая-нибудь часть, гласит устав, его следует считать потерпевшим аварию и нуждающимся в ремонте. Достаточно к этому компасу добавить корпус, мотор, и судно вполне может служить…
Капитан X. посмотрел на нас и вышел, ничего не ответив, но я уверен, что в глубине души он стал уважать «этих штатских», так быстро вобравших в себя уставную премудрость. Несколько недель спустя мы получили лангустовую шхуну…
Сезон закончился. «Триест» поставили в док. Первая серия погружений в новом океане была не столь плодотворной, как кампания 1957 года в Неаполитанском заливе, но для нас представляла крайний интерес. Ведь она предваряла вторую остававшуюся пока в секрете часть нашей программы, ради которой я приехал в Калифорнию. Вот как об этом объявили в газетах: «„Триест“ отведен в сухой док для осмотра и подготовки к серии погружений в Тихом океане на глубину 6 тысяч метров». Всемогущая пресса, столько раз преувеличивавшая подвиги батискафа, на сей раз ошиблась. Она здорово сократила размеры готовящегося предприятия и оказалась много ниже (наверное, в данном случае следовало сказать выше?) истины.
Проект «Нектон»
От Японии до Новой Гвинеи на 4 тысячи километров тянется громадный подводный хребет. Большая часть гор с головой укрыта морем, лишь кое-где вершины их выступают на поверхность: это острова Идзу, Огасавара, Марианский архипелаг и дальше к югу – Каролинские острова. Гуам, лежащий на 13° северной широты, замыкает цепь Марианского архипелага. От него до следующего большого острова – Новой Гвинеи 1800 километров. Мы говорили уже о том, что вдоль этого хребта тянется глубокий, похожий на ров желоб, достигающий в отдельных местах восьми-девяти километров. В том месте, где подводная гряда слегка поворачивает на запад, навстречу Филиппинам, как раз в районе Гуама, лежит самая глубокая известная океанографам впадина – Челленджер, достигающая почти 11 тысяч метров. Выходит, что жители Гуама обитают на вершине высочайшей в мире горы, выше Эвереста!
Геологическое формирование района еще не закончилось, о чем свидетельствуют частые землетрясения и извержения вулканов. Здесь часть знаменитого «огненного кольца» Тихого океана.
В том месте, где горный хребет вдается в Центральную Японию, в районе архипелага Идзу, находится Фосса Магна, великая щель Японии; там зарождались жесточайшие землетрясения, в том числе и эпицентр страшного землетрясения Кванто, стершего в 1923 году Токио с лица земли.
Цепь островов по сути дела замыкает на западе бассейн Тихого океана. Остальная его часть гораздо спокойнее. Пожалуй, только район Гавайев нарушает геологическую монотонность; здесь кора Земли тоже трескается, изливая наружу обильную лаву. В очень отдаленную геологическую эпоху здесь выросло несколько подводных вулканов. Постепенно поднимаясь над водой, они образовали цепочку островов. Сейчас из них только Уэйк и Маркус сохранили свое место под солнцем. Да и те обязаны выживанием знаменитой колонии кораллов, обосновавшейся у них на вершине, – разрастаясь, они позволяют островам остаться на уровне моря.
Перескакивая с острова на остров, самолет летит через Тихий океан. Вначале остановка на Гавайях, затем, прежде чем приземлиться на Гуаме и Филиппинах, пересаживаемся на другой самолет в Уэйке, крохотном клочке, на котором едва-едва уместилась взлетно-посадочная полоса. Остров имеет U-образную форму. Внутренняя лагуна, как ее называют здесь, – это и есть бывший кратер вулкана. В среднем остров выступает метра на четыре над поверхностью воды, и самолет садится на коралловую дорожку.
Любопытно, что остров удостоился нескольких открытий. В 1600 году некий миссионер назвал его своим именем – Вильсон; чуть позже испанцы переделали название на Сан-Франциско, а в 1796 году его в последний раз официально открыл американский капитан Уэйк, присоединивший атолл к своей родине. В 1840 году Пил составил первое научное описание островка. Рассказывают, что в том же 1840 году на коралловых рифах Уэйка в шторм разбился немецкий корабль «Либель»; спасшиеся моряки вытащили из разбитого трюма груз золотых и серебряных монет и зарыли их на острове. Но на Уэйке не было пресной воды, поэтому жажда погнала их прочь. После восемнадцати дней отчаянных скитаний по волнам матросы добрались до Гуама… Клад до сих пор не найден.
В сравнении с Уэйком Гуам выглядит чуть ли не целым континентом: на его площади в 600 квадратных километров обитает около 75 тысяч человек. Из них меньше половины настоящие гуамцы, остальные – это главным образом персонал крупнейшей американской военно-воздушной и морской базы. Полицейский контроль при въезде на остров вдесятеро суровее, чем в Соединенных Штатах. Первую проверку паспортов устраивают еще на борту самолета, до того как вы ступили на землю. Зато, если вас пропустили, вы можете спокойно разгуливать, где вам заблагорассудится.
Остров выглядит, как и положено выглядеть тропическому острову: пышная зелень, жгучее солнце и проливной дождь (около двух метров осадков в год). Здесь существует два времени года – мокрый сезон, когда, не переставая, идет дождь, и сухой, когда дождь может пойти с минуты на минуту. Солнце, правда, здесь до того жаркое, что ливни не страшны – знаешь, что через пять минут костюм будет сухой.
Остров Гуам не чета Уэйку, сам Магеллан удостоил его посещением в 1521 году. Как известно, великий мореплаватель поссорился со своим государем и перешел на службу к испанскому королю, которому и преподнес Марианские острова. Судьбе было угодно, чтобы здесь же он сложил голову в бессмысленном бою. [31]31
Фернандо Магеллан был убит 27 апреля 1521 г. на острове Мактан (Филиппинский архипелаг).
[Закрыть]В течение трех веков Гуам оставался испанским, и иберийская культура, хотя и не без японских и филиппинских веяний (оттуда до Гуама всего две с половиной тысячи километров), чувствуется здесь по сей день.
В 1898 году во время испано-американской войны Гуам без особых осложнений был взят штурмом американцами. Акт о передаче был ратифицирован в Париже в том же году. Вскоре Альфонс XIII Испанский, потеряв интерес к этим заброшенным клочкам суши, продал оставшиеся Марианские острова Германии. Они оставались немецкими до 1919 года, когда Лига наций передала их под японский мандат. Ныне Марианские острова находятся теоретически под контролем ООН, за исключением Гуама, который продолжает оставаться американской территорией. В этом качестве в первые дни войны на Тихом океане остров был завоеван японцами в декабре 1941 года и освобожден лишь в 1944 году массированным десантом американской морской пехоты. Правда, на острове отыщется немало людей, которые будут утверждать, что, напротив, в 1941 году он был освобожден и вновь оккупирован в 44-м, – все зависит от точки зрения. По слухам, на Гуаме до сих пор скрывается в джунглях упрямый японец, не желающий поверить, что Империи Восходящего Солнца больше не существует. Возможно, этот подпольщик надеется пересидеть короткий период между войнами, чтобы, когда грянет третья мировая, вновь оказаться на своем посту?.. Говорят, гуамское население потихоньку подкармлизает его, видя в нем некий символ, олицетворяющий прошлое… [32]32
По сообщениям газет, весной 1971 года американцам «сдался» вышедший из джунглей японский сержант. Он прожил в своем убежище почти двадцать семь лет.
[Закрыть] Во время японской оккупации в этих же джунглях три года скрывался американский солдат.
Сам остров очень разнообразен, пестр, красив. Остров контрастов, присущих всякой быстро развивающейся колонии. Сейчас на Гуаме насчитывается около 15 тысяч автомобилей, но у коренных островитян по-прежнему признаком богатства остается привязанная возле хижины корова. Отметим, кстати, что она служит в основном декоративным целям, так как молоко продается в магазинах. Дело в том, что Америка считала гуамцев – совершенно ошибочно, как я убежден, – людьми ленивыми, а посему сочли более экономичным ввозить молоко (в порошке) из Соединенных Штатов, чем производить его на месте. Все же кое-какое сельскохозяйственное производство на острове есть: гуляя, замечаешь посадки фасоли, капусты, огурцов, дынь, лука, редиса и, разумеется, сладкого картофеля. Фрукты здесь растут в изобилии: бананы, ананасы, апельсины, есть и хлебное дерево – его плоды напоминают мягкие кокосовые орехи, их здесь любят. Статистики, неразлучные спутники военно-воздушных и военно-морских сил (готовые следовать за ними при надобности под воду и в небеса), подсчитали, что на сегодняшний день на Гуаме проживает 8424 свиньи, 100 тысяч петухов и кур (производящих с военной четкостью 11 448 яиц), 3706 коров и 794 карабау – водяных буйволов с Филиппин.
Современная цивилизация не мешает местным традициям. Перед крытой соломой хижиной стравливают петухов – один из них кубинской породы, другой – кохинхин. Мимо с дребезжанием ржавой кастрюли проезжает, зазывно звеня колокольчиком, «кокавоз» – символ свободного предпринимательства на острове. Колесница эта, по всей видимости, в прошлом военный джип; под натянутым нейлоновым тентом в голубую и желтую полоску покоятся два громадных хромированных крана, начищенных до сияния кадиллака. Над одним красуется буква «К», над другим – «В»; означает это, как мне объяснили, «Кока» и «Вода». Таким образом, вы можете получить любую желаемую концентрацию напитка. На моих глазах из означенного крана «К» потекла густая коричневая жижа, скорее смахивавшая на гуталин, чем на прохладительный напиток знаменитой марки. Зато из другого крана текла настоящая холодная вода – в смеси это и должно было породить вожделенное зелье под названием «кока без колы»…
Заброшенный клочок суши не оставлен вниманием религии – 95 процентов гражданского населения католики. Зато оставшиеся пять процентов свирепо защищают свою независимость в вероисповедании. На эти пять процентов нацелился целый батальон культов. Здесь и баптистская, и епископальная церковь, и «христианская наука», и церковь Иисуса Христа, и последних святых дня (или святых последнего дня – сейчас не помню), церковь Христова, первая церковь бога, свидетели Иеговы, адвентисты седьмого дня. Перед лицом такого наплыва религий было решено собрать их всех… под одной крышей из волнистого шифера. Объединенное учреждение носит название – «религиозно-воспитательный дом». Он открыт ежедневно от десяти утра до полудня, а потом с двух до четырех. Вход свободный.
Туризм тоже имеет свою штаб-квартиру на Гуаме; купив билетик за несколько центов, вы можете взгромоздиться на спину буйвола и тихим шагом проехать по острову из конца в конец. Площадки для гольфа, китайский ресторан, продажа морских раковин для коллекционеров, статуя Свободы, выполненная в масштабе острова, многочисленные буфеты и «научные легенды», например, о том, что с первыми бликами зари армады крабов покидают пляжи и поднимаются в горы, а несколько дней спустя возвращаются оттуда с хрустом и грохотом, способным нагнать дрожь на самого забурелого зоолога, – все это превращает кораллово-вулканический клочок суши с его озерами, пенистыми прибоями, пальмами и бунгало под волнистыми крышами в удивительно идиллическое и вместе с тем ужасно утомительное место. Идиллическое – если вы приехали сюда на две недели, и утомительное для военных, загнанных сюда на два года службы, ибо за две недели они успевают на все насмотреться вволю.
Нас привлекала главным образом близость острова к великой Марианской впадине, к желобу Челленджер. Было решено штурмовать ее. Глубина 11 тысяч метров была призвана стать финальной точкой длительного этапа подготовки.
Начало этой истории относится к весьма отдаленному периоду, когда я в Лозанне читал лекции о батискафе. В одной из них я упомянул Филиппинскую впадину как самое глубокое место Мирового океана. После лекции ко мне подошел мой университетский профессор математики Поль Рей и сказал, что английское океанографическое судно «Челленджер-2» недавно обнаружило еще более глубокий желоб, чем у Минданао на Филиппинах.
– Глубина там около одиннадцати километров, – сказал профессор Рей. – Если уж вы решили отправиться в тот район, почему бы не обследовать Марианы вместо Филиппин?
– Вы правы, я поеду на Марианы!
Как сейчас помню взгляд своего профессора – одновременно довольный и недоверчивый; он не знал, шучу я или говорю серьезно. Постояв секунду, он кивнул и пожелал мне всяческой удачи, но в голосе его была тревога. Ведь теперь на нем лежала ответственность, раз он сообщил мне о только что открытой впадине. Кроме того, именно он учил меня расчетам! Таким образом, во всем этом деле немалая заслуга профессора Рея, к которому я навсегда сохранил благодарность.
Несколько дней спустя, в начале 1957 года, я был приглашен на международный конгресс океанографов в Гётеборг, посвященный открытию Международного геофизического года. В Швеции я встретил своих друзей-американцев из Управления морских исследований, в частности Роберта Дитца и Гордона Лилла. Мы опять заговорили о батискафе – в продолжение разговора, начатого в Вашингтоне за год до этого. Помнится, я упомянул о возможности достичь глубины 10 километров. За кофе волшебное слово «желоб Челленджер» вновь всплыло в беседе. Дитц подхватил идею:
– Сотрудничество с американским флотом откроет широкие перспективы. Не исключена экспедиция к Марианскому архипелагу.
– Знаю, – ответил я. – У вас большая база на Гуаме, а от Гуама легко отбуксировать «Триест» к желобу Челленджер. Кстати сказать, я давным-давно уже предлагал вашему флотскому начальству подобную экспедицию. Там у вас все готово: база, корабли, самолеты, подъемные краны, бензохранилища… Не хватает только «Триеста».
В то время я не ожидал, что за мое предложение ухватятся: летний сезон 1957 года и успехи итало-американской экспедиции были еще впереди. Предстояло убедить американских океанографов в преимуществах батискафа; да и нельзя было сразу же тащить людей на глубину 11 тысяч метров. Подходить следовало постепенно. Но разговор об 11 тысячах метров сильно облегчил дело с летней программой. Если уж он обещает 11 тысяч метров, решили про себя американцы, то на 3 тысячи мы можем согласиться без боязни…
Уместен вопрос: зачем вообще опускаться на 11 тысяч метров? Тут есть множество причин. Во-первых, с появлением человека на Земле он стремится побывать всюду. Покорение планеты, а теперь и систематическое изучение космоса, – результат природной человеческой любознательности. Нельзя себе представить, чтобы человек не использовал орудия, появившегося в его распоряжении. А отсюда до изготовления орудия – один шаг. Этот первый шаг был сделан несколько лет назад постройкой первого батискафа. Теперь настало время сделать второй.
Средняя глубина океана на Земле 4–6 тысяч метров. 10–11 тысяч метров – редкие исключения. Но именно потому, что они исключения, эти глубины необходимо исследовать, ибо там есть шанс обнаружить нечто исключительное. Горная вершина, скажем Эверест, тоже исключение, и он покорен. Океанские желоба, а в особенности самый глубокий из них, тем более необходимо осмотреть. Полчаса на дне дали бы точный ответ на многие важные вопросы, которые океанографы обсуждают десятилетиями.
Было ясно, что рано или поздно придет черед впадины Челленджер; все возражения отойдут по мере развития подводной техники. Плод созреет, нужно только ухаживать со всем старанием за деревом… Подумать только – на свете не осталось ни одного неисследованного клочка суши, человек побывал на обоих полюсах, в стратосфере, на самых высоких вершинах. Остался последний еще не взятый рубеж – котловина Челленджер. Затем можно будет со спокойной душой отправляться в космос; позади человечество оставит полностью открытую планету.
Я был уверен, что подводная экспедиция подхлестнет строительство новых аппаратов, откроет эпоху систематического изучения больших глубин. До сего времени нашему примеру последовал только французский флот (старый ФНРС-2 превратился в ФНРС-3). Больше никто.
В январе 1958 года я снова ненадолго приехал в Вашингтон, и мы самым серьезным образом обсуждали этот проект.
– Вы действительно уверены, что «Триест» сможет опуститься на одиннадцать тысяч метров? – обратился ко мне Гордон Лилл.
– Никаких сомнений. Конечно, при условии надлежащей подготовки, – ответил я. – Как вы знаете, «Триест» был построен в расчете на глубины до шести тысяч метров. Гондола, правда, способна выдержать давление и шестнадцатикилометровой глубины. Если учесть, что коэффициент надежности равен полтора, то на одиннадцати тысячах метров мы будем в такой же безопасности, как подводная лодка на своей обычной глубине. Тем не менее вначале имеет смысл совершить одно-два погружения без экипажа.
– А как можно гарантировать, что неуправляемый батискаф поднимется на поверхность?
Это довольно просто. Первое серьезное погружение в 1948 году возле Дакара ФНРС-2 совершил без экипажа, им удравлял автопилот. Той же системой воспользовались французы пять-шесть лет спустя на испытаниях ФНРС-3. Что касается «Триеста», то он настолько надежен, что надобности в такого рода опытах не возникало. Но на борту есть необходимое оборудование.
– Что произойдет, если металлическая сфера не выдержит глубины одиннадцати тысяч метров?
– Взрыв будет настолько сильным, что выведет из строя поплавок или даже уничтожит его. Высвободившаяся энергия равна взрыву тридцати килограммов тринитротолуола. Грохот разнесется на сотни миль вокруг. Конечно, хорошо бы иметь новую, более прочную гондолу. Она будет тяжелее нынешней, но поплавок достаточно велик: если использовать сверхлегкий бензин, равновесие не нарушится.
Идея созревала медленно, но верно. Заведя речь о новой гондоле, я боялся, что распорядители кредитов встретят ее в штыки. Нет, меня попросили составить примерную смету расходов…
Я вернулся в Европу и сразу же отправился в Рим. У меня была надежда уговорить дирекцию завода в Терни взяться за постройку новой гондолы. Увы, положение за это время изменилось. Мне ответили, что люди, работавшие над первой гондолой «Триеста», разбрелись кто куда, специальных станков и инструментов больше нет, поставок отдельных частей придется ждать очень долго – короче, в Терни предпочитали выпускать массовую продукцию или по крайней мере не столь уникальные вещи.
В унынии я отправился на север. Если в Терни отказали, к кому обращаться? Естественно, мне хотелось, чтобы, фирма гарантировала качество исполнения. Гондолу следовало выковать не хуже, чем в Италии. Поразмыслив, я решил направить стопы в ФРГ. Там на заводах есть необходимое оборудование.
Признаться, я с нетерпением ожидал разговора с инженерами фирмы Круппа. Уже десяток лет, если не больше, я занимался батискафом: вначале в Бельгии, где строился первый батискаф, потом в Италии, где родился «Триест», частично во Франции и Швейцарии, где мы заказывали приборы и отдельные детали, наконец в Америке. Что ждет меня в ФРГ, я не знал.
Итак, весной 1958 года я приехал в Эссен, а в сентябре был оформлен заказ на новую гондолу – третью по счету. Все будущие трудности и возможные осложнения оговорили с крупповскими инженерами, план выработали, и работы начались. Я с головой окунулся в атмосферу кузнечного цеха. Ювелирность работы громадного пресса, поразившая меня еще в Терни, подтвердилась и на сей раз. У Круппа к тому же был новый «манипулятор» – громадные щипцы, которыми захватывали раскаленный кусок стали, подкладывали его под пресс, вертели во все стороны и опускали наземь уже готовую деталь.
Чудовищное напряжение, связанное с работой на сталелитейном заводе, часто разряжалось шутками, хорошее настроение не проходило. Один раз, когда еще раскаленное докрасна центральное кольцо висело рядом с прессом, дежурный инженер предложил мне войти в него и примерить, годится ли оно для моего роста!
Зима шла на убыль, с каждым приездом в Эссен мне показывали новые части, знакомили с результатами испытаний, демонстрировали макеты – работы продвигались семимильными шагами. Стальные болванки и выкованные части гондолы переходили из цеха в цех, от одной бригады к другой, и каждый раз я чувствовал у людей горячее желание как можно лучше справиться с операцией. В Кастелламмаре рабочие продолжали строить батискаф, несмотря на объявленную забастовку; в Эссене они приходили в цех, несмотря на эпидемию гриппа.
Внутреннее оборудование для гондолы мы заказали в Швейцарии, на заводе в Веве. Кабина внешне напоминала своих предшественников – и первую гондолу «Триеста», и ФНРС-2 и 3, и даже стратосферный шар отца. Но по сравнению с двумя первыми морскими гондолами здесь мы отвели больше места океанографическим приборам, которые можно было менять в зависимости от цели и характера погружений. Изготовлением научного снаряжения занималась прекрасная группа техников под руководством моих земляков – инженеров Фуйю и Пульезе; это был для них непривычный заказ, тем не менее все было выполнено четко и в срок. Едва ли не в каждом кубическом сантиметре объема гондолы помещался прибор; в пространстве менее чем в четыре кубических метра разместили несколько километров кабеля.