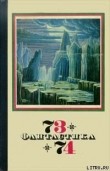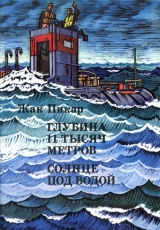
Текст книги "Глубина 11 тысяч метров. Солнце под водой"
Автор книги: Жак Пикар
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 33 страниц)
62. Последний подъем
В 1.15 Эрвин Эберсолд десять секунд подпускает воздух в правую уравнительную цистерну.
Медленно, плавно «Бен Франклин» начинает свое движение к поверхности.
4.32. Еще 4 секунды подпускаем воздух.
5.00. Глубина 260 метров.
6.50. Глубина 150 метров.
Вот уже и аккумуляторы зажурчали. Кассетный проигрыватель исполняет тихую музыку, Фрэнк и Чет напевают что-то печальное. Это на них непохоже, но сегодня утром у них вообще невеселый вид. Что ж, вполне естественно. Через несколько часов нам придется покинуть свой дом, расстаться с обителью, в которой по воле неугомонного течения прошла одна тысячная нашего земного бытия. Рассказывают про заключенных, которые отказывались от побега, бросив последний взгляд на камеру, откуда рвались на волю!
7.12 – в мезоскафе совсем светло, глубина 93 метра. До сих пор поднимались равномерно, но тут попадаем в более теплый слой и проваливаемся вниз на несколько метров. Ничего страшного, Эрвин подпускает еще воздуха в одну из уравнительных цистерн. Воздухом мы хорошо обеспечены.
В 7.44 поверхность еще не видна. Температура воды 23,22 °C. Не знаю исторической даты, которая совпала бы с этой цифрой…
Минутой позже, находясь на глубине 36,50 метра, отчетливо видим поверхность воды. Барашков не заметно, но на глубине 20 метров уже чувствуются волны; значит, зыбь изрядная. Мимо иллюминатора лениво проплывает маленькая медуза. Последний житель моря, с которым нам суждено встретиться в этом плавании? В тот же иллюминатор вижу изрытую волнами поверхность. Через несколько минут мы будем там.
Как внушительно выглядит снизу поверхность моря… Небо не просвечивает. Вихри и водовороты, чередуясь с гладкими участками, образуют над нами огромные круги и всякие прочие геометрические фигуры. Незабываемое впечатление. Дециметр за дециметром, сантиметр за сантиметром приближаемся к поверхности. Не очень-то приветливо она нас встречает, но иного пути к земной тверди нет.
За несколько минут перед тем, как покинуть подводное царство, на глубине 9 метров в чистой лучезарной толще замечаем наших друзей-сальп. В последний раз они подходят к мезоскафу и затевают игру, прощаясь с нами.
63. Конец экспедиции
В 7.57 утра наша антенна поднимается над водой. Быстро налаживаем радиосвязь. Разумеется, во время всплытия мы непрерывно переговаривались по подводному телефону.
В 7.59 Эрвин открывает клапаны, продувающие главные балластные цистерны, и вот уже «Бен Франклин» весь на поверхности. Легкая качка говорит нам, что волнение не такое уж сильное, как мы опасались.
8.00, четырнадцатое августа 1969 года. Экспедиция «Гольфстрим» завершена. Можно открывать люк.
Это надо делать осмотрительно, учитывая небольшое избыточное давление внутри. Вообще-то есть специальный клапан, который позволяет постепенно выровнять внутреннее и наружное давление. Но Дон Казимир, видно, от нетерпения (вполне объяснимого) не хочет пользоваться этим клапаном, и мы осторожно открываем люк. Слышно тихое сипение. Наконец в 8.09 люк открыт нараспашку.
Дон Казимир любезно предлагает мне выходить первым. Но я все еще считаю себя хозяином подводной обители, а потому отказываюсь от этой чести и этого удовольствия и предлагаю, чтобы первыми выходили гости. Кен Хэг, Чет Мэй и Фрэнк Басби поднимаются на мостик, за ними следует Эрвин Эберсолд и Дон Казимир, я замыкаю.
Мостик! Мы на мостике. На вольном воздухе. Ветер в лицо, соленые брызги… Нас встречают люди с «Приватира» и «Кук Инлета». «Ну, как?»… «Да вы прекрасно выглядите!» Пропускаю мимо ушей, это все суета.
Море, сколько хватает глаз – кругом море. Изрытое волнами, однако не буйное. Небо хмурится, но мы все равно видим, да-да, видим солнце, которое сопровождало нас на всем нашем пути.
Мезоскаф окружен целой флотилией. Ближе всех к нам наш добрый знакомый «Приватир»; чуть подальше – совершенно белый «Линч», его мы видим впервые; «Кук Инлет» – тоже белый, но в красную полоску, как все суда морских пограничников; вудсхолский «Атлантис II», который нарочно вернулся в этот район, чтобы встретить нас и предложить свою помощь, если понадобится. Несколько резиновых лодочек пробками прыгают на волнах, направляясь к нам. Слежение и навигация велись с такой точностью, что среди скопления судов «Бен Франклин» мог всплывать спокойно, не опасаясь столкновений. Оказывается, сегодня тут было еще одно судно – русский рыболовный траулер, занимающийся промыслом тунца или креветок. Может быть, он слышал наши переговоры и вежливо удалился?
Живо поднимаем на мостик багаж. К «Бену Франклину» причалена надувная лодка, и на это утлое суденышко грузят все наши записи, все документы – все, что нами сделано за месяц подводных исследований. Я предлагаю сделать хотя бы два рейса, чтобы, как говорит пословица, «не класть все яйца в одну корзину». В ответ мне весьма логично возражают, что «это удвоит риск потерять половину яиц».
Море волнуется, не без того, но моряки знают свое дело. Лодка подходит к «Куку Инлету», он делает пол-оборота на месте, чтобы защитить нас от ветра, и мы один за другим без труда поднимаемся на борт. Следом выгружают наше снаряжение; все сухое, ничего не потеряно.
Прием, оказанный нам на «Куке Инлете», заслуживает того, чтобы сказать о нем особо. Капитан Ричард Симмонс приветствует нас будто вельмож или адмиралов. Нам отводят лучшие каюты; команда охотно жертвует своими удобствами. Все стараются превзойти друг друга в любезности, эти добрые люди считают своим долгом обеспечить нам максимум удобств на те тридцать шесть часов, что мы проведем на судне. И надо признать, что этот переходный период между 732 часами дрейфа и ожидавшей нас на берегу горячкой был нам чрезвычайно полезен.
К тому же это были очень интересные часы, ведь «Кук Инлет» по сути дела океанографическое судно, плавучая метеостанция с радаром и шарами-зондами. Со скоростью 14 узлов мы устремились к Портленду в штате Мэн и прибыли туда под вечер 15 августа. Из Портленда самолет «Граммена» доставил нас в Беспейдж.
Тем временем «Бен Франклин», буксируемый «Приватиром», шел к Лонг-Айленду. Через неделю он уже был там; несколько дней ушло на чистку и контроль, затем «Приватир» снова взял мезоскаф на буксир и повел в Нью-Йорк. У подножия статуи Свободы участники экспедиции (на борту корабля морской пограничной охраны) и члены их семей вместе с фоторепортерами (на борту буксирного судна) встретили «Бена Франклина». Здесь экипаж перешел на мостик мезоскафа. Кроме «Приватира» нас сопровождали катер «Граммена», еще два буксирных судна и пожарное судно.
Внезапно над пожарным судном взметнулись могучие каскады воды – традиционное приветствие, которым Нью-Йорк встречает суда, возвращающиеся с победой. Четверть часа продолжался водный салют, потом «Бен Франклин» причалил к пристани и экспедиция закончилась официально.
64. Заключение
Шестьдесят пять лет отделяют изобретение батискафа доктором Огюстом Пикаром от исследования Гольфстрима на «Бене Франклине», но между первым погружением батискафа и нашей экспедицией прошло всего двадцать два года. Нелегко было преодолеть стену недоверия. Сколько сомнений, сколько сарказма сопровождало первые испытания! Однако нас с лихвой вознаграждает сознание того, что теперь больше сотни исследовательских подводных лодок трудятся в Мировом океане, сотни иллюминаторов всматриваются в толщу морей, десятки подводных лабораторий исподволь накапливают знания, от которых, быть может, зависит будущее человечества.
Великие и малые державы обратились к океанографии. Соединенные Штаты быстро вышли в первые ряды. Подводный флот США включает и атомные лодки, которые совершают кругосветные плавания, проходят под полярным паковым льдом, на несколько месяцев прощаясь с дневным светом, и совсем маленькие капсулы, которые оснащены множеством миниатюрных электронных приборов и которые вынуждены каждые три-четыре часа подниматься за воздухом. Между этими полюсами армада больших и малых судов из разных материалов, для разных глубин, на одного или на несколько наблюдателей. Одни предназначены для «чистого» исследования, другие – для первых промышленных начинаний, третьи – для таких целей, как спасание команд больших лодок, терпящих бедствие.
После второй мировой войны Франция, прислушавшись к голосу военных моряков и людей науки, подхватила и развила дело, начатое доктором Огюстом Пикаром. В частности, ФНРС-3 и «Архимед» участвовали в ряде ценнейших научных исследований в Средиземном море, в Атлантике, в Тихом океане. Подводные аппараты Жака-Ива Кусто все более успешно работают в большинстве морей земного шара, некоторые из них погружались даже в озерах Южной Америки. Результаты этих работ, вынесенные на телевизионный экран, показали миллионам зрителей во всем мире, как много значит океан для человека.
Япония, Советский Союз, Англия тоже располагают исследовательскими подводными лодками. Даже Швейцария, лежащая в 200 километрах от океана, увлеклась этой малоизученной областью. Как мы с вами видели, там родились не только батискаф «Триест», но и мезоскафы «Огюст Пикар» и «Бен Франклин»; все три аппарата потом были приобретены Соединенными Штатами. Швейцарский математик Ганс Келлер достиг выдающегося результата: применяя особую комбинацию газов и ускоренную декомпрессию, он погрузился с аквалангом на 300 метров.
Но хотя покорение океана отражает прогресс человечества, у этого прогресса есть и другие стороны. Стремительный прирост населения и повсеместное распространение техники чреваты серьезными опасностями, они угрожают экологическим системам, [84]84
Экологические системы – совместно функционирующие сообщества животных, растений и неживой окружающей среды. Экосистемы могут быть различных размеров, ими можно считать любую единицу, если в ней присутствуют ведущие и взаимодействующие компоненты, при которых создается хотя бы на короткое время функциональная стабильность (см. Е. Одум. Экология. М., «Просвещение», 1968; Питер Фарб. Популярная экология. М., «Мир», 1971).
[Закрыть]угрожают жизни на суше и на море. Чтобы техническое развитие и эксплуатация природных ресурсов были плодотворными, необходимо рассматривать весь мир как нечто единое, как одну сплошную экологическую систему. Земля с ее населением, приближающимся к 4 миллиардам, – маленькая автономная капсула, странствующая во Вселенной. Если мы хотим, чтобы она продолжала путь без аварий, надо держать Землю в чистоте, печься о том, чтобы она оставалась пригодной для жизни. В применении к океанам это значит, что мы должны думать не только о богатствах, которые сулит их эксплуатация, но и о том, чт о мы в них сбрасываем.
Приложение
Итоги экспедиции «Гольфстрим»
Когда писалась эта книга, вычислительные машины в Вашингтоне еще полным ходом обрабатывали наши магнитозаписи. Психологи НАСА еще анализировали 65 тысяч с лишним фотографий, снятых автоматическими камерами, которые обозревали внутренность «Вена Франклина». Океанографы еще ломали голову над разными моментами дрейфа. Почему нас один раз выбросило из течения? Почему только один раз? Чем вызываются внутренние волны? Что заставило меч-рыбу атаковать нас? Почему скорость Гольфстрима была не такой, как ожидалось?
На все эти вопросы со временем будет получен хотя бы частичный ответ. Что поделаешь, обработка научных данных подчас отнимает больше времени, чем сама экспедиция.
Технические итоги по «Бену Франклину»
Стабильность
На этом вопросе нет необходимости долго задерживаться. Примеров стабильности мезоскафа отмечено множество, он по нескольку дней зависал на одной глубине, только бы само море вело себя стабильно. А когда мезоскаф попадает во внутренние волны, он, естественно, подчиняется их вертикальным извивам, так же как идущему по горизонтали течению.
Коэффициент сжимаемости корпуса (35 X 10 -6см 2/кг) в сравнении с сжимаемостью воды в пройденном районе (50 X 10 -6см 2/кг) вполне удовлетворителен. Как мы предполагали, ниже 100–150 метров газ в аккумуляторных батареях заметно не влияет; обычный для умеренных глубин термоклин тоже способствует нейтрализации этого эффекта. Как правило, стабильность держалась на таком уровне, что данные измерения гравитации точно совпадали с кривыми, которые чертили на регистрирующем манометре внутренние волны.
Видимость
Когда мезоскаф стоял в гавани Палм-Бича, нам то и дело приходилось просить аквалангистов почистить иллюминаторы снаружи. А что будет во время долгого дрейфа? Мы даже обсуждали разные способы борьбы с этой проблемой (подводные очистители, специальная химическая защита, помощь аквалангистов с поверхности), но все это было мало реально, так что, если бы иллюминаторы стали обрастать, нам пришлось бы попросту всплывать и драить их. К нашему великому облегчению, за весь дрейф не появилось никаких ракушек. Может быть, давление виновато? Или температура? Или тот факт, что на глубине 200 метров мало света? Мы еще не знаем ответа. Однако стоило мезоскафу после дрейфа обосноваться в Нью-Йорке, как плексиглас начал быстро обрастать моллюсками. И ведь что удивительно: один биолог опознал в них вид, типичный для вод Флориды и совсем неизвестный в Нью-Йорке. Очевидно, они путешествовали с нами, но не спешили размножаться, пока не кончилась экспедиция.
Аккумуляторные батареи
Батареи тоже весь дрейф работали отменно. Правда, изоляция некоторых цепей могла быть лучше, и после плавания ее значительно усовершенствовали. Потери из-за дефектов изоляции были ничтожными, и ни одна из цепей не отказала. Учитывая новизну и относительную сложность системы, мы допускали возможность потери части элементов, а потому старались расходовать поменьше электричества, чтобы в крайнем случае продолжать дрейф с одной-двумя группами батарей.
Наша осторожность, которая оказалась излишней, помогла нам израсходовать только 52,1 процента имевшихся в нашем распоряжении 756 киловатт-часов. Даже немного жаль: более щедрое расходование электричества для наружных светильников, например, позволило бы нам сделать больше снимков. Но мы думали прежде всего о том, чтобы довести до конца экспедицию и выполнить поставленные научные задачи. Уровень потребления энергии всегда оставался ниже «предписанного», кроме случая, когда двигатели работали непрерывно пять часов, да и в тот день мы всего лишь использовали то, что сберегли за первые десять дней дрейфа.
Батареи, обслуживавшие двигатели, были израсходованы только на 44,6 процента полной мощности, другие аккумуляторы технической группы – на 64,1 процента, предназначенные для океанографических измерений – на 49,9 процента, для выполнения программы НАСА – на 80 процентов.
Двигатели
Мы много раз пускали двигатели, чтобы развернуть мезоскаф по течению над самым дном и обеспечить нужную функцию гайдропа. Все четыре двигателя слушались нас безотказно. Кроме того, моторы поработали несколько часов после того, как нас вынесло из главной струи Гольфстрима.
И в этом случае не было никаких заминок, двигатели доказали свою эффективность и высокую маневренность.
Навигационное обеспечение
Вся навигация производилась на главном обеспечивающем судне – «Приватире», который несколько раз в день сообщал нам по телефону наше местонахождение.
Основной проблемой для «Приватира» было поддерживать с нами акустический контакт и постоянно знать нашу глубину и направление относительно судна. Это достигалось в основном с помощью сигнализатора, который каждые две секунды излучал парный сигнал частотой 4 килогерца. «Приватир» следил за нами направленным гидрофоном, и различие в промежутке между двумя парными сигналами позволяло ему получить нужные данные о нашей глубине. Определить абсолютное расстояние помогал установленный на «Бене Франклине» ответчик, который работал на частоте 16 килогерц и отвечал на запросы «Приватира». Промежуток времени между подачей сигнала и ответом указывал на разделяющее нас расстояние. Эта система работала безотказно, лишь однажды в помощь ей пришлось обратиться к обычному подводному телефону. На «Бене Франклине» эти операции по большей части происходили автоматически, а вот людям «Приватира» приходилось весь месяц постоянно дежурить, и они безупречно справились с задачей. Точность этого метода, несомненно, способствовала успеху экспедиции.
Поскольку на поверхности течение, как правило, было несколько быстрее, чем на глубине, «Приватир» дрейфовал кормой вперед, пока не обгонял «Бена Франклина» на несколько сот метров. Затем он шел против течения, проходил над нами и в нескольких стах метрах за мезоскафом останавливался, после чего течение снова проносило его над «Беном Франклином». Так и проделал «Приватир» все плавание кормой вперед, то идя против течения, то дрейфуя с ним. 2800 километров задом наперед в Атлантике? Надо думать, это тоже был первый случай в истории.
Кроме того, поверхность должна была следить за главной струей течения, чтобы определять наше положение относительно центра Гольфстрима. Для этого судно военно-морской транспортной службы США «Линч» шло впереди «Бена Франклина», измеряя температуру воды на глубинах до 500 метров при помощи описанных выше разовых батитермографов. Исходя из того, что обычно максимальная скорость потока совпадает с наиболее высокими температурами, мы могли судить о своем местонахождении.
В ряде случаев точное положение Гольфстрима определялось «Эль Койотом», специально оборудованным самолетом.
Технические итоги по системе жизнеобеспечения
Внутренняя температура
Самая высокая температура на борту – 29 °C – держалась несколько часов 26 июля, когда мезоскаф буксировали по поверхности. Незадолго перед тем, после нескольких часов работы двигателей, температура на короткое время поднялась до 24 °C. Если не считать этих случаев, температура внутри аппарата, когда он стабильно зависал в воде, в основном держалась на 1,5 °C выше температуры забортной воды. На первом этапе плавания, когда мы дольше находились на сравнительно большой глубине, температура внутри аппарата колебалась между 20 °C и 11,7 °C, и мы зябли. На втором этапе внутренняя температура держалась около 19 °C – не тепло, но вполне терпимо. Однако для многодневной работы при температуре забортной воды от 0° до 10 °C надо либо предусмотреть защитную одежду, либо утеплить корпус мезоскафа, либо сделать и то и другое вместе.
Влажность
Благодаря изрядному запасу силикагеля мы надежно контролировали влажность с первого до последнего дня. Как правило, поглотитель позволял нам держать влажность в пределах 70–80 процентов. На графиках только пять или тесть точек превышают этот предел.
Силикагель лежал в небольших мешочках, а всего его было 1100 килограммов. К концу экспедиции осталось неизрасходованным около половины этого количества. При необходимости мы могли использовать силикагель более эффективно (мешочки поменьше, принудительная вентиляция), и то же количество поглотителя позволило бы снизить процент влажности, но нас устраивали 70–80 процентов. Такая влажность не причиняла ущерба ни экипажу, ни оборудованию.
Внутреннее давление
В целом внутреннее давление оставалось постоянным, равным давлению на уровне моря в момент начала экспедиции. Тем не менее колебания температуры и парциального давления кислорода и углекислого газа, а главное, небольшая утечка в одной из вспомогательных систем сжатого воздуха (обнаружив неисправность, мы потом очень скупо и осторожно пользовались этой системой) сказывались и на давлении. Максимальная прибавка равнялась давлению одного метра воды. Не будь утечки, это не играло бы никакой роли. Однако она могла бы привести к серьезным последствиям, если бы подводный дрейф продлился два или три месяца.
Углекислый газ
Поглощение выделяемого при дыхании углекислого газа осуществлялось пассивным способом – пластинами с гидроокисью лития (LiOH). Эти пластины, в количества двенадцати штук, мы сменяли, как только уровень углекислоты в атмосфере достигал заранее установленного предела – 1,5 процента. Практически это происходило каждые три дня. Всего было израсходовано 120 пластин, иначе говоря, около 400 килограммов щелочи, при эффективности 75 процентов. Как и в случае с силикагелем, более рациональное использование пластин могло повысить их эффективность и позволило бы при необходимости, не увеличивая расхода поглотителя, еще больше снизить процент углекислоты. Я посоветовал бы в других экспедициях такого рода держать уровень углекислого газа в пределах одного процента. При 1,5 процента затрудняется дыхание, появляется легкая одышка, особенно когда напряженно работаешь.
В нашей экспедиции воздух внутри мезоскафа все время был хороший.
Кислород
Кислород для дыхания подавался двумя баллонами с полной термоизоляцией; в каждом было по 125 литров жидкого кислорода. Скорость его испарения регулировалась автоматически или вручную. На практике мы предпочитали второй способ, сберегая электроэнергию. Процент кислорода держался в пределах от 19,5 до 22 процентов, в среднем – 20,9 процента; это нормально при естественных условиях. Уровень обмена был умеренный, но вполне достаточный: 2200 килокалорий на человека в день.
Вредные примеси
В лаборатории с шестью сотрудниками при замкнутом цикле в воздухе вполне могут появиться более или менее вредные или неприятные примеси. У нас на борту были надежные средства, чтобы обнаружить наличие и процент всевозможных ядовитых газов. Ежедневно аппаратом Дрегера определялось содержание NH 3, СО, H 2S и SO 2, раз в неделю воздух проверяли еще на 28 соединений.
Были обнаружены три вредные примеси:
1. Окись углерода. Ее содержание в нашей атмосфере возросло от 8 миллионных в первый день до 40 миллионных в конце плавания. Цифры превышают расчетный процент, однако не выходят за пределы безопасного состояния атмосферы; впрочем, для подобной обстановки пределы пока точно не установлены. Мы пытались окислить угарный газ в углекислый (который мог быть легко поглощен), но предназначенный для этого аппарат не оправдал себя, вероятно из-за относительно высокой влажности. Часть окиси углерода выделялась нами при дыхании. Возможно, в остальном источником СО были некоторые пластики (в частности, электроизоляция), самопроизвольно выделяющие этот газ в небольших количествах.
2. Гидразин – в количестве 0,2 миллионных.
3. Ацетон – в количестве 200 миллионных.
Нам не удалось выяснить, откуда на борту взялись два последних соединения, и не исключено, что на самом деле такую реакцию наших детекторов вызвали другие вещества. Процент этих примесей во все время измерений (между восьмым и двадцать шестым днем) оставался постоянным.
Пища
В основном наша провизия состояла из обезвоженных концентратов, которые мы «восстанавливали» горячей водой.
Однако по-настоящему горячей воды было очень мало, и к тому нее такой стол ужасно однообразен. Конечно, мы как добровольцы были готовы терпеть всякие лишения. Но даже сознание того, что число калорий и количество витаминов и белка тщательно рассчитано заранее, не могло заставить нас забыть о нормальной пище. Кроме концентратов у нас были консервы, они большинству из нас пришлись по вкусу.
По-моему, ничто не может заменить доброй натуральной пищи, а потому я ел по преимуществу сухофрукты и своего рода лепешки из фиников, фиг, чернослива, изюма, абрикосов, каянуса, миндаля, бразильского и кокосового орехов – отличная, очень питательная смесь. Превосходным дополнением к этому меню служило несколько столовых ложек семячек подсолнуха, тыквенных семячек и соевых бобов. Такой стол меня вполне устраивал: благодаря ему и чистому воздуху я с первого до последнего дня был совершенно здоров (если не считать упомянутой простуды). Тем не менее большинство из нас за месяц под водой потеряло в весе.
Некоторые из нас регулярно ели особым образом приготовленные водоросли в капсулах. Эти капсулы, выпускаемые Научно-исследовательским институтом Атлантики и Тихого океана (Норс-Палм-Бич, Флорида), содержат смесь порошка из двадцати одной разновидности водорослей, призванной воздействовать на активность микроорганизмов в пищеварительном тракте, чтобы организм более полно и равномерно усваивал пищу. Упомянутые водоросли, в том числе Laminaria cloustoni, Laminaria digitata, Fucus serratas и Ascophylum nodosum, были собраны на атлантическом побережье Ирландии. Готовая смесь широко продается уже во многих странах.
Питьевая вода
У нас была холодная и горячая вода. Четыре больших бака горячей воды были рассчитаны на всю экспедицию. На самом деле только один бак (около 250 литров) имел безупречную теплоизоляцию. Нарушение вакуума других баков было обнаружено до старта, но вовремя устранить его не удалось. Вода в четырех баках подогревалась в гавани электрическим током почти до ста градусов, что обеспечивало полную стерилизацию. Химикалии не применялись, тем не менее вода весь месяц оставалась хорошей, свободной от бактерий и пригодной для питья. В последние десять дней мы иногда подогревали немного воды током от аккумуляторных батарей; совсем немного, потому что мы берегли электроэнергию.
Было также четыре бака холодной воды, то есть около 1000 литров. Она была дезинфицирована на старте йодом (7–8 миллионных), что делало ее практически непригодной для питья из-за сильного привкуса. К тому же йод оказался недостаточной защитой: уже через несколько дней после старта появились бактерии (из рода Pseudomonas) – вторая весьма уважительная причина, чтобы не пить эту воду. Но умываться ею мы продолжали, поэтому бактерии были обнаружены в пробах, взятых с нашей кожи; однако серьезных неприятностей они нам не причиняли.
Океанографические наблюдения
Пожалуй, наиболее весомый результат всей экспедиции – совершенствование нового метода исследований и наблюдений в океане. Прежде крупные океанографические экспедиции могли оперировать только с поверхности, а это влекло за собой много неудобств и ограничений: зависимость от плохой погоды, относительная неустойчивость судов, а следовательно, и приборов, работа на расстоянии и вслепую.
Впервые отряд наблюдателей, находясь месяц под водой, провел без помех множество наблюдений на пути в 2800 километров. «Бен Франклин» был оснащен почти так же, как океанографическое судно, ка борту имелись практически все измерительные приборы, применяемые на таких судах. Живя так долго в толще моря, мы смогли узнать его ближе, чем когда-либо. Наблюдение флоры и фауны облегчалось тем, что мезоскаф дрейфовал со скоростью самой воды. Дрейф над грунтом с помощью гайдропа, который доктор Огюст Пикар впервые применил двадцать лет назад на первом батискафе, позволил наблюдать морское дно на большой площади.
Так как наши наблюдения дополнялись обычными, которые производило океанографическое судно военно-морских сил США «Линч», экспедиция в целом представила обширную информацию о данном участке Гольфстрима.
Среди главных наблюдений три несколько озадачили нас: скорость течения, единичное изгнание из Гольфстрима, амплитуда внутренних волн. Мы проделали множество визуальных наблюдений, но эти наблюдения можно толковать по-разному, поэтому их дополняли точные данные, собираемые автоматическими измерительными приборами. Большинство таких измерений было возложено на американские ВМС, представленные у нас на борту двумя океанографами – Фрэнком Басби и Кеном Хэгом. Результаты и выводы будут опубликованы Научно-исследовательским центром ВМС. Здесь мы только охарактеризуем приборы и их назначение.
Скорость течения
В первой части экспедиции скорость течения была ниже ожидаемой, во второй – выше.
Обратите внимание: речь идет не о Гольфстриме в целом, а о струе, в которой мы шли. На первом этапе мы пять раз ходили к грунту, однако ни разу не погружались по-настоящему глубоко. Очевидно, что около дна течение заметно тормозится трением о грунт. А в районе мыса Хаттерас, где глубины больше, течение на горизонтах, которых мы держались, могло набрать сравнительно высокую скорость.
Так, в районе Палм-Бича, на глубине 570 метров, мы отмечали над дном лишь очень слабое течение, которое к тому же временами шло на юг и не оставляло ряби на грунте. Несколько севернее, в районе Саванны (штат Джорджия), на глубине 540 метров скорость течения над грунтом достигала 1,9 узла; мы воспользовались им, чтобы час дрейфовать, «руля» гайдропом. Я уже говорил, что к северо-востоку от Хаттераса на глубине 500 метров мы несколько часов шли в течении со скоростью 3 узлов. В этом месте до дна была не одна тысяча метров.
Изгнание из Гольфстрима
Это событие, описанное в тексте, произошло на одиннадцатый день экспедиции. Чем оно было вызвано и почему течение исторгло нас только один раз – до конца не выяснено. Завихрения Гольфстрима сами по себе хорошо известны, однако никто не знает точно, чем они вызываются; во всяком случае они не поддаются прогнозированию. Нам наиболее вероятным представляется объяснение, которое предложили океанографы ВМС, в частности Майк Костин; кстати, после быстрого поиска на расстоянии почти 280 километров они снова нашли Гольфстрим и вернули нас в его центр.
К сожалению, «Линч» вынужден был покинуть район работ для захода в порт, поэтому его работа прервалась на два дня. Как только судно вернулось на свой пост, наблюдатели установили, что «Бен Франклин» не двигается и явно очутился за пределами главной струи. Тотчас океанографы ВМС приступили к поиску, сбросили десятки батитермографов и провели множество замеров глубины. Вскоре течение было найдено, но лишь много позже, когда изучили все данные, удалось восстановить происшедшее. К юго-востоку от критического района течение проходило вблизи небольшого подводного хребта. Главный поток Гольфстрима обошел его справа (с востока), а небольшая струя свернула от хребта влево. Поскольку мы шли вдоль левой окраины Гольфстрима, нас и захватила ветвь, которая затем вовсе отделилась от главного потока. Мы отклонились всего на 55 километров.
Словом, наша экспедиция ярко подтвердила зависимость течений от геологии дна. Проследив наш маршрут на батиметрической карте, легко убедиться, как сильно влияет на течение характер дна. Возможно, что Гольфстрим, увлекая нас на юго-восток между двадцать первым и двадцать седьмым днем экспедиции, попросту огибал горы Келвин, которые всего на 200 метров не доходят до поверхности. На двадцать седьмой день мы снова пошли прямо на север, очевидно потому, что течению надо было пройти между горами Келвин и Пабло – вторым важным подводным массивом в этом районе. Тут материала хватит на целую научную работу.
Внутренние волны
Это явление известно и изучается давно. Предложено несколько объяснений. Вероятно, нельзя рассматривать море как однородную среду; мы имеем дело с чередованием слоев разной плотности. Каждый такой слой можно рассматривать как поверхность моря или участка моря; подобно истинной поверхности она может быть гладкой или неровной. Это явление существует и в атмосфере. Понятно, на границе между водным бассейном и атмосферой оно выражено ярче. Работая на батискафе, я уже встречал внутренние волны, но стабильность мезоскафа делала его идеальной площадкой для изучения этого феномена. Никогда прежде я не наблюдал внутренних волн такой амплитуды. Анализ соотношения между плотностью воды и ее температурой, с одной стороны, и амплитудой и частотой волн – с другой, несомненно, поможет океанографам получить новую, более точную информацию об этом предмете, который обычно с трудом поддается наблюдению.