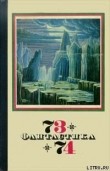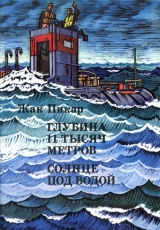
Текст книги "Глубина 11 тысяч метров. Солнце под водой"
Автор книги: Жак Пикар
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 33 страниц)
51. Национальный праздник
Сегодня 1 августа – национальный праздник Швейцарии. Два швейцарских члена экипажа, Эрвин Эберсолд и я, должны как-то отметить этот день. Как именно? Разумеется костром! Этого требует традиция, которая приобрела почти что силу закона. Августовские костры, вошедшие в обычай в Швейцарии с 1891 года, в день шестисотлетия Гельветской конфедерации, напоминают о сигнальных кострах, сыгравших роль тайных радиопередатчиков, когда народ поднялся против иноземных угнетателей. Было это в начале августа 1291 года, и восстание увенчалось победой, так что у нас есть основание праздновать эту дату. В истории, как и во всем остальном, только успехи в счет.
Но как исполнить наш ритуал? Казимира при одной мысли о костре кинет в дрожь, и поверхность, конечно же, наложит свое вето. И все же мы придумали способ. Ведь традиция не требует, чтобы непременно был большой костер на вольном воздухе: лишь бы горел огонь. А так как традиция сродни приказу, Казимир, к моей радости – я бы даже сказал, к великому удивлению, – по существу не возражает.
Торжественно вывешиваем швейцарский, американский и английский флаги, после чего мы с Эрвином зажигаем спичку. Маленький огонек пляшет, озадаченный тем, что кругом вода, и тем, что стал предметом такого внимания, пляшет несколько секунд, потом гаснет. Костер состоялся.
В истории нашего дня независимости это, наверно, был первый праздничный костер на глубине 200 метров, посреди Гольфстрима. Каз сообщает на поверхность, что по случаю швейцарского национального праздника «Жак и Эрвин занимались пиротехникой». Это звучит настолько неправдоподобно, что поверхность воспринимает его слова как шутку. Передаем также послание президенту Швейцарской конфедерации и получаем теплый ответ. Это очень приятно.
Сколько угарного газа произвела наша спичка? Ничтожное количество. Но вообще-то проблема угарного газа понемногу становится актуальной. 24 июля в нашей атмосфере было десять миллионных долей окиси углерода (итого около одного грамма). Вчера вечером было уже вдвое больше; если так пойдет и дальше, мы рискуем превысить допустимый предел. В отличие от углекислого газа, выделяемого человеком при дыхании, угарный газ не возвещает заблаговременно головной болью о своем присутствии. И он соединяется с гемоглобином крови, который реагирует с окисью углерода энергичнее, чем с кислородом. А ведь задача гемоглобина – разносить по тканям организма кислород; когда же он оказывается связанным, кровь не может выполнять одну из своих главных функций. Ткани начинают погибать, а жертва подчас и не подозревает об этом.
Вот почему так важно регулярно измерять процент окиси углерода в нашей атмосфере.
Откуда этот газ? Врачи говорили мне, что он обычно выделяется в очень малых количествах вместе с углекислым газом при дыхании, но, изучая этот вопрос, я понял, что в наших условиях такими пропорциями можно пренебречь. Видимо, на борту есть еще какой-то источник. По мнению специалистов, такими источниками могут быть некоторые пластики, например изоляция на электропроводах.
На всякий случай испытываем взятый нами с собой дегазатор – аппарат, который «сжигает» окись углерода и превращает ее в углекислый газ, в свою очередь поглощаемый гидроокисью лития. Придирчивый анализ нашей атмосферы до и после этого эксперимента показывает, что аппарат ничегошеньки не сжег. (Позже мы узнали, что он действует только в сухой атмосфере, при относительной влажности не больше 50 процентов, у нас же в тот день было около 70 процентов.)
Вечером море щедро услаждает наш слух замечательным концертом дельфинов – это взамен одетых в народные костюмы хоров, которые поют на площадях городов и сел Швейцарии. Жаль только, что мы не видим исполнителей. Мне кажется, что я, кроме того, слышу «лай» китов; вполне вероятный случай, если учесть последующее сообщение поверхности, что как раз в это время наблюдался кит.
52. Связь в действии
Этот кит вызовет немало толков. «Приватир» передает на берег, что замечен кит. Берег не понимает. «Приватир» повторяет радиограмму. Слово «кит» (по-английски whale произносится «вэйл») искажается в эфире, и берегу слышится «волна» (wave, произносится «вэйв»).
«Приватир» пытается объяснить:
– Да нет же, кит, ну такая большая черная рыбина, понятно?
Объяснение доходит, печать сообщает, что команда мезоскафа видела в Гольфстриме огромную черную рыбину, и нам опять же предстоит без конца писать опровержения. Странно: можно разговаривать с людьми на Луне, у которых совсем маленькие, архилегкие передатчики. А в переговорах между «Приватиром», не знающим никаких весовых ограничений, и берегом, к услугам которого любые приемники, радио то и дело выкидывает вот такие штуки.
Разумеется, называть кита рыбой неверно, но вообще-то ошибка простительная. Герман Мелвилл, автор «Моби Дика» и большой знаток китов, сам нередко употреблял зто слово. Больше того, по-английски некоторые виды мелких китов называют «блекфиш» (черная рыба – речь идет о гринде), хотя всем известно, что киты – млекопитающие.
В этот же день (1 августа) отправляем на поверхность плексигласовый шар, в который помещено несколько донесений и образцы бактерий для доктора Джессепа, работающего на «Приватире». Слышим снизу, как «Приватир» маневрирует, чтобы выловить шар взятым для этой цели сачком с длинной ручкой. Шар легко обнаружить благодаря мигалке, которую мы получили от флоридского специалиста Дмитрия Ребикоффа. Эта мигалка позволяет и нам проследить через верхний иллюминатор, как шар идет вверх. Он поднимается вертикально, пока не пропадает в толще воды. Значит, скорость течения на отметках 160 и около 100 метров практически равна. Кстати, у нас сейчас, можно сказать, совсем неплохой ход, несколько больше 2 узлов; это выше средней скорости дрейфа перед тем, как Гольфстрим «выдворил» мезоскаф у берегов Южной Каролины. И что еще важнее, курс благоприятный, мы лишь немного отклонились к востоку от среднегодовых координат главного потока Гольфстрима.
В основном все идет хорошо, никаких затруднений. Проходит два-три дня, и наше изгнание из Гольфстрима на прошлой неделе уже представляется нам заурядным происшествием. К системе жизнеобеспечения существенных претензий нет (если не придираться к наличию бактерий и окиси углерода). Стоит ли удивляться тому, что мы совершенно здоровы и можем без помех продолжать работу, следуя курсом, который нам предписывает Гольфстрим? По-моему, вернее будет восхищаться современной техникой, которая позволяет людям пройти за месяц 2500 километров под водой, не испытывая никаких неудобств.
2 августа. Во второй половине дня «Линч» снова определяет наше местонахождение по отношению к Гольфстриму. Превосходно: 20 километров к северо-западу от центра и 20 километров к юго-востоку от северо-западной границы Гольфстрима, которую принято называть «северной стеной».
53. «Анна» угрожает
В 19.00 – сюрприз, да еще какой! Нанося на карту наше местонахождение и сопоставляя его с предыдущим, обнаруживаем, что мы развили скорость 5 узлов. Даже со скидкой на возможные неточности в показаниях системы «Лоран» наша скорость минимум 4 узла, а прежде была всего 2. Не верится… А почему? Ведь Вудсхолский институт заранее рассчитал, учитывая разброс температур, давление и другие факторы, что в этом районе в принципе возможны скорости и в 5, и в 6 узлов. До сих пор, насколько нам известно, на деле еще никто не наблюдал таких скоростей. Ладно, поглядим, надолго ли это. И понятно, мы все с нетерпением ждем очередные данные с поверхности о нашем местонахождении.
Скорость может стать для нас фактором первостепенной важности: сегодня нам сообщили о зарождении первого в сезоне тропического шторма – урагана, получившего имя Анна. Так уж заведено давать ураганам женские имена в алфавитном порядке, поэтому первый в сезоне должен начинаться на «А». Сейчас «Анна» в 150 километрах к юго-западу от нас, как раз там, где мы огибали мыс Хаттерас. Верно ли называть зловещим словом «ураган» явление природы, которое в любом другом месте земного шара скорее всего отнесли бы к разряду штормов?.. С другой стороны, море у Хаттераса знаменито своими бурями. Жюль Верн в романе «Двадцать тысяч лье под водой» называет этот район родиной смерчей и циклонов, вызываемых к жизни течением Гольфстрим.
Теперь все зависит от того, как поведет себя «Анна». Теоретически наиболее вероятный путь ее следования совпадает с нашим курсом. Почерпнув энергию в теплых водах Гольфстрима, «Анна» способна настичь нас, и, если мощь ее при этом возрастет, она может представить нешуточную угрозу для «Приватира». Что тогда? Если «Приватир» будет вынужден искать укрытия, нам придется всплывать и уходить вместе с ним, потому что штаб ВМС и «Граммен» не согласятся оставить нас одних в такой ситуации. Но, ведя «Бена Франклина» на буксире, «Приватир» в шторм окажется связанным по рукам и ногам. Значит, уходить надо прежде, чем на нас обрушится ураган. А так как никто не уверен на 100 процентов, когда именно он нас догонит и пойдет ли вообще этим путем, трудно решить, в какой момент «Приватиру» и «Бену Франклину» следует покинуть эту зону. Вообще-то, учитывая быстроту, с какой обычно перемещаются «Анна» и ее сестры, вернее всего улепетывать сразу же, как только ураган войдет в наш район. Да только никто не знает, что подразумевать под «нашим районом». Перед стартом было попросту записано, что мы должны всплывать в случае приближения урагана. Можно ли считать, что «Анна» приблизилась? Никто не берется ответить на этот вопрос. Она родилась, она жива, она угрожает, но мы не можем прийти к логическому решению, а потому продолжаем дрейф. Тем более что угроза хотя и существует, пока что не представляется нам смертельной.
На следующий день, в воскресенье, снова определяем нашу скорость. Вчера между 7.00 и 19.00 она составляла в среднем 2,5 узла. За ночь возросла до 2,85 узла. Это меньше нашего максимума, но заметно выше средней скорости за все время. Об «Анне» ничего нового не слышно. Тем лучше, особенно для «Приватира». Скорость ветра, как сообщают с поверхности, в пределах 40 узлов – изрядная величина, а степень волнения моря – 4 балла. Но эти данные противоречат шкале Бофорта, по которой 40 узлов («Очень крепкий ветер») соответствуют волнению в 8 баллов. Известно, что степень волнения моря определить не так уж просто. В данном случае, сдается мне, цифра «40 узлов» была взята из радиопрогноза, а скорость ветра на поверхности, если волнение в самом деле держалось в пределах 4 баллов, не превышала 16 узлов.
Не завидую тем, кто плавает на поверхности. Насколько лучше провести этот месяц под водой! Да, вот вам и еще одно подтверждение преимуществ подводной лодки перед надводными океанографическими судами. А может быть, настанет время, и все грузовые суда, трансатлантические лайнеры, танкеры станут подводными? Ведь какой выигрыш это даст: регулярность рейсов, комфорт, скорость, а главное – безопасность.
Кстати о поверхности. Нам только что передали, что Тур Хейердал, который вышел в дрейф на лодке-плоту в Северное экваториальное течение, чтобы доказать возможность миграции древних из Африки в Южную Америку, почти дошел до цели. Его «Ра» целиком сделана из материалов, которые можно было раздобыть в Египте три тысячи лет назад. Правда, под конец шторм разбил лодку; тем не менее Хейердал сумел показать, что при некотором везении древние мореплаватели из Африки вполне могли дойти до Америки. Я с удовольствием пересек бы Атлантику, и Хейердала взял бы с собой – только на подводной лодке.
Взрывы, производимые «Линчем», создают поразительные акустические эффекты. Сейчас под нами огромная толща воды – 4 тысячи метров, и эхо, отражаясь от разных подводных долин, над которыми мы, очевидно, проходим, длится около 20 секунд; за это время звук покрывает больше 30 километров. Под вечер откуда-то издалека доносятся глухие взрывы – то ли другие исследователи трудятся, то ли идут строительные работы в десятках, а может быть, и сотнях километрах от нас.
Когда акустические волны распространяются по так называемым подводным звуковым каналам, образуемым слоями воды разной плотности, они могут пройти тысячи километров, пересечь целый океан. Установлено, например, что взрыв килограммового заряда на Гавайских островах можно зарегистрировать в Калифорнии. И если мы сейчас находимся в таком канале, отдаленные взрывы, которые мы слышим, могли дойти до нас не только от США, но и от берегов Африки или Европы.
54. Сальпа в плену
Часть воскресенья уходит у нас с Доном Казимиром на то, чтобы разобрать насос планктонной ловушки. Не знаю, станет ли она работать лучше, но теперь я хоть уверен в ее исправности, а раньше сомневался. Включаю на сорок пять минут наружный светильник мощностью 250 ватт, расположенный у самого конца трубки, и в 22.00 делаю новую попытку что-либо поймать, стараясь не замечать иронических улыбок некоторых товарищей. Правая рука орудует насосом, левая держит яркий фонарь, освещающий одно из окошек ловушки, а через другое окошко я слежу, что получится. На сей раз отчетливо вижу, как вода устремляется в трубку… За иллюминатором копошится всякая мелюзга – в таких условиях промахнуться просто невозможно. Внимание, в ловушку попала сальпа! Немедленно отпускаю насос и запираю оба клапана; теперь сальпа заточена в центральной камере.
Вот так-то! Теперь мой черед улыбаться. Приглашаю всех, кто не спит и не занят работой, посмотреть на пленницу. До чего же это здорово, когда можно рассматривать одного из наших маленьких друзей, так сказать, в упор, не причиняя ему ни малейшего вреда. А сальпа явно и не подозревает, что попала в плен. Плавает внутри камеры от окошка к окошку, дышит, раздувается, опять сжимается, резвится – совсем как в океане. И все это в нескольких сантиметрах от нас. Убедительное свидетельство, что система работает. Даже Фрэнк больше не сомневается. Отправляю радиограмму в Вудсхолский институт доктору Фаю – ведь это он на научном совещании во Флориде высказал предложение сконструировать такую ловушку.
На следующий день, 4 августа, неожиданно слышим в телефоне голос Дона Террана, первого представителя «Граммена», который специально приезжал в Швейцарию, чтобы помогать нам ценными советами, и чрезвычайно пристально следил за всем ходом строительства мезоскафа. Он сел на «Линч», когда тот заходил в порт пополнять запасы, и теперь перешел на «Приватир». Я особенно рад этому гостю, ведь никто из инженеров «Граммена» не знает «Бена Франклина» так хорошо, как он. Уж мы воспользуемся случаем обсудить кое-какие технические проблемы, обладая подводным телефоном.
Всех поражает наша нынешняя скорость, а также то, как хорошо мы «держим равнение» в Гольфстриме. Сейчас мы развиваем 3,2 узла. Мезоскаф удалился от берега больше, чем в какой-либо из предыдущих дней; мы идем прямо на полуостров Новая Шотландия, снова приближаясь к «среднестатическому курсу» Гольфстрима. Мы ушли так далеко в море, что не знаем даже, в каком порту закончится наше плавание. Вашингтонец Фрэнк Басби надеется, что это будет Норфолк у входа в Чезапикский залив; оттуда всего ближе до его конторы. Казимир предпочитает Нью-Лондон, где он учился, или на худой конец Нью-Йорк, где его ждет семья. Кен замахивается дальше и с серьезным видом предлагает высадиться в Лондоне, в Англии. Ну а мне больше всего по душе Бостон, меридиан этого города мы только что прошли. Бостон – родина Франклина. Однако впереди еще десять дней, и никто не ведает, где мы будем в конце этого срока.
Жизнь на борту идет своим чередом. Большие проблемы, маленькие загадки… Например, сегодня между 10.00 и 15.00 при неизменной глубине (152 метра) температура поднялась с 18,75 градусов до 19,14 °C. Отчего это при постоянной глубине возросла температура?.. Очевидно, мезоскаф немного нагреется и с некоторым опозданием из-за инерции поднимется на несколько метров, когда вода опять станет холоднее, а почему температура изменялась, мы так и не узнаем. Да, сюда бы нашу вычислительную машину…
Еще одно странное явление – вращение мезоскафа вокруг вертикальной оси. Чаще всего он идет рубкой назад, однако иногда его разворачивает в горизонтальной плоскости на 180 градусов в ту или иную сторону. Бывает и так, что аппарат делает полный оборот. Если мы верно считали, с начала экспедиции накопилось уже восемь таких оборотов.
Скорость держится на том же уровне; 5 августа в 01.00 записываем, что последние двадцать четыре часа шли со средней скоростью 3 узла. Мы заметно продвинулись на север, и наш курс почти точно совпадает со «среднестатическим курсом» Гольфстрима на это время года. По данным «Линча», ширина Гольфстрима в этом месте больше 100 километров.
55. Встреча с тунцами
С самого начала экспедиции я надеялся, больше того, считал чуть ли не само собой разумеющимся, что вокруг нас, как это часто бывает с дрейфующими надводными судами, постоянно будут ходить косяки рыбы. Мы даже обсуждали, как поступить, если рыбы окажется так много, что она заслонит нам иллюминаторы, – другими словами, если мы из-за деревьев не увидим леса. Такая оказия едва не приключилась с «Огюстом Пикаром». Стоило ему несколько дней простоять в надводном положении в порту Види (Лозанна), и вокруг мезоскафа скопилось такое количество мелких рыбешек, что внутри аппарата стало совсем темно, а некоторые иллюминаторы будто ставнями закрыли. Мне советовали, если этот случай повторится в Гольфстриме, отгонять рыбу фотовспышками, так как большинство рыб не любит резких перемен в освещении. Однако до сих пор нам не везло, мы не видели ни одного косяка, только единичных рыб, да и то изредка.
И вот наконец сегодня, 5 августа, на глубине 200 метров, чуть выше нас, идет превосходный косяк крупной рыбы. Нам не сразу удается ее опознать – косяк то приблизится, то отойдет, потом снова приблизится. Он будет сопровождать нас около полутора суток. Во всяком случае мы считаем, что это один и тот же косяк, хотя на самом деле это могут быть разные косяки, похожие друг на друга. Каждый раз, когда рыба подходит поближе, стремимся рассмотреть какие-нибудь детали, чтобы определить ее. И наконец, приходим к выводу, что это, несомненно, тунцы, скорее всего синие тунцы (Thunnus thynnus), которых французы называют «красными». Спина у них синяя, а брюхо светлое; полагают, что это хорошо для маскировки: врагу, атакующему сверху, трудно различать их на темном фоне глубин, атакующему снизу – на светлом фоне поверхности.
Однако специалист из Океанографического центра в Париже Филипп Серен, когда мы после дрейфа показали ему фотографии, опознал по длинным плавникам Thunnus alalunga; этот тунец известен во Франции под названием белого, а в Англии – длинноперого. Многие виды тунцов, особенно красный, белый, тропический и альбакор, до того схожи между собой, что их бывает трудно различить. Представители семейства скумбриевых, тунцы – близкие родичи макрели, меч-рыбы, бониты и великолепного парусника.
Интересно, что тунцы – так утверждают некоторые авторы – встречаются только в водах с температурами от 14 до 24 °C и соленостью 35 промилле. Кровь их на восемь градусов теплее окружающей воды, и в этом, несомненно, одна из причин неистощимой энергии тунцов.
Смотрим на термометр. 18, 13 °C – вполне подходит для тунцов. Передо мной нет точных данных о солености, но я и без того знаю, что здесь она приближается к 35 промилле.
Изящные крупные рыбины длиной полметра-метр (а некоторые и больше) стремительно ходят вокруг мезоскафа то совсем рядом, то метрах в десяти-двадцати над нами. Мы наблюдаем их через все иллюминаторы по очереди. Непохоже, чтобы свет их притягивал, во всяком случае не так, как планктон, но порой на них находит какое-то возбуждение. Совпадает ли это с моментами, когда мы включаем или выключаем светильники? Мы в этом не уверены.
Вдруг все члены экипажа устремляются к иллюминаторам, крича друг другу:
– Гляди, прямо на нас идут!
Щелкают камеры, да что толку – тунцы плывут слишком быстро, никак фокус не наведешь.
Когда мы решили продуть одну из уравнительных цистерн и над мезоскафом поднялся столб воздушных пузырьков, Эрвин увидел, как весь косяк стремительно нырнул в этот «фонтан» и долго упивался «купанием» в «лечебной ванне».
Кажется, первое описание белого тунца принадлежит одному из великих энциклопедистов – аббату Боннатерру, который опубликовал свои наблюдения в 1788 году. Позже было установлено, что тунцы подобно угрям предпочитают размножаться в Саргассовом море. Куда они направляются из этого района? Тунцов встречают буквально по всей Атлантике, особенно в экваториальном поясе, но холодной воды они избегают. Может быть, этот косяк длинноперых тунцов по примеру своих сородичей Thunnus thynnus вознамерился пересечь океан и решил воспользоваться Гольфстримом, чтобы ускорить движение? На пути от Америки до Европы они могли таким способом выиграть не один день. Вот только одно неясно: к чему им спешить?..
Для нас встреча с тунцами была большим событием. И она говорит о том, что возможности рыболовного промысла не исчерпаны. Насколько мне известно, еще никто не наблюдал косяки тунцов, так сказать, снизу, из глубины. Не у кого не было случая всерьез изучать их поведение, реакции, стадный образ жизни, скорость. За всем этим очень удобно следить через иллюминаторы мезоскафа. А пока что глубоководный лов рыбы, в частности тунцов, ведется примитивными эмпирическими методами.
Многие исследовательские лаборатории мечтают разработать с помощью подводных лодок более рациональные способы лова. Но специализированная подводная лодка – штука дорогая, а мало кто по-настоящему понимает, какую пользу она может принести, какой выигрыш сулит. Вот мы сутки, даже больше на досуге, со всеми удобствами наблюдаем через иллюминаторы тунцов. Как жаль, что нет с нами рыбака или настоящего ихтиолога…
Статистика сообщает, что в 1968 году во всем мире было выловлено 60 миллионов тонн рыбы. Известно, что только за счет рационализации лова можно по меньшей мере утроить эту цифру – без риска превзойти предел, начертанный природой, то есть не опасаясь подвергнуть угрозе существование тех или иных видов.