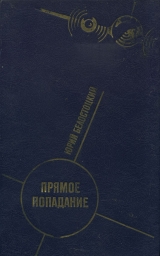
Текст книги "Прямое попадание"
Автор книги: Юрий Белостоцкий
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 26 страниц)
Прямое попадание
I
Первый самолет, посланный на разведку, вернулся ни с чем – помешали облака.
Второй привез с полсотни пробоин в плоскостях и фюзеляже и мертвое тело стрелка-радиста.
Помрачнел майор Русаков и спину согнул, даже позвонки под гимнастеркой обозначились – давно такого в полку не было. И долго так стоял майор Русаков, не зная, как быть: вот уж действительно, где тонко, там и рвется. Правда, война есть война, а на войне еще и не такое бывает, так что майор Русаков умел смотреть смерти в глаза. Но вот беда, высокое командование над тобой: ему-то что скажешь, ему что ответишь? Не повезло? Но командованию нужны не объяснения, командованию нужны новые разведывательные данные об этом проклятом аэродроме, что давно уже сидел у всех в печенках. Причем нужны срочно, самое позднее – к концу сегодняшнего дня: видать, готовился удар. Не зря же тут у них в полку вот уже второй день кряду торчит сам начальник разведки воздушной армии, ни на шаг от майора Русакова не отходит, все поторапливает, да еще как бы ненароком дает понять, что в данных об этом аэродроме заинтересован лично командующий воздушной армией, от него, дескать, и приказ. А их, этих данных, все нет, хотя два вылета уже сделаны и одного человека в полку как не бывало.
Вот майор Русаков и хмурил свой крутой, иссеченный неровными морщинами, лоб и спину гнул еще ниже. И долго так стоял он посреди стоянки на виду у всех, не замечая, что дождь, исподволь собиравшийся с утра, начал наконец накрапывать и надо бы укрыться под крыло ближайшего самолета или хотя бы сложить планшет с картой, который майор машинально держал раскрытым в руках.
Притихли и летчики с техниками, реденько стоявшие вокруг майора, тоже были хмуры лицами, тоже не шевелились, чтобы не мешать майору и не встретиться с ним взглядом. Необычный был сейчас у майора Русакова взгляд, с налетом окалины, точно после ожога, верный признак того, что невмоготу сейчас майору Русакову и майор может не сдержаться и на первом же, кто подвернется под руку, сорвать злость.
Но майор вовсе и не смотрел на этих своих присмиревших подчиненных, майор Русаков все так же тупо и хмуро, будто на стоянке никого, кроме него, не было, смотрел в планшет, с плексигласа которого, как бы размывая горы и леса на карте, заставляя там вспухать и выходить из берегов реки с озерами, стекали капли дождя, но не видя, верно, ни карты с этими вспухшими реками, ни капель дождя. И долго бы, наверное, простоял майор Русаков вот так, будто в пояснице стрельнуло, если бы начальник разведки воздушной армии, полковник по званию, находившийся тут же, на стоянке, вдруг не решился закурить и не щелкнул излишне громко крышкой портсигара. Вот этот щелчок и заставил майора Русакова оторваться наконец от планшета и с проснувшейся надеждой во взгляде черных, глубоко посаженных глаз еще раз оглядеть понуро стоявшие перед ним экипажи и решить наконец, который же из них лучше послать на это чертово задание. Полк-то у майора не разведывательный, а бомбардировочный, а в разведке требуется не бомбы в цель положить, а кое-что другое, так что пошлешь не каждого. Тут надо, чтобы с особой смекалкой был экипаж, с тонким чутьем, если уж на то пошло, с особой сноровкой. Суметь сбить противника с толку, обмануть его, выйти на аэродром внезапно, да и вернуться целехоньким – такое не каждый сможет, тут особый дар надо иметь.
Но не много таких экипажей увидел перед собой майор Русаков, когда оглядел стоянку от первого самолета до последнего, – всего-то три, пожалуй, не больше. Это, конечно, не считая тех, которые уже отлетали свое сегодня. А если уж строго, без скидок на бедность, то и не три таких экипажа увидел майор Русаков, а только два, потому что неполный экипаж считаться экипажем никак не может, даже если бы майор сильно этого захотел. В экипаже старшего лейтенанта Кривощекова не было стрелка-радиста: накануне слег в госпиталь – открылись старые раны. Правда, на худой конец старшему лейтенанту Кривощекову можно было бы дать стрелка-радиста из другого экипажа, скажем, из экипажа лейтенанта Козлова, стрелок-радист у Козлова толковый. Но все равно это было бы уже не то – неслетанный экипаж на такое задание лучше не посылать. Так что всего два экипажа из полка, годных для этой разведки, стояли сейчас перед майором Русаковым. Не богатый был выбор у майора, явно не богатый. Да и то, как майор заметил только в самый последний момент, один из этих двух экипажей был, по сути дела, тоже не в счет: у штурмана Пеплова – флюс, так щеку разнесло, что и глаз затек. Чего он увидит, если полетит? Так что всего один экипаж оставался сейчас в запасе у майора Русакова – это экипаж лейтенанта Майбороды. Но и Майбороду посылать на такое задание майору не хотелось – слишком горяч был этот Майборода, чисто порох. Да и штурман у Майбороды, лейтенант Титов, тоже особой сдержанностью не отличался, тоже привык переть напролом – истинный бомбардировщик. А тут не столько храбрость, сколько хитрость нужна, выдержка, короче, особый талант, какой дается далеко не каждому. Правда, будь задание не такое, как сегодня, майор, быть может, и рискнул бы, послал бы и Майбороду с Титовым. Но сегодня задание такое, что лучше не рисковать, не искушать судьбу понапрасну, а не то, не ровен час, полк тогда вообще без своих разведчиков останется. И майор еще раз, уже в обратном порядке, невесело оглядев это свое не шибко подходящее для разведки воинство, вдруг шумно захлопнул планшет, поспешно отыскал глазами своего техника и, как бы повеселев, что отыскал, хотя тот и стоял все это время у него на виду, приказал готовить к вылету свой самолет, присовокупив для порядка:
– Только быстренько там у меня, чтобы в два счета! – и, оттянув рукав гимнастерки, выразительно поглядел на часы.
Но не успел техник майора Русакова вскинуть руку к пилотке и ответить «есть», как из-под крыла ближайшего самолета выступил вперед рослый худощавый летчик с тонким бледнокожим лицом и шрамом на правом виске и, как бы заранее винясь за то, что должен был сказать, проговорил:
– Зачем вам самому идти на эту разведку, товарищ майор? Может, мы с Овсянниковым сходим?
Этим добровольцем, осмелившимся претендовать на задание, когда на это задание уже решил идти сам командир полка, был летчик третьей эскадрильи лейтенант Башенин.
Майор Русаков знал Башенина давно, с начала войны, когда командовал еще этой, третьей, эскадрильей, а не полком, как сейчас. Но что-то не замечал майор Русаков в лейтенанте Башенине особой склонности к разведывательным полетам ни раньше, ни теперь, наоборот, считал его бомбардировщиком до мозга костей, для которого главное в полете – положить бомбы в цель, а там хоть трава не расти. А тут вдруг такое желание, да еще после того, когда полк на этом задании уже дважды обжегся. И майор, словно Башенин сказал бог знает что такое, от удивления завел брови на лоб и какое-то время не знал, что сказать в ответ.
С удивлением перевели взгляды на Башенина и остальные летчики: такого в полку тоже еще не бывало – чтобы летчик сам, будь он даже всем асам ас, напрашивался на задание, когда на это задание уже решил идти сам командир полка. Поэтому во взглядах летчиков, как, впрочем, и во взгляде командира полка, было сейчас не одно лишь удивление, было в них и кое-что другое, помимо удивления.
И это, верно, понял вскоре и сам лейтенант Башенин, хотя и не глядел особо по сторонам, а глядел все больше себе под ноги, и смутился от этого, конфузливо закашлял в кулак и, казалось, уже готов был дать обратный ход, как из-под крыла того же самолета, явно спеша Башенину на помощь, поспешно выступил еще один доброволец и заявил уже не так робко, как Башенин, а напористо и смело, да еще бросив вызывающий взгляд в сторону полковника и этим как бы приглашая этого полковника в свидетели своего бесстрашия:
– А что, товарищ майор, и сходим. Разве заказано? Только разрешите. Мы не против. Даже, наоборот, имеем такое желание. Почему бы и не сходить?
Этот, второй, как раз и был лейтенант Овсянников, на которого сослался Башенин: Овсянников летал у него штурманом с самого начала войны, был такой же рослый, крупноглазый, как Башенин, только намного грузнее, из породы тяжеловесов, а отсюда и в выправке ему уступал, это бросалось в глаза сразу. Если Башенин, хотя и несколько смущенный своей смелостью, был, как всегда, собран и подтянут – причем эту выправку он не терял, как говорится, даже в бане, когда оставался в чем мать родила, – то Овсянников по своей неизменной привычке, от которой он никак не мог избавиться, сутулил плечи и ноги держал не вместе, как положено держать подчиненному перед командиром, а врозь, словно боялся потерять равновесие. И на командира смотрел этот Овсянников совершенно безбоязненно, как если бы тот доводился ему вовсе не командиром, а по меньшей мере кумом или сватом. А когда командир, несколько опешивший от этой его напористости, замешкался с ответом, он добавил уже с явным неудовольствием и в то же время как бы взывая к чувству справедливости:
– Нет, правда, товарищ майор, зачем вам самому лететь, когда мы с Башениным можем. Надо же когда-то и нам попробовать сходить на разведку. Тем более такой случай. А вы все сами да сами, как будто в полку других экипажей нет.
От последних слов Овсянникова совсем уже тихо стало на стоянке, будто и дождь перестал, а у майора Русакова сделался такой вид, словно Овсянников не просился у него сейчас на задание, а намеревался сорвать с него погоны с орденами. И командир, настороженно покосившись в сторону полковника, вдруг собрал возле рта жесткие складки и ответил намеренно грубо, чтобы знал этот Овсянников, как надо разговаривать со старшим по званию:
– Попробовать? Одна монашка, говорят, попробовала…
Сказал и сам же первый, еще не договорив, устыдился своих слов, хотя и почувствовал, что у остальных на стоянке они вызвали веселое оживление. Потом, уже без грубости, но с той же властностью, добавил:
– Придет время, полетите и вы, товарищ лейтенант. А сейчас лечу я, – и снова перевел взгляд на полковника: не хотелось майору Русакову, чтобы полковник подумал, будто у него тут не полк, а партизанская вольница.
По виду полковника, однако, было не понять, интересовало его происходящее на стоянке или он был озабочен лишь тем, чтобы очередной самолет как можно быстрее поднялся в воздух и привез бы наконец разведывательные данные, которые интересовали самого командующего, а кто полетит на этом самолете, командир или рядовые летчики, ему безразлично. Однако когда майор Русаков повернулся к нему всем корпусом и в ожидании поддержки своего решения выразительно остановил на нем взгляд, полковник вынул изо рта папироску, внимательно оглядел охотников полететь и протянул голосом не совсем уверенного в себе человека:
– Может, действительно, товарищ майор, пусть попробуют слетать они, раз имеют желание. А у вас и тут дел хватит, я думаю. У вас полк как-никак. Ну а уж потом, ежели что…
Полковник не договорил, но и так всем стало ясно, что он хотел сказать этим «ежели что», и опять на стоянке, несмотря на угнетенное состояние людей, произошло заметное оживление, и первым оживился от этого почему-то сам майор Русаков.
– Ну что ж, пусть тогда будет по-вашему, товарищ полковник, – согласно тряхнул он головой. – Пусть летят, – и, снова поглядев на часы, дал знак экипажу готовиться к вылету.
II
Стрельнув голубоватым, тут же растаявшим дымком, взорвались в яростном крике моторы, ударили тугие струи воздуха из-под винтов по мокрой траве и лужам, и вспухло там, где были лужи, водяное облако, запенилось, закипело тысячью разноцветных брызг и долго ходило ходуном, не успокаиваясь, пока самолет, взяв сумасшедший разгон, не рассек острием крыльев горизонт и не взмыл в небо.
Дождь кончился, но облака, вопреки предсказаниям метеорологов, уходить за горизонт не собирались, по-прежнему, где россыпью, а где сбившись в кучу, теснили небо, и тени от них лежали на земле домовито и сочно, как смоляные пятна. Зато сверкал, открывшись до самых потаенных углов и закоулков, аэродром под крылом: от мокрой взлетной полосы, луж на дорогах и влажного дерна на крышах землянок, казалось, шел пар. И ближний лес, что подступал к аэродрому синими волнами, и крутобокие сопки, сторожившие его со всех сторон, тоже не знали гнета облаков, тоже радостно сверкали, и Башенин, с удовольствием оглядевшись по сторонам, расслабил наконец мышцы на лице и улыбнулся, хотя назвать улыбкой легкое движение топких, почти бескровных губ было бы не совсем верно. Но все равно что-то вроде улыбки тронуло его туго стянутое шлемофоном лицо – он и в самом деле почувствовал то смутное, чем-то похожее на радость, облегчение, какое всегда приходит к летчику, когда после стольких напряженных минут на земле, связанных со сборами, он оставляет наконец под собою эту землю, набирает высоту и неторопливо, уже с чувством раскованности, оглядывается по сторонам. Получение задания, втискивание в тесную, как мышеловка, кабину, выруливание на старт и сам взлет всегда держат летчика, каким бы хладнокровным он ни был, в особом, а порою и в болезненном напряжении. Теперь же все это было позади, а главное – не было направленных на тебя удивленных, а то и откровенно осуждающих глаз – полетел все же, дескать, на своем настоял, – сейчас с тобою в кабине был только твой верный Глеб Овсянников да там, позади, в «Ф-3» [1]1
Кабина стрелка-радиста в пикирующем бомбардировщике «Пе-2».
[Закрыть], стрелок-радист Георгий Кошкарев. А это уже свои, что Овсянников, что Кошкарев, оба – свой экипаж. А больше – никого и ничего, лишь бесконечное небо над головой да слитный гул двух моторов, который не столько слышится, сколько машинально улавливается ухом, чтобы в этот, теперь уже не яростный и нетерпеливый, как на взлете, а размеренно-басовитый гул не ворвалась какая-нибудь другая, подозрительная нота.
И еще Башенин, как только огляделся по сторонам, почувствовал что-то вроде гордости, осветившей его тонкокожее, почти прозрачное лицо: что ни говори, а полетели все-таки они с Овсянниковым и Кошкаревым, а не командир полка. Хватит командиру каждый раз, когда надо и не надо, самому летать. Пусть и командир теперь на земле посидит, потомится маленько, а то взял моду – все сам да сам.
Что-то подобное, верно, в этот миг испытал и Глеб Овсянников, хотя, быть может, и не в такой мере, как Башенин. Овсянников был старше Башенина, а на фронте это значило много. Да и характером Овсянников был не такой взрывчатый, как Башенин, воли чувствам особенно не давал. Но и Овсянников вдруг как-то торжественно притих, когда высветленный солнцем аэродром, точно оазис в пустыне, остался далеко позади и они оказались один на один с огромным хмурым небом.
Линию фронта они еще на земле, как получали задание, уговорились перейти на высоте пять тысяч метров – так было безопаснее. Но когда набрали первые три тысячи, оказалось, что линия фронта наглухо закрыта облаками. Облака там как нарочно стояли плотно, будто высоченный горный кряж, и вид этого кряжа – иссиня-черного издали, застывшего в своей зловещей неподвижности, – подействовал на Башенина неприятно. У него создалось впечатление, что облака эти сплошные, нигде не кончаются и как только они подойдут к ним ближе, сбросят с себя эту обманчивую окаменелость, глухо заворчат, заворочаются, и хлынут лавиной в их сторону, и закроют уже все небо, и тогда им придется поворачивать обратно, как утром из-за этого повернул первый самолет-разведчик. А это значит – задание опять, уже в третий раз, будет не выполнено. И от мысли этой, уже самой по себе невыносимой, как и от неприступного вида облаков, он шевельнулся на сиденье, словно ему вдруг стало неудобно сидеть, хотя это была его привычная поза, затем неожиданно обратился к стрелку-радисту по СПУ [2]2
Самолетное переговорное устройство.
[Закрыть], будто разговор со стрелком-радистом мог что-то изменить в создавшейся обстановке:
– Как связь, Кошкарев? Нормально?
И удивился, что ответа не последовало, хотя не мог не догадываться, что Кошкарев в этот момент мог держать связь с землей и от внутренней связи отключился. Вызвать Кошкарева теперь можно было только зуммером. Но делать этого Башенин не стал, хотя такая мысль и заставила его покоситься в сторону специальной кнопки на пульте СПУ, побоялся: Кошкарев мог принять такой вызов за сигнал внезапной опасности и переполошиться. А переполох в боевом вылете еще никогда ничего хорошего не приносил. Он только попросил Овсянникова глазами, чтобы тот все же посмотрел через плечо, что там такое со стрелком-радистом, раз он не отзывается на голос – самому мешала бронеспинка.
Но не успел Овсянников обернуться в сторону Кошкарева, как в наушниках шлемофона, словно кто вынул из них затычки, засвистело и защелкало на все лады, и сквозь это щелканье Башенин услышал наконец донесшийся до него голос самого Кошкарева. Голос был громкий, но слишком торопливый, и что Кошкарев хотел сказать, Башенин не разобрал. Лишь когда свист и щелканье в наушниках на какой-то миг прекратились, понял: связь с землей неожиданно оборвалась и Кошкарев теперь не знает, как быть.
Овсянников тоже, конечно, услышал, чем это обрадовал их стрелок-радист на подходе к линии фронта, но сделал вид, что ничего особенного не произошло.
Не стал тогда бить в колокола и Башенин, хотя сообщение Кошкарева в восторг его не привело. Но не паниковать же было в самом деле из-за этого: оборвалась связь сейчас, наладится потом, вылет, по сути, только еще начинался, хотя, может, начинался и не совсем так, как бы ему хотелось. Но все равно времени впереди еще было. Ну а потом, если Кошкареву и после не удастся восстановить связь с землей, это все равно ничего не изменит, вылет будет продолжаться и без связи. Правда, на земле в этом случае начнут излишне волноваться и думать о них бог знает что, а командир полка, наверное, еще и пожалеет, что полетел не сам, а послал на это задание их – он ведь без этого не может. Но это уж не их вина, и не об этом сейчас забота, и Башенин, еще раз посмотрев на Овсянникова и поняв, что Овсянникова сейчас занимает вовсе не связь, а облака, а на связь ему в высшей степени наплевать, крикнул стрелку-радисту успокаивающе:
– Ладно. Как-нибудь попытайся там все же. Может, и свяжешься. Да, линия фронта скоро, я сделаю два покачивания, как подойдем. Ну и за воздухом гляди получше.
– Есть! – ответил Кошкарев, и по этому его лаконичному ответу Башенин понял, что Кошкарев тоже успокоился.
К линии фронта они подошли, когда стрелка высотомера перевалила за пять тысяч метров, и облака, оказавшись теперь под крылом самолета, не представлялись такими зловещими, как со стороны. Наоборот, равномерно залитые солнцем, которому здесь ничто не мешало, и причесанные ветром, они теперь походили на спокойную, слегка всхолмленную белоснежную равнину, на которую можно было смотреть безбоязненно. Лишь там, где у ветра не хватило сил доделать свое дело, виднелось, невольно притягивая взор, несколько наклоненных в одну сторону огромных белых глыб, чем-то напоминавших снежных баб, каких лепят по весне ребятишки. Земли теперь было не видать, земля осталась где-то далеко внизу, под плотной толщей облаков, и Башенин не почувствовал того обжигающего тело холодка, какой обычно заползал ему под гимнастерку, когда он переходил линию фронта. Он не видел сейчас ни окопов, ни траншей, ни дотов с дзотами, не увидел он и развороченной снарядами земли, и этого оказалось достаточно, чтобы он остался невозмутимым. Ему только показалось на миг, что облака, особенно когда он сделал обещанные Кошкареву два покачивания с крыла на крыло, шевельнулись внизу немножко, словно до них дотянули тугие струи из-под винтов. И все – больше ни разгоревшегося любопытством взгляда, ни жгучего желания рассмотреть, что там сейчас было под этими облаками и как на этот раз выглядела линия фронта.
А вот Овсянникова переход линии фронта снова заставил нахмурить брови и долго всматриваться настороженным взглядом в подернутый молочной дымкой горизонт, а затем несколько раз, словно его кто ударял в спину, оглянуться назад.
«Боится, что не отыщет этот аэродром», – догадался Башенин.
И верно, Овсянников боялся, как побоялся бы на его месте любой другой штурман, не видя сейчас в облаках, затянувших уже сплошь все вокруг до самого горизонта, ни единого просвета. И он не скрыл этого, сказал честно, когда поймал на себе испытующий взгляд Башенина:
– Не было печали…
Это были первые слова, произнесенные Овсянниковым после взлета.
Потом, словно это Башенин был виноват в чудовищном нагромождении облаков, показал с плохо скрытым нетерпением пальцем вниз: снизься, мол, еще немного и держись над самой кромкой. Зол, видно, был Овсянников на эти облака, клял, наверное, их в душе почем зря, а пренебрегать ими, раз уж так и так находились под рукой, не стал – могли и пригодиться в случае чего…
Башенин снизился, и самолет, радостно простонав на выравнивании, оказался теперь в такой близости от облаков, что едва не задевал за них винтами. Это уже было что-то вроде бреющего полета, правда, с той только разницей, что сейчас под животом самолета была не земля, а облака и стрелки высотомера стояли не на нуле, как бывает на бреющем полете, а почти на пяти тысячах метров. Но все равно для Башенина, долго просидевшего в одной и той же позе, задеревеневшего без движений, это был бреющий полет, а бреющий полет его всегда возбуждал. Почувствовав, как мышцы рук и ног сами налились силой, он начал с любопытством, хотя и оставался внешне спокойным, наблюдать, как облака, до этого, казалось, равнодушные и неподвижные, будто застывшая лава, теперь торопливо и бестолково, словно боясь опоздать, усатыми моржами ныряли под фюзеляж, как некоторые из них, верно, обманутые прозрачностью дисков винтов, попадали под острые концы лопастей и бесшумно исчезали где-то там, дальше в хвосте, изрубленные в клочья. Он не мог оглянуться назад, но чувствовал, что в хвосте сейчас тоже все ходило ходуном под могучими струями винтов и что стрелок-радист, если он опять не колдовал над рацией, видел это.
Но не успел он до конца насладиться суматошным бегом облаков, как Овсянников вдруг встал со своего сиденья, внимательно огляделся по сторонам и, предупредив Кошкарева, чтобы тот все время был начеку, дал знать Башенину, чтобы он начал пробивать облака – где-то там, внизу, под облаками, он не терял надежды отыскать зажатый сопками аэродром противника.
Башенин внутренне уже был готов к этому его знаку. Он только посмотрел на Овсянникова с веселым вызовом, как если бы собирался сказать: за чем, мол, дело стало. Потом, сделав небольшую «горку» [3]3
Резкий набор высоты с последующим выравниванием самолета.
[Закрыть], чтобы проверить для надежности ход рулей, вобрал в легкие, как перед прыжком в воду, побольше воздуху и обеими руками послал штурвал вперед, едва ли не до приборной доски. Мгновенье – и самолет, тут же подмяв под себя собственную тень, по-акульи бесшумно, будто тоже почувствовав, что это небезопасно, вошел в облака.
В первый миг Башенину показалось, что это кипящие клубы дыма и пара, а вовсе не облака обволокли самолет со всех сторон и через неплотно прикрытые шторки фонаря со свистом ворвались в кабину, отчего в кабине мгновенно потемнело. И моторы, словно хлебнув этой горячей смеси, тоже вдруг изменили голос, начали давиться и сипеть, как сипят паровозы, когда стравливают излишки пара. Потом он почувствовал, как за бортом и в килях застонал ветер и как штурвал от нарастания скорости заходил у него в руках, и самолет, словно вдруг схватил лихорадку, начало бить крупной нервной дрожью. Это в общем-то было в порядке вещей, в облаках самолет всегда лихорадит. Но на этот раз залихорадило сильнее обычного, и Башенин был вынужден с силой вдавить ноги в педали и энергично, почти до упора, задвигать штурвалом. Самолет это успокоило, и он начал теперь рвать ткань облаков только там, где надо, зарываясь в них глубже и глубже и уже не сипя и не захлебываясь, а молчком, словно сорвал голос. А может, это у Башенина заложило уши, а только необычно тихо вдруг стало в облаках, и было вчуже странно видеть перед собою бунтующие, стрелявшие зноем моторы и крутящуюся сталь винтов и не слышать при этом ни единого звука. Потом вдруг где-то что-то прорвалось и звуки появились снова, сперва по отдельности, затем слившись в единый пронзительный гул, исходивший теперь, казалось, не от моторов, а от самих облаков. Когда же большая стрелка высотомера совершила по черному циферблату три полных оборота, в кабине неожиданно посветлело и Башенин обрадовался, что облакам пришел конец и он сейчас увидит землю и на земле – аэродром. Но облака вдруг загустели снова, и землю с аэродромом он не увидел, и это только усилило в нем чувство нетерпения, которое он уже начал испытывать, и породило еще не менее мучительное чувство сомнения и тревоги: а что если облака никогда не кончатся или кончатся лишь у самой земли, когда и штурвал брать на себя будет поздно? Или вдруг в облаках есть кто-то еще? А не врет ли высотомер? Нелепые это были мысли, а вот лезли в голову, вызывая под ложечкой неприятное жжение. Когда же стрелка высотомера прошла еще один круг и ветер в стабилизаторе завыл уже так свирепо, что, казалось, вот-вот сорвет обшивку и самолет станет неуправляем, он, сам того не замечая, дал Овсянникову понять – не то зябким передергиванием плеч, не то скошенным взглядом в сторону красневшей на борту справа рукоятки аварийного сброса фонаря кабины, – что высоты в запасе остается мало и как бы дело не кончилось ударом самолета о землю. Но Овсянников по-прежнему оставался невозмутим, сидя застывшей глыбой по правую руку, и Башенин начал злиться теперь уже не на облака, которые упорно не кончались и погибельно-серый вид которых все больше лишал его уверенности, что они когда-нибудь кончатся, а на Овсянникова. Он подумал, что Овсянников нарочно испытывает его терпение и что, если через секунду-другую, может, третью, от силы четвертую или пятую он не даст команду на вывод, он сам возьмет штурвал на себя. Но не взял ни через пять секунд, ни через десять, хотя и чувствовал уже отчетливо щемящую боль в груди, словно там что-то сместилось или поменялось местами. Накрепко стиснув зубы, он, все так же беспощадно, с той же злой неумолимостью, как и на входе в облака, продолжал давить на штурвал и педали так, словно это вовсе не он, Башенин, а самолет страшился сейчас удара о землю и в любой миг мог вильнуть в сторону. И Башенин был готов не щадить его и дальше, до самого конца, пока тот не зарылся бы носом в эту землю, если бы Овсянников, все так же упорно не раскрывавший рта, вдруг не подался грузно всем корпусом вперед и не издал горлом какой-то ни на что не похожий приглушенный звук. Башенин не сразу понял, что это вдруг так подкинуло с сиденья его штурмана, потому что облака по-прежнему обволакивали самолет со всех сторон и разглядеть вокруг что-либо было невозможно. Однако когда он затем бросил взгляд в ту сторону, куда Овсянников подался корпусом, то увидел слева от себя через начавшую там прорезаться облачность размытое пятно земли, потом обманчиво мелькнувший под крылом изгиб железной дороги, весь белый, будто в молоке, а за изгибом, уже яснее, с чернотой, – насыпь и входные стрелки станции с разветвлением путей. Правда, саму станцию отсюда было не видать, станцию закрывала единственная тут сопка и плотная сетка дождя – на земле, оказывается, вовсю шел дождь. Но Башенин и без того догадался, что это была Старая Сельга – крупная узловая станция, на которой противник обычно производил выгрузку живой силы и техники, которые дальше, к линии фронта, добирались уже своим ходом. От радости, что неизвестности пришел конец, он с наслаждением потянул штурвал на себя. Но в спешке, кажется, перетянул, в глазах у него зарябило, и он не сразу увидел, как из-под правого крыла вдруг полоснуло чем-то красным, затем еще и еще, как если бы кто-то выпустил в небо добрую дюжину ракет. Лишь когда вслед за этим полыханием он услышал еще и заполошный писк зуммера – зуммерил конечно же Кошкарев из своей кабины, – сообразил: зенитки. Будь это не на такой высоте и не сразу после выхода из облаков, Башенин, может, и бровью бы не повел, а тут вдруг оторопел. На него почему-то особенно устрашающе подействовал заполошный писк зуммера, словно это был не зуммер, а начавшие с треском лопаться прямо у него в наушниках шлемофона раскаленные шары эрликонов [4]4
Зенитные орудия малого калибра.
[Закрыть]. И вот, вместо того чтобы тут же прекратить разворот влево, который он начал сразу же на выводе из пикирования, и бросить самолет в обратную сторону, как раз на эти самые разрывы, он опять, видать, по инерции крутанул штурвал влево. А сообразив, что делает не то что надо, что уж сейчас-то их продырявят наверняка, заработал штурвалом и педалями в обратную сторону, да с таким остервенением, что, казалось, и штурвал, и пол в кабине не выдержат. Но опасность от этого все равно не уменьшилась. Едва самолет, задрав теперь кверху левое крыло, послушался руля поворота и отворотил нос вправо, как рой раскаленных шаров полоснул уже слева, причем теперь уже настолько близко, что Башенину, еще не успевшему прийти в себя окончательно, показалось, что он даже услышал, как эти раскаленные шары яростно зашипели, раздирая плотную сетку дождя, и гасли уже много дальше. Затем закраснело впереди и чуть правее, затем внизу, буквально под плексигласовым полом кабины, и пол от этого тут же порозовел, грозя вот-вот вздуться и с треском разлететься на осколки. Это уже было опасней некуда, и Башенин опять похолодел, понимая, что уже сейчас-то им определенно несдобровать, но что-либо сделать в этот миг не мог, кроме как только продолжать, раз уж больше ничего другого не оставалось, упрямо выворачивать штурвал вправо да по инерции давить взмокшей ладонью на секторы газа, хотя они и были даны до отказа. Ну и еще что он мог делать в этот миг, так это разве молить бога, чтобы поскорее проскочить это гиблое место и никогда в жизни больше не видеть этих красных шаров. Но самолет, как назло, не хотел увеличивать скорость, хотя и продолжал идти с опущенным носом, он словно смирился с неизбежным концом и тянул к этому концу экипаж. В то время как красные шары эрликонов входили в раж, обещая в каждое следующее мгновенье устроить уже настоящий, во все небо, фейерверк, самолет, как чудилось злившемуся на свою беспомощность Башенину, начал, наоборот, сдавать, словно лишился от страха сил, и уже плохо слушался рулей, норовя самовольно выйти из крена и опять лечь на левое крыло. Это тоже было невыносимо – держать в руках штурвал, а чувствовать себя беспомощным и покорно ждать, когда один из этих шаров в конце концов ворвется к тебе в кабину и разнесет тебя со всем, что в ней есть, в клочья. Это тоже рвало Башенину грудь, тоже останавливало дыхание, а когда еще вдобавок где-то в хвосте чудовищно грохотнуло, он обреченно подумал, что самолет либо получил дыру в хвосте, либо остался без килей и надо готовиться прыгать за борт. Но только обернулся в сторону Овсянникова, чтобы убедиться по его виду, что это именно так, как новый рой красных шаров снова полоснул по ним уже так близко, что едва не сорвал с левого крыла элерон [5]5
Руль на крыле, при помощи которого создается самолету крен.
[Закрыть]. Этого не выдержал уже и сам Овсянников, до того хладнокровно наблюдавший за Башениным, но пока не вмешивавшийся в его действия. Овсянников тоже почувствовал, что сейчас все будет кончено, и, низко пригнув голову, словно это над ним пролетел красный шар, крикнул ему в самое ухо, как если бы не понадеялся на СПУ, да еще выкинул вперед руку в кулаке:








