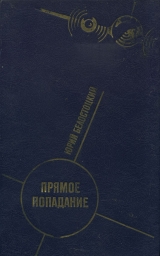
Текст книги "Прямое попадание"
Автор книги: Юрий Белостоцкий
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 26 страниц)
Козлов понял: Раечка была натура возвышенная, романтическая, и он даже растерялся немножко от этой ее романтичности, словно и впрямь почувствовал себя виноватым в том, что его еще ни разу не сбивали, и всем своим видом дал Раечке понять, что больше таким дураком не будет, что уж теперь-то, как только пойдет на задание, расшибется в лепешку, а постарается обязательно напороться либо на «мессеров», либо на зенитки, чтобы только угодить Раечке.
И Раечку успокоил этот его смиренно-виноватый вид: она ведь все равно его уже любила, потому что не полюбить такого человека, как Костик, Раечка не могла. Правда, ореол великомученика ему бы не помешал, это Раечка понимала, но все равно у ее Костика было больше всех орденов, и к тому же он был представлен, как она знала, к званию Героя Советского Союза. А это в глазах Раечки, хотя и не полностью, все же довольно значительно компенсировало отсутствие в его летной биографии и прыжка из горящего самолета, и невероятной одиссеи на территории врага. А потом у ее Костика, несмотря на капельки пота на лбу и довольно глубокие залысины, было еще очень симпатичное, интеллигентное лицо, и весь он был какой-то мягкий и податливый. А для Раечки это тоже было немаловажно, потому что Раечка по своей натуре была еще и капельку тиран, а этого Костика она теперь могла тиранить когда захочет и сколько захочет. Словом, Раечка быстро успокоилась, что ее Костика еще ни разу не сбивали, и уже через минуту опять виражила вокруг него как русалка и, не давая ему передышки, снова задавала один безжалостный вопрос за другим, вроде: «Зенитки – это страшно?», «А «мессершмитты»?», «Страшнее зенитки или «мессершмитты»?», «Правда ли, что на выводе из пикирования из горла и ушей идет кровь?», «А что надо делать, когда парашют не раскрывается, а земля уже близко?» И Костик отвечал, как мог, еще обильнее потея, но никак не решаясь попросить ее освободить его от этой пытки.
А Настя все это время стояла в дальнем конце землянки к ним спиной, всеми забытая, а точнее – сама наглухо отгородившаяся от этого веселого и счастливого мира своим холодно-неприступным видом, и почти не шевелилась, словно ее сковал паралич, хотя и слышала все, что ни говорилось вокруг. Здравый смысл подсказывал ей, что стоять так нелепо, что надо бы повернуться ко всем лицом и сделать вид, что она тоже, как и остальные, рада прилету летчиков, или, на худой конец, хотя бы поздороваться с ними, но поделать с собой ничего не могла. В нее точно вселился бес, и этот бес, в то время как вокруг в землянке все разноголосо гудело и цвело улыбками, заставлял стоять ее, невольную свидетельницу чужого счастья, вот так, на отшибе, в полном одиночестве и сколько уже времени заниматься не чем иным, как бессмысленной полировкой лампового стекла, да мучительно напрягать слух, ожидая, что вот-вот к ней подойдет этот самонадеянный лейтенант Башенин и ей придется что-то отвечать ему.
Но Башенин что-то все медлил, подходить к ней не спешил, и, вполне возможно, как она уже начала догадываться, из-за этого ее высокомерно-неприступного вида: кто же осмелится подойти, когда она стоит ко всем спиной и никого не хочет видеть. А может, и девчата уже успели дать ему как-то понять, что Настю сейчас лучше не трогать, что она не в духе, благоразумнее подождать, пока она сама не отойдет немножко и не сменит гнев на милость. А может, раз такое дело, он уже вообще раздумал к ней подходить, никогда уже не подойдет, и она только зря мучается, а если и подойдет, то вовсе не к ней, а скорее всего к той самой Клавдии, которая, оставшись не у дел, занималась сейчас тем – она это видела, – что с чрезмерным вниманием разглядывала ногти на своих тонких длинных пальцах и восхитительно щурила при этом свои зеленые глаза. И эта мысль, несмотря на сулившее ей освобождение от всех мук и страхов, сулившее ей освобождение и от лейтенанта Башенина, которого она не желала видеть, тоже почему-то сейчас не обрадовала Настю, а только усилила ее страдания.
Она слышала, как лейтенант Башенин раза два в нерешительности прошелся у нее за спиной, заговаривая то с одним из своих друзей, то с другим. Потом, видно с разрешения Глафиры либо по ее знаку, подсел к ней и о чем-то вполголоса заговорил, верно, отвечая на ее вопросы, и голос у него был какой-то угнетающе тихий и невыразительный, словно он не говорил, а тянул что-то такое длинное и протяжное, что не имело ни конца ни края. И это тоже было невыносимо, лучше бы уж он молчал либо совсем ушел из землянки, пусть даже в сердцах хлопнув дверью, чем вот так бубнить что-то непонятное и мучить ее неизвестностью. Потом он, кажется, закурил. А может, это закурил кто-то другой, скорее всего Вероникин Кривощеков или даже сама Глафира – Глафира тоже, когда на нее накатывало, позволяла себе побаловаться дымком, – и дым этот, потянувший от двери в ее сторону, тоже подействовал на Настю неприятно, хотя вообще-то к дыму обычно она была равнодушна. Но сейчас, когда в ней все было напряжено до предела, когда этот ее мучитель лейтенант Башенин как ни в чем не бывало расхаживал у нее за спиной, словно был у себя дома, дым этот тоже действовал ей на нервы. Потом Башенин и Глафира надолго замолчали, и, хотя остальное население землянки продолжало говорить беспрестанно, Насте почему-то показалось, что в землянке стало подозрительно тихо, будто перед грозой, и она, как бы не выдержав этого последнего испытания – испытания тишиной, оставив наконец в покое многострадальную лампу, вдруг резко обернулась, распаленным взглядом ловя дверь, чтобы демонстративно направиться к выходу. Но увидела она не дверь – она увидела лейтенанта Башенина.
Лейтенант Башенин стоял перед нею в двух шагах, невольно загородив собою проход к этой двери, я как-то неопределенно улыбался. И было в этой его улыбке так много чего-то такого, чего Настя раньше, пожалуй, никогда не замечала в улыбках других мужчин – не то наивной покорности, не то несокрушимого простодушия, не то безмятежного, ничего не требовавшего взамен, обожания и готовности тут же исчезнуть с лица земли, если только она этого пожелает, – что она сначала растерялась, а потом тоже улыбнулась легко и просторно, как может улыбаться человек, только что сбросивший камень с сердца.
* * *
Вот как бы или приблизительно как бы все это могло быть.
Но не было. Не было ни стука в дверь в землянку, ни веселого переполоха среди девчат.
Все было иначе.
* * *
Когда полк дал знать о своем появлении над аэродромом пением стекол в землянке, Настя находилась в таком состоянии, что ни о каком лейтенанте Башенине уже не хотела и слышать. Она успела за это время окончательно убедить себя, что это не она, а он, лейтенант Башенин, был во всем виноват, что это он поставил ее в такое унизительное положение, что теперь хоть головой в омут. В первый миг она подумала, что не пойдет вовсе на аэродром, будет продолжать сидеть в землянке одна, без нее, дескать, найдется, кому встречать летчиков. Но потом все же пересилила себя, пошла, посчитав, что не пойти было бы неприлично, что ее отсутствие на аэродроме только бы вызвало новые разговоры среди девчат, да и лейтенанту Башенину дало бы повод лишний раз над нею посмеяться. А потом полк, как-никак, летел к ним сюда все же не с тыла, как обычно, когда на фронте возникала надобность в перебазировках, а прямо с боевого задания, с бомбежки железнодорожного узла противника, на которую он ушел со своего старого аэродрома. А то, что прямо с бомбежки, помимо обычного человеческого любопытства, подогрело и воображение Насти, пробудило что-то вроде участия и чувства долга перед незнакомыми ей людьми, и Настя пошла. Сначала она боялась; что после утреннего разговора в землянке девчата будут на нее дуться. Но девчата, пришедшие туда раньше, не дулись и не сторонились, но разговаривать предпочитали все же друг с другом, а не с Настей. А Настя им и не навязывалась: пусть, если они такие. Она встала от них в сторонке, чтобы не мозолить глаза, и, продолжая сгорать со стыда и с замиранием сердца думать, что будет, когда она увидит этого перевернувшего ей душу лейтенанта Башенина, какой это будет позор, стала неотрывно глядеть из-под руки на небо. Она знала, что Башенин летал в третьей эскадрилье, а третья эскадрилья к аэродрому еще не подошла, подошли пока только две первые, но ей, уже взвинченной до предела, казалось, что она не только сейчас отличала самолет Башенина от других, круживших над аэродромом, но и видела самого Башенина, причем видела самонадеянным, нисколько не сомневающимся, что его здесь ждут, больше того – готовы заключить в объятия. Когда же эта последняя, третья, эскадрилья появилась наконец на горизонте, Настя почувствовала, что лейтенанта Башенина она уже ненавидит всеми фибрами души и будет рада-радешенька, если его самолет вообще не коснется бетонки их аэродрома, уйдет на свой старый, где полк стоял до этих пор. Ее особенно возмущало, когда она, прислушиваясь к нарастающему гулу моторов, представила себе, как этот самоуверенный лейтенант Башенин после посадки еще и заявится к ним в землянку, как будет выяснять с нею отношения, а может, даже обвинять ее, раз она открыто даст ему понять, что не хочет иметь с ним никакого дела. Настя даже побледнела от этой ужаснувшей ее мысли и, уже не сдерживаясь, закусила удила окончательно, начала мысленно отделывать этого человека с такой запальчивостью, что, случись это наяву, а не умозрительно, бедный лейтенант Башенин тут же бы, наверное, запросил пощады. А Настю это только подогрело. Почувствовав сладость от своего благородного негодования, распаляемая уязвленной гордостью, она пошла еще дальше, начав обвинять этого, ничего не подозревавшего, лейтенанта Башенина уже в таких смертных грехах, приписывать ему такие злодеяния, что его теперь и расстрелять, наверное, было бы мало. Особенно она не могла простить ему его заявление, сделанное, как она была теперь уверена, при всех девчатах на том аэродроме, чтобы она, Настя, встречала тут его, словно в противном случае он мог и не прилететь. Ну и пусть бы не прилетал, было бы только лучше и для нее, да и для него самого тоже.
Вот так Настя распаляла себя, взвинчивала, так что, когда над аэродромом наконец появилась и эта, последняя, эскадрилья, она этого самого лейтенанта Башенина уже не только терпеть не могла, но и была готова разорвать на части. И это желание не испугало и не удивило ее, не показалось странным или безрассудным. Наоборот, оно радостно возбудило ее и подняло в собственных глазах – вот, мол, какая я беспощадная, когда меня к этому вынуждают. В этот миг в глазах ее, всегда таких чистых и безмятежных, никогда не меняющих блеска и глубины, появилось что-то надменное и холодное, словно уже одно присутствие этого лейтенанта Башенина в небе над их аэродромом ее унижало, и она как бы собиралась сейчас, как только он приземлится и вылезет из кабины самолета, прямо, без обиняков, ему об этом заявить.
Правда, где-то в глубине души, куда еще не дошло это вот головокружительное, хмельное буйство, она все же сознавала, что это ее чувство к ничего не подозревавшему человеку, по меньшей мере, несправедливо, а если уж по-честному – просто чудовищно, и этому бы надо воспротивиться, а не радоваться, не подогревать себя, тем более что лейтенант Башенин перед нею был и в самом деле ни в чем не виноват, а виновата была она сама и что он, видимо, не только не ужасный человек, каким она сделала его в своих мыслях, а скорее всего даже славный, а может, благородный, и она его, вполне вероятно, сможет когда-нибудь полюбить. Но то было в глубине души, на самом ее донышке, а чувство это, как сладкая отрава, клокотало снаружи, обносило голову ознобно-терпким холодком, и она, охваченная этим чувством, ничего не желала знать, а тем более сопротивляться ему и бунтовать, отдавалась ему с радостно щемящей сердце отчаянностью. И потому-то чем ближе сейчас самолеты этой, последней, эскадрильи подходили к аэродрому, чем свирепее они рвали небо над головой, тем больше это чувство росло и крепло. Она теперь, когда ей стало казаться, что уже не умозрительно, а по-настоящему видела этого самого лейтенанта Башенина в строю «девятки», отличала его самолет от остальных, вдруг поймала себя на мысли, что была бы теперь, пожалуй, даже и не прочь с ним познакомиться. Но познакомиться конечно же не просто так, не для того, чтобы разводить всякие там шуры-муры, а намеренно, с единственной целью дать ему потом, когда этот ее хитро задуманный план осуществится, почувствовать, как он жестоко просчитался, вообразив, что она, девушка честная и порядочная, только из-за того, что он, видите ли, боевой летчик, имеет ордена, могла первая броситься ему на шею, она ему покажет тогда такую встречу, что после он вообще закается подходить к девчатам на пушечный выстрел. И вдруг, когда, упиваясь этой своей благородной местью, Настя мысленно уже видела этого самоуверенного лейтенанта Башенина поверженным в прах, когда она уже торжествовала над ним победу, на аэродроме что-то произошло, и это что-то, как она почувствовала, имело непосредственное отношение к ней, к Насте, хотя она и стояла тут ото всех в стороне и никому не мешала. Сначала ей показалось, что самолеты не то чтобы оборвали свой грозный рев, а как бы взяли ноты ниже, потому что на аэродроме действительно стало как-то непривычно тихо, и в этой тишине, удивившей ее и одновременно насторожившей, тем более что самолеты на самом-то деле драли глотки у нее над головой по-прежнему зло и решительно, она услышала, как невдалеке, скорее всего в толпе мужчин, кто-то сдавленно ахнул, а потом произнес пугающе тихо: «Мать честная!» И этот его вздох и это его замечание почему-то негромким эхом отозвались у нее за спиной, вызвав холодок между лопаток. Потом, уже действительно за спиной, она услышала что-то вроде шелеста травы, как если бы неожиданно дотянувшие туда тугие струи из-под винтов самолетов заворошили сухие прошлогодние листья, подняли их в воздух и закружили над землей со стеклянным звоном. Не зная, что же это ее так встревожило, Настя снова подняла недоуменный взор на небо, но ничего подозрительного там не увидела: самолеты, как и мгновение назад, шли все так же могуче слитно и безукоризненно строго, и так же строго и могуче было их дыхание. Ничего подозрительного Настя не обнаружила и в поведении мужчин, когда затем перекочевала туда настороженным взглядом. И сзади, за спиной, тоже ничего такого, что смогло бы ее насторожить или удивить, не было, хотя сухие прошлогодние листья там действительно ворошил ветер и они действительно на ветру как-то стеклянно вызванивали, словно и впрямь были из стекла. И лишь девчата, когда она под конец, уже почти успокоившись, обернулась, в их сторону, заставили ее насторожиться пуще прежнего-девчата, все до единой, будто сговорившись, в этот миг неотрывно и с каким-то суеверным испугом, как на дурочку, которая почему-то радуется, когда надо бы плакать, смотрели на нее во все глаза. И было в этих их широко открытых глазах так много чего-то такого, отчего Настя, еще не понимая, что это с ней, вдруг напряглась всем телом и опять, как и мгновенье назад, быстро и решительно, словно боялась опоздать, вскинула голову вверх, к небу, что разрывалось от рева моторов. И тут же, будто от толчка в грудь, закрыла лицо руками – правого самолета во втором звене «девятки» не было.
X
Пламя на моторе он увидел позже, когда, выхватив самолет из пике и сработав ногой, снова послал его вверх налево, чтобы пристроиться к собиравшейся там в строй эскадрилье. Занявшись где-то под капотом левого мотора, пока он пикировал на цель, пламя вырвалось оттуда неожиданно и с такой яростью, что капот тут же вскрыло и вычернило до неузнаваемости, а мотор, будто ошалев от ожога, оглушительно стрельнул раз за разом чем-то мутным и затрясся как в лихорадке. А тогда Башенину показалось, будто снаряд прошел мимо или, в крайнем случае, поцарапал консоль крыла, но мотор не задел. Правда, легкий, чуть уловимый толчок он все же ощутил, и штурвал, который он держал обеими руками с большим пальцем на предохранительном колпачке кнопки бомбосбрасывателя, в тот миг тоже словно бы спружинил отчего-то, но не придал этому значения. Да и не до толчков тогда было. Охотно и почти не дыша, лишь тоненько, будто от радости, повизгивая, самолет круто шел вниз, к земле, на увеличивавшуюся в размерах цель – это была крупная железнодорожная станция, дымившая не меньше как в десяток паровозных труб, – и он, не давая ей, этой станции, метнуться от страха вправо или влево, с ознобным нетерпением и тоже, как и самолет, почти не дыша, ждал, когда наконец Овсянников скомандует вывод. Так что если бы тогда, на пикировании, снаряд даже разворотил им крыло или стабилизатор, он и то вряд ли выпустил цель из прицела, а свел бы челюсти до синевы на щеках и ждал команды, чтобы бомбы полетели не куда попало, а точнехонько в цель. И бомбы полетели точно в цель – это он почувствовал по довольному сопению Овсянникова, как всегда чем-то напоминавшему фырканье, будто он только что вынырнул из воды, и еще по тому, как тот, это уже перед тем, как взять штурвал на себя, протянул к нему согнутую в локте руку и с довольным видом потрепал его за колено.
И вот, уже на выводе из пикирования, когда бы только вздохнуть полной грудью от облегчения, что станция накрыта с первого захода и можно поворачивать обратно, – это с воем вырвавшееся из-под капота ошалевшее пламя и эта чудовищная тряска мотора, которая тут же передалась самолету и грозила сорвать обшивку не только с восково поплывшего от жары крыла, но и с фюзеляжа. И в первое мгновенье, невольно вжавшись в бронеспинку, Башенин неотрывно глядел на это взметнувшееся лисьим хвостом пламя широко раскрытыми глазами не столько со страхом, сколько с удивлением. Лишь когда из-под капота и крыла брызнуло горячим маслом и затем повалил густой и жирный, как раз заправленный этим горевшим маслом, дым, остервенело, со злой обидой швырнул самолет вниз вправо, чтобы сбить пламя. Но пламя выдержало этот его чудовищный бросок, оно лишь пригнулось к крылу на какое-то время, а потом, по-кошачьи выгнув спину и заметно набрав жару, снова высоко взметнулось над мотором, охватив уже часть крыла. И он, улучив момент, чтобы натянуть на глаза очки, опять безжалостно – вот-вот не выдержат и затрещат стрингера с лонжеронами – кинул самолет еще раз вниз, только уже влево, чтобы сбить пламя с другой стороны. Но пламя, к его удивлению, на этот раз даже не съежилось и не пригнулось от ветра, а, наоборот, стряхнув с себя несколько тут же остывших рыжих клочьев, вздулось уже до предела и заклокотало над крылом в непостижимой круговерти, словно ветер, вместо того чтобы свалить с ног, раскочегарил его уже донельзя. Оно с новой, еще более свирепой, силой принялось за старое и, если бы не закрытая шторка фонаря, мохнатым зверем ворвалось бы в кабину. Зловеще изменив цвет, налившись чернотой, пламя теперь не плясало над мотором и крылом в веселой домашней пляске, как сначала, а молча и потому особенно устрашающе, как тупое первобытное чудовище, начало жевать, рвать и уродовать все вокруг, и все вокруг, казалось, уже кричало и выло от ужаса и боли: выли патрубки мотора и шторки водяного радиатора, выли с мясом вырываемые заклепки, выла раздираемая по швам обшивка крыла. Пламя же, как бы веселея от этого воя и еще пуще входя в азарт, уже буквально выворачивало себя наизнанку и скручивалось в пружину, чтобы еще перемахнуть с крыла на хвост, к стабилизатору, тоже теперь жалобно заскулившему от ожидаемой его участи. И снова ненасытно жевало и пережевывало все вокруг, что ни попадалось на пути, даже сам стеклянно звеневший, сухой как порох, воздух. Потом пламя оказалось уже у самой кабины и раза два торопливо и с опаской, точно пробуя на зубок, лизнуло левый бок фюзеляжа, где размещался главный – пятьсот литров – бензиновый бак. Это уже было опасней некуда, и Башенин, почувствовав, что не сдержится и закричит от злости и обиды во весь голос, повернулся лицом к Овсянникову и, судорожно покривив губы, дал ему понять, что тянуть больше нечего, надо хватать ноги в охапку – и за борт.
Овсянников согласно кивнул головой и на миг обернулся назад. Башенин понял: хочет убедиться, нет ли в хвосте «мессершмиттов», и заодно проверить нижний люк на случай, если он вдруг тоже понадобится.
«Мессершмиттов» в хвосте не было.
– Прыгай, Жора!
Это Башенин, как только штурман снова повернулся к нему всем туловищем и выразительно прицелился глазом на красневшую впереди на борту рукоятку аварийного сброса фонаря кабины, крикнул по СПУ стрелку-радисту Кошкареву – стрелок-радист должен покидать самолет первым. Потом, мгновенно и не без опаски вспомнив, что Жорой он своего стрелка-радиста еще не называл, а больше все по фамилии и званию и тот мог сейчас, в этой свистопляске, его не совсем правильно понять или вообще ни черта не разобрать, повторил уже четко и невольно перейдя на устрашающий тон, чтобы подстегнуть:
– Прыгай, Кошкарев, прыгай! – И еще, это уже для страховки и чтобы окончательно разрядить распиравшие грудь легкие: – Приказываю покинуть самолет, Кошкарев! Приказываю покинуть самолет!
А вокруг уже было как в кипящем котле: все пылало, дымило, сверкало и плясало. Плясало небо, и плясал горизонт, плясали приборы на приборной доске, и плясали ручки, рычаги и рукоятки с тумблерами, плясал в кабине тонкий и такой ненадежный плексигласовый пол с курсовой чертой посредине, плясали моторы, словно там полетели к чертям гайки с болтами.
– Понял, прыгаю.
Далекий это был голос и слабый, словно с другого конца планеты, а прорвался-таки сквозь вой, свист и разбойничье щелканье в наушниках шлемофонов, дошел куда надо. И сразу вокруг все встало на свои обычные места: и небо, и горизонт, и приборная доска с вонзившимися в цифры жалами стрелок. Даже пламя над мотором в этот миг, казалось, умерило свою ярость и как бы свернулось в клубочек, чтобы, верно, не спугнуть ненароком так неожиданно вернувшееся в самолет и в природу равновесие.
А потом все произошло так, как и должно было произойти, – без суматохи и лишних слов, хотя оба они, и Башенин и Овсянников, не сговаривались между собой и даже не поглядели в глаза друг дружке перед этой решительной минутой. Только оба посуровели как-то вдруг и одинаково: одинаково зло свели брови на переносицах, одинаково – солидно и неторопливо, будто в тренировочном полете, – ощупали на груди красные кольца парашютов. Потом Овсянников, это когда Башенин уже отстегнул привязные ремни и выпростал ноги из педалей, ухватился рукой за красную рукоятку аварийного сброса фонаря кабины. Но рванул не сразу, а сперва как бы попробовал, крепко ли она там сидит, а может, просто налил руку для верности, и еще раз настороженно оглядел горизонт. И все это неторопливо, спокойно, соблюдая какую-то важность и чинность, которая Башенина, впрочем, нисколько не удивила, он знал: Овсянников не важничал, а просто делал свое дело, как считал нужным, и он во всем и всегда на него полагался, хотя разумом сейчас понимал и кожей чувствовал, что самолет в любой миг могло разнести в клочья и тогда все эти приготовления – и ощупывание рукоятки, и осмотр горизонта, и сама эта важность и чинность – будут уже ни к чему. Затем Овсянников вдруг чудовищно и как-то сразу шишковато отвердел всем грузным телом – Башенин это тут же почувствовал и тоже напрягся до предела – и только после с каким-то благоговением и радостью, словно открывал ворота в рай, могуче потянул красную рукоятку на себя, тяжело заваливаясь корпусом назад. Лопнувший над головой пушечный снаряд, наверное, не так бы оглушил Башенина, как его оглушил и намертво припечатал к бронеспинке тут же стремительно ворвавшийся в кабину воздушный поток. Это был вихрь, смерч, тайфун. Но он все же нашел в себе силы в последний момент, когда дышать было нечем, и тело омертвело, и глаз не разлепить, кинуть взгляд на горизонт, а может, горизонт сам попался ему на глаза, показавшись устрашающе близким, и резко толкнул штурвал вперед до отказа. И сработала могучая сила инерции – уже через мгновение оба они, и Башенин и Овсянников, в тех же позах, что и минуту назад, кувыркались в чистом синем небе, как акробаты под куполом цирка, царапая руками груди, чтобы ухватиться за спасительные кольца парашютов.
* * *
Башенину повезло. Правда, угодил он все-таки в горелый лес, так напугавший его с высоты, когда он заметил его зловещую черноту под собой. Но это все же было лучше, чем открытый луг, начинавшийся за этим лесом, куда его могло снести, если бы ветер дул чуть посильнее, – на лугу в любую минуту могли появиться люди, и тогда бы ему было несдобровать. Лес же только с высоты показался ему редким и насквозь просматриваемым, а на самом деле стоял густо, плотным черным частоколом, суля надежную защиту и с земли и с неба. Да и само приземление прошло удачно – и ноги у него остались целы, и на черта не стал похож, хотя и поцарапался изрядно. А потом его обрадовало, что в последний момент, когда до земли оставалось несколько метров, он успел заметить парашют Овсянникова, которого сперва заметить никак не мог, сколько ни вертел головой. Парашют неожиданно вспыхнул белым облаком позади него, почти у земли, над крутобокой сопкой, как раз в тот момент, когда он обернулся туда от щемящего чувства тоски и одиночества, навеянного черным лесом. Правда, парашют вспыхнул ненадолго и почему-то тут же, как только он его заметил, погас, будто кто ухватил его за стропы и утянул за черный горб сопки. Но все равно это был парашют, и парашют конечно же Овсянникова, потому что стрелка-радиста Кошкарева, выбросившегося из самолета первым, тут, поблизости, быть никак не могло. Кошкарев, если только благополучно достиг земли, не поломал при выброске ребра о стабилизатор, находился много дальше этого леса.
Первым побуждением Башенина, как только он почувствовал под ногами землю и огляделся, было броситься в сторону Овсянникова – ведь Овсянников мог его во время спуска не увидеть и пуститься подальше в лес сразу же, как только приземлился, и потом его днем с огнем было бы не сыскать. Но чувство осторожности заставило его прежде всего обратить взгляд на свой собственный парашют.
Парашют застрял высоко в ветках деревьев, и оставлять его там было опасно – в черном горелом лесу он был хорошо виден со всех сторон. Намотав стропы на руки и хорошенько упершись ногами в землю, он потянул парашют на себя. Верхушки деревьев нагнулись, с них посыпалась труха и черная пыль, но сам парашют только вздулся пузырем, а с места не стронулся. Он потянул еще раз – то же самое. Тогда, теряя терпение, он рванул за стропы уже изо всех сил, и лес, до этого безголосый, как мертвец, в котором, казалось, не было ничего живого, ни птиц, ни мух, ни комаров, только пугающая чернота голых стволов да сочившийся с них зыбкий, неверный свет, вдруг затрещал горелыми сучьями, закачался. Сверху на Башенина посыпались ветки, обугленная кора и крупная, хлопьями, сажа, распространяя вокруг удушливо-застойный запах гари и еще чего-то такого, от чего ему стало не по себе. Он замер, боясь оглянуться и громко дышать, хотя от набившейся в рот и нос копоти к горлу тут же подступила тошнота и в груди что-то сдавило и начало рвать легкие. А лес все шумел и шумел, и этот шум с мстительной радостью подхватило эхо и понесло дальше, усиливая и наращивая его новыми, еще более зловещими, звуками и пугая уже само небо, которое для Башенина в этот жуткий миг сосредоточилось в одном лишь белом куполе парашюта, бившемся на острых верхушках деревьев как рыбина на остроге. И он не мог отвести от этого парашюта широко открытых, подернутых стынью, глаз и все ждал, не раздастся ли вслед за этим зловещий окрик «хенде хох» или выстрел в спину. Потом, когда этот так неожиданно взбунтовавшийся лес так же неожиданно примолк, он наконец позволил себе оглянуться назад, потому что почувствовал: если не оглянется, нервы не выдержат. Оглядывание его успокоило. Но парашют зато после его яростной попытки, как он теперь понял, запутался в деревьях окончательно. Чтобы оттуда его снять, а потом еще куда-то надежно запрятать – это шестьдесят-то четыре квадратных метра пышного, точно взбитая волной пена, шелка! – ему потребуется, даже если пустить в ход финку, несколько часов, а уж за это-то время его немцы здесь наверняка накроют как миленького. Чиркнуть же спичкой и поджечь – тоже только себя выдашь, дыму будет много, а следы все равно останутся. Тогда, еще раз задрав кверху голову и с какой-то безнадежностью поглядев на это самое шелковое облако, что доставило его на землю, он глухо, будто сдерживая стон, вздохнул, потом снова, по-волчьи повернувшись всем туловищем, настороженно огляделся вокруг и, не заметив ничего подозрительного, двинул, сразу набрав скорость, подальше от этого гиблого места прочь, в сторону горбатой сопки, в надежде отыскать там Овсянникова.
Он боялся, что идти будет трудно. Но идти было легко. Спекшаяся от пожара хвоя под ногами не хрустела, только чуть приминалась. И сучья с ветками не цеплялись на каждом шагу за одежду, не царапали лицо. Недавний пожар позаботился, чтобы сучьев и веток на деревьях не было, деревья до самых вершин стояли донага раздетые и удивительно одинаковые в своей наготе, словно тот же пожар уничтожил тут всякое неравенство между ними, обкорнал их всех под одну гребенку. Густые тени на хвое тоже были под стать деревьям, на одно лицо – безотрадно темные, длинные и прямые, будто только что сползшие с черных стволов и вобравшие в себя с них в избытке и копоти и сажи. Они лежали густо и в то же время строго, но отдельно друг от друга, как бы в опрокинутом навзничь строю – у каждого свое ложе – и на черной, глянцевито отсвечивавшей хвое казались не тенями, а глубокими вмятинами, какие остаются после долгого лежания бревен на сырой земле. Ступать по этим теням Башенину почему-то было не особенно приятно, как не особенно приятно было видеть вокруг себя и эту пугающе однообразную наготу деревьев и не слышать ни одного живого звука, словно это был не лес, а пустыня, которую оставило все живое. Лишь погибельно густой, проникавший во все поры запах гари, от которого першило в носу и в горле, стоял тут, казалось, вечно, со дня сотворения мира. Очутиться в таком лесу, да еще после того, что с ним произошло в воздухе, или хотя бы представить, что такой лес существует, ему еще не приходилось. И через какое-то время он почувствовал, что мужество начало ему изменять, – шаг его стал неровен, плечи угловато вздернулись, будто в спину подул ветер, хотя в лесу было полное безветрие, и лицо посерело. К тому же лес этот, как назло, что-то долго не кончался, все распахивал и распахивал перед ним свои черные как ночь объятия, будто заманивал куда-то туда, откуда не бывает возврата. Башенину казалось, что прошел он уже километра два, если не все три, и где-то вот здесь, может, как раз за этой вот прогалиной должен быть не тронутый пожаром овраг и за ним горбатая сопка, а конца этому черному безмолвию все не было, сколько он ни наддавал шагу, торопясь выбраться отсюда поскорее. И сколько ни оглядывался, вздувая на шее жилы, по-прежнему видел вокруг себя одно и то же: черные стволы деревьев, до ужаса молчаливые и до ужаса похожие друг на друга, словно дерево было одно, а в глазах у него множилось. И больше ничего вокруг. Потом, когда он прошел еще с километр или чуть больше, уже умерив прыть и опасливо оглядываясь на каждом шагу, чтобы не сбиться с пути, и лес, вместо того чтобы кончиться, обступил его еще плотнее, у него создалось впечатление, что он либо по дурости закладывает виражи вокруг одного и того же места, либо лес этот вообще не имеет ни конца ни края, и ему, горемыке, из него никогда не выбраться, будет он вот так блуждать по нему неприкаянным как тень до тех пор, пока в один прекрасный момент эти черные чудовища, от которых теперь и небо и солнце тоже стали казаться ему черными, не сомкнутся над ним в неумолимой ярости и не раздавят как букашку.








