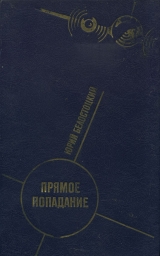
Текст книги "Прямое попадание"
Автор книги: Юрий Белостоцкий
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 26 страниц)
Но когда он, казалось, уже готов был от отчаяния повернуть обратно, впереди слева вдруг вспыхнул небольшой просвет, и в этом просвете, зыбком и неверном, как сумерки, что-то блеснуло, вроде металлическое, и он, почувствовав, как кровь снова прихлынула у него к вискам, остановился, невольно сделав от неожиданности что-то вроде собачьей стойки. Потом, продолжая стоять все в той же нелепой позе, увидел, как рядом, где это что-то блеснуло, только чуть левее, как раз на дереве, обращенном к нему наиболее изуродованной стороной, почти у самого комля, возникла тень. До этого на дереве тени не было, это он заметил хорошо, хотя и не смотрел туда специально, и вдруг – тень. Это было странно. Правда, тень могла появиться от чего угодно, но что-то подсказало ему: это человек. А вот что это был за человек и что он там делал, разобрать было невозможно – мешало лежавшее поперек такое же обугленное дерево, вернее – его огромный, вывороченный с землею корень, хотя и осыпавшийся, но все равно такой же черный, как все вокруг. Конечно, следовало бы подойти немножко ближе – ведь этим человеком мог быть Овсянников, да еще, возможно, искалеченный. Но тогда надо было бы идти через прогалину, а это было опасно, и он продолжал стоять на одном месте, не двигаясь, будто окаменев, и только настороженно следил за корневищем похолодевшим взглядом. Затем он услышал, как за этим корневищем что-то хрустнуло или треснуло, как если бы там кто-то обломил ветку либо чиркнул спичкой. Башенин напрягся всем телом – это был первый, услышанный им в этом черном безголосом лесу, звук, не считая шума, вызванного его неудачным стаскиванием парашюта с деревьев. И он растерялся, не зная, обрадоваться ли ему, этому звуку, или, наоборот, встревожиться и повернуть пока не поздно обратно, потому что если бы это все же был Овсянников, то он постарался бы не шуметь, а затаился бы как мышь в норе. Через какое-то время звук повторился снова, уже громче и отчетливее, чем-то напоминая притопывание ногой о землю.
Потом еще. А затем он услышал и такое, что тут же похолодел: он услышал негромкую, но отчетливую немецкую речь, прерываемую тем же притопыванием ног о землю. Причем говорил там, видно, кто-то один, а другой, кажется, поддакивал, потому что голоса были разные, один – густой и хрипловатый, выдававший человека в возрасте и, несомненно, простуженного, второй – сухой и ломкий, будто надтреснутый, принадлежащий человеку явно моложе. Значит, за корневищем были немцы, и не один, и хорош бы он был, если бы решился двинуть через прогалину напрямик. От одной этой мысли в груди у него похолодело и голова сама вошла в плечи, словно он уже попал под автоматный огонь этих немцев и сейчас переживал собственную смерть. А немцы как ни в чем не бывало продолжали все так же негромко переговариваться между собой, а он стоял ни жив ни мертв, хотя и понимал, что стоять опасно, что немцы каждое мгновенье могут выйти из укрытия и увидеть его. Но сил шевельнуться у него не было, и перевести дыхание он тоже никак не мог, хотя это, наверное бы, ему помогло. Лишь когда немцы заговорили громче и уже, кажется, не особенно слушая друг друга, будто споря, он наконец осторожно, боясь оступиться и держа пистолет наготове, качнулся корпусом влево и сделал пробный шаг назад, потом еще один, мгновенно покрывшись крупной испариной. Он не мог и представить себе, что пятиться назад будет так мучительно трудно, что каждый шаг будет рвать ему жилы и отдаваться болью во всем теле, вызывая препоганое чувство страха, что вот-вот, при следующем движении, он обязательно ступит не туда, куда надо, потеряет равновесие и упадет. Ужасала и возможность напороться на запрятанную в земле мину, хотя сознание и подсказывало ему, что никаких мин тут быть не могло, что не такие немцы дураки, чтобы ставить мины в таком пропащем месте, как этот лес. Особенно мучительными для него оказались последние шаги, которые, как он понимал, должны были в какой-то мере закрыть его от немцев. Там, куда он сейчас так упорно передвигался задом наперед, деревья стояли плотнее и тени были гуще, а главное – начиналось что-то вроде овражка, в котором можно было затаиться. Причем помехой на этих последних шагах оказался уже планшет с картой, который он перед прыжком из самолета впопыхах сунул под комбинезон, вместо того чтобы сунуть под комбинезон лишь карту, а планшет просто кинуть. Вот этот планшет, как только он сделал очередной шаг, и вывалился у него из-за пазухи. Башенин взмахнул рукой, чтобы поймать его на лету, но поймал лишь воздух и начал терять равновесие. И потерял бы, если бы в последний момент не уперся правым коленом в землю – иначе бы ткнулся носом. Но все равно шуму, как ему померещилось, он наделал много, и от страха, что этот шум услышали немцы, замер, ожидая, что сейчас грохнет выстрел. И ждал долго, до дрожи в теле, но выстрела не услышал, и тогда, продолжая ухом все так же чутко стеречь тишину, начал приподыматься, чтобы побыстрее добраться до овражка. Это было неудобно – согнутая нога онемела и плохо слушалась, в коленке ее было никак не разогнуть, а чтобы опереться рукой о землю, мешал пистолет, и ему пришлось пересилить себя, чтобы все же заставить тело подчиниться и встать наконец на ноги.
Но лучше бы уж ему было не вставать.
Едва он выпрямился и снова бросил вымученный взгляд на корневище, как чуть не вскрикнул от изумления: по ту сторону корневища, образовав нечто вроде полукруга, стояло человек шесть немцев в касках и маскхалатах и среди них – его штурман Глеб Овсянников. Первой мыслью Башенина было броситься снова наземь, зарыться с головой в землю, тем более что немцы, все до единого, стояли к нему спиной и его не видели. И он бы бросился, если бы его вдруг не удержал взгляд Овсянникова. Овсянников, в отличие от немцев, стоял к нему лицом и в этот миг, когда Башенин встал на ноги и выпрямился, случайно, а может и не случайно, посмотрел в его сторону и увидел его. И он удивился и обрадовался – мускулы на широкоскулом лице Овсянникова тут же дрогнули, и весь он как-то чудовищно подобрался, словно хотел кинуться ему навстречу. Но удивился и обрадовался только на миг. Уже в следующее мгновенье лицо Овсянникова снова приняло мрачное выражение, и он даже отчужденно, с явным безразличием отвел взгляд в сторону, как если бы никакого Башенина тут не было и быть не могло. Башенин догадался: боится чем-нибудь выдать себя и этим испортить все дело. А дело для Башенина теперь уже было простым и ясным, как дважды два – четыре: еще один такой же взгляд Овсянникова в его сторону, и он с криком и шумом, словно не один, бросается на немцев и в упор расстреливает их из пистолета по одному. Правда, немцев все же не двое, а шестеро, но тут уж не до арифметики. Главное – использовать момент внезапности, нагнать на немцев побольше страху, чтобы они растерялись хотя бы в первый миг, а первый миг как раз и решит все дело, А там, когда немцы запаникуют, и Овсянников пустит в ход кулаки. А кулаками Овсянникова впору была сваи вбивать: не кулаки – гири. Да и автоматом догадается разжиться, когда придет час. И Башенин, как бы начинив себя взрывчаткой, уже с ознобным нетерпением, хотя это и было опасно, пошире расставил ноги, подобрав надежнее опору для рывка, поднял пистолет на уровень глаз, чтобы не искать, когда дойдет до главного, мушку в прорези прицела, и начал мысленно отсчитывать мгновения, когда Овсянников снова кинет взгляд в его сторону и даст Сигнал действовать. В этот миг он не чувствовал ни сомнений, ни опасности. Не чувствовал он и страха, а только злую решимость и нетерпение, отчего лицо его, обычно бледное, почти не тронутое загаром, как-то чужеродно посерело, на лбу вспухли надбровные дуги. Он не думал в этот миг и о том, что немцы могли повернуться в его сторону раньше Овсянникова, это ему сейчас просто не приходило в голову. Он ждал только взгляда Овсянникова и ничего больше.
И дождался его. Но это был не тот взгляд, который он торопил, отсчитывая мгновения, и который бы сорвал его с места и кинул вперед. Наоборот, во взгляде Овсянникова он прочел сейчас властное требование ничего не делать, а затаиться, больше того, исчезнуть из этого леса, а его оставить в покое, иначе – конец, конец обоим. Башенин оторопел, напряженно подумал, что ему так только показалось, и, снова налившись злой решимостью, начал клониться корпусом влево, чтобы окончательно налить тело для стремительного броска вперед. Но Овсянников опять посмотрел на него с такой яростью, что он невольно замедлил это свое движение корпусом и в тот же момент почувствовал, что сейчас в его сторону, если он не остановится, повернутся и немцы, повернутся обязательно, хотя пока они смотрели только на Овсянникова. Но должны были повернуться – что-то в поведении немцев вдруг подсказало ему, что повернутся. Возможно, угрожающе качнувшиеся над их головами вороненые дула автоматов. А может, это подсказал ему и вид Овсянникова – было и в виде Овсянникова что-то такое, что не почувствовать в этот миг Башенин тоже не мог, и это тоже походило на предостережение, на сигнал опасности.
Но было уже поздно, остановить Башенина теперь, когда тело уже само взяло разгон, не мог никто – ни властно умоляющий взгляд Овсянникова, ни ожидавшиеся взгляды шестерых немцев, – Башенина все заносило и заносило по диагонали набок, чтобы уже в следующее мгновенье кинуть отвердевшее тело вперед.
И Овсянников это, верно, понял, и на миг оторопел, и как-то жалко вобрал голову в плечи. Потом вдруг выпрямился во весь свой устрашающий рост, закричал не своим голосом на весь лес и, растолкав уже начавших было ломать шеи в сторону Башенина ближних к нему немцев, бросился со всех ног в противоположную сторону, вздымая за собой тучи черной пыли.
Это было так неожиданно, что в первый миг Башенин даже не понял, что произошло, почему это немцы вдруг с ужасом отпрянули от Овсянникова, образовав проход, а Овсянников бросился в этот проход, вопя на весь лес как очумелый. И только когда вслед за этим, ну, спустя, может быть, какое-то мгновенье, затрещали выстрелы, от догадки, пронзившей его мозг, едва тоже не закричал на весь лес, как Овсянников. И потерял из виду немцев. Но не надолго. Уже в следующее мгновенье он, охваченный яростью, очутился как раз возле того проклятого корневища и снова увидел их. Немцы продолжали бежать вслед за Овсянниковым, безостановочно паля из автоматов ему в спину. Башенин, выбрав одного из них, на ходу вскинул пистолет повыше, чтобы не промахнуться. Однако нажать на спусковой крючок не успел – в последний момент будто кто с силой вдруг рванул у него из-под ног землю, и он, беспомощно взмахнув руками, начал медленно, но безостановочно заваливаться левым боком куда-то на сторону, и заваливался до тех пор, пока не оказался в какой-то глубокой темной яме.
Когда же он снова вскочил на ноги и выбрался из этой ямы, со злостью выплюнув набившуюся в рот и нос черную землю, все было кончено – в лесу снова было тихо, здесь опять вступило в свои права черное безмолвие.
XI
Настя вернулась в землянку последней, когда девчата были уже там. Ни на кого не глядя, она осторожно, стараясь не наступать на особенно скрипучие половицы, прошла к себе в дальний угол и присела на краешек койки. Койка была старой, с прогнувшейся металлической сеткой, и сидеть на ней было не совсем удобно. Но менять позу она не решилась – койка могла заскрипеть, и это бы привлекло внимание девчат, и тогда бы пришлось снова встретиться с их взглядами, а эти их взгляды не могли стать для нее утешением. Правда, девчата ее не чурались, спин не показывали, больше того, когда она открыла дверь, они оглядели ее с молчаливым и как бы участливым любопытством, словно она долго пропадала бог знает где и они тут за нее волновались, а тихоня Сонина даже попыталась с нею заговорить. Но было в этом их сдержанном участии, как и в попытке Сониной заговорить, что-то такое, что, хотя и не сразу, еще больше насторожило Настю, заставило ее замкнуться в себе окончательно. Ее особенно удивило, что, несмотря на кажущееся внимание, девчата при ее появлении все же не проронили ни слова, будто это была не она, а кто-то чужой, будто на аэродроме ничего не случилось, не было ни прилета полка, ни гибели в этом полку экипажа лейтенанта Башенина, которая всех потрясла. А перед тем, как открыть дверь, она своими ушами слышала, да только сперва не придала этому значения, как они тут о чем-то громко говорили и, кажется, спорили. Во всяком случае, она довольно отчетливо слышала возбужденный голос Вероники, а затем сухой и отрывистый голос Глафиры. А сейчас те же самые девчата сидели молча и неподвижно, словно никогда не знали, как открываются рты и произносятся эти слова, хотя, судя по всему, игра в молчанку давалась им нелегко. В первый миг Настя подумала, что они решили устроить себе передышку, да и ей дать возможность прийти в себя от случившегося, собраться с мыслями, тем более что они видели, как на аэродроме она в ужасе закрыла лицо руками, обнаружив, что самолета Башенина в строю «девятки» не было. Но подумала так лишь сначала, еще не осмотревшись как следует, больше того, даже почувствовала к ним что-то вроде признательности. Но потом, когда прошло еще сколько-то времени, а в землянке по-прежнему никто не пытался заговорить и не двигался, когда это молчание не только потеряло свою первоначальную необходимость, но и затянулось сверх всякой меры, Настя насторожилась, решив, что дело тут нечисто, и подозрительно повела глазами по сторонам. Она обнаружила, что на нее, оказывается, все время, пока она предавалась своим мрачным размышлениям у себя в углу, смотрели, причем смотрели исподтишка, чтобы она не заметила. Но она заметила и даже нашла эти их тщательно скрываемые взгляды во многом схожими с теми, какими они смотрели на нее тогда, на аэродроме, когда она, еще не зная о случившемся, мысленно вела с Башениным поединок. Тогда во взглядах девчат тоже было не одно лишь желание открыть ей поскорее глаза на случившееся, было в них и еще кое-что. Но что именно – тогда, в первый миг, ошеломленная предчувствием чего-то ужасного и непоправимого, она разобрать не могла. И вот снова те же взгляды, снова та же отчужденность в этих взглядах, хотя и приправленная видимым участием, и еще что-то такое, что сразу не разберешь. И Настя, теперь уже напугавшись этих взглядов, чтобы от них как-то защититься, хотя и понимала, что защищаться было невозможно, выпрямила спину, надменно подняла голову и дерзко оглядела всех девчат по очереди, теперь уже не только не боясь привлечь их внимание, а, наоборот, стараясь его вызвать. И тут же вздрогнула всем телом, точно ее ударило током: во взглядах девчат она прочитала осуждение. Ну, конечно же, как это она раньше не догадалась, что все это время девчата осуждали ее, и не иначе как за гибель экипажа лейтенанта Башенина. И пусть не прямо, не в лоб, но все равно это было осуждение, осуждение вперемешку с состраданием и жалостью. Их взгляды говорили ей, что в недобрый час, дескать, ты, Настя, отвергла этого человека и посмеялась над ним, не отвергни, дескать, ты его и не посмейся над ним, все, может, было бы иначе, а ты отвергла, посмеялась – и вот что из этого вышло. Именно это прочитала сейчас Настя во взглядах девчат, которые они старались притушить приспущенными веками. Это, конечно, было несправедливо, больше того, чудовищно, и Настя, пораженная своим открытием, хотела было тут же вскочить с койки и запротестовать, закричать на всю землянку, что она ни в чем не виновата, что она не желала этому несчастному лейтенанту Башенину зла. Но что-то в последний момент удержало ее, не дало оттолкнуться руками от жесткого ребра койки, и какое-то время она, изогнув спину, неподвижно просидела вот так, в мучительном напряжении, еще не понимая, что это было. И чуть позже поняла: исподволь копившееся чувство вины перед Башениным, словно она и впрямь была перед ним виновата, хотя до этого испытывала к нему, как и к его товарищам по экипажу, только жалость, и ничего больше. Правда, жалость эта тоже была не совсем обычной, во всяком случае не такой, какой бы она могла быть, если бы погиб кто-то другой в полку. Жалость к Башенину была глубже, острее и болезненнее, и Настя этому не удивилась, потому что Башенин уже успел как-то задеть ее чувства и мысли. Но что вот эта жалость вдруг возьмет да перерастет еще в чувство вины перед ним и заставит ее отказаться защитить себя перед девчатами, ничего не ответить на их чудовищно несправедливые взгляды, Настя никак не ожидала. Конечно, что-то вроде неловкости и стыда она до этого все же испытывала, особенно в первый миг на аэродроме, когда увидела, что лейтенанта Башенина, которого она именно в этот же самый миг мысленно разделывала под орех, в небе не оказалось. Но это ощущение было не столь уж сильным и глубоким, чтобы разрастись вглубь и вширь и по-настоящему ее испугать, его тут же подавил ужас от случившегося и острая жалость к этому малоизвестному ей летчику Башенину, не оставив места в душе ничему другому. И вдруг – это чувство вины, а вина – это уже не стыд и жалость, а что-то посерьезнее.
И потом появилось это чувство так неожиданно, что Настя, словно ей выстрелили в спину, крепко ухватилась за жесткое ребро койки и надолго застыла в этой неловкой напряженной позе, чтобы не упасть. Потом, когда сидеть так стало невыносимо, а делать что-то было надо, она вдруг резко встала во весь свой рост и, теперь уже не боясь наступать на скрипучие половицы, с пугающе деревянным спокойствием, хотя и плохо соображая, что и для чего она это делает, направилась к выходу.
Девчата ее не остановили. Не подбежали они и к окошку, когда дверь за нею захлопнулась, чтобы поглядеть, куда она пойдет дальше, хотя их и разбирало тревожное любопытство – их остановил суровый взгляд Глафиры.
А Настя и сама не знала, что она сделает и куда направит свои стопы дальше, когда выйдет из землянки. Она почувствовала только, что ей стало уже совсем невмоготу и надо непременно выйти, чтобы только не оставаться тут вместе с девчатами, не видеть больше их взглядов и не мучиться самой. И только когда вышла и огляделась, когда увидела над головой чистое синее небо и в этом чистом синем небе солнце, поняла, причем не то с радостью, не то с ужасом, что пойдет она не куда-нибудь, а в землянку к летчикам, хотя и плохо представляла себе, что там, у летчиков, будет делать и что говорить.
* * *
Так уж повелось в полку: когда случались потери, о погибших либо молчали, чтобы зря не пустословить да и себя не травить, не думать, а кто следующий, либо с дотошностью выискивали что-то такое, что могло бы в какой-то мере как-то объяснить, а то и оправдать случившееся. И делалось это всегда со знанием дела, солидно и неторопливо: если молчали, то долго и упорно, если же начинали копаться в причинах, то уж вытаскивали на свет божий все, что ни попадалось под руку, в том числе и такое, о чем в другой раз вслух постеснялись бы говорить.
Настя, конечно, ничего этого не знала, но, направляясь в землянку к летчикам, не сомневалась, что те сейчас больше, чем кто-либо другой на аэродроме, были удручены случившимся, что у них сейчас только и разговору было, как о лейтенанте Башенине и его экипаже. Но каково же были ее удивление, когда в ответ на свой робкий стук в дверь она услышала не «войдите» или «кто там?», ж самый что ни на есть натуральный смех, а потом, когда смех стих, чей-то голос: «Нет, ты посмотри, а! До крови прокусил. Вот стервец!» Настя подумала, что ошиблась землянкой. Но землянка была та самая, и тогда она постучала в дверь громче и, не дожидаясь ответа, решительно взяла ручку на себя. Вид у нее, когда она шагнула вперед, сразу попав из полутемного тамбура в полосу света, был, верно, не совсем дружелюбный, потому что летчики, еще не разобрав толком, кто это так бесцеремонно вторгся в их владения, тут же повскакали с мест и начали поспешно приводить себя в порядок. Потом, увидев, что это всего-то девушка из БАО, уставились на нее во все глаза и с вежливым любопытством стали ожидать, что она скажет.
Настя почувствовала это их любопытство, потому что улыбки тут же снова появились на их лицах, когда они оглядели ее с ног до головы, и, вскинув руку к пилотке, представилась, как того требовал устав:
– Сержант Селезнева. По личному делу я, узнать…
Она ожидала, что вслед за этим летчики пригласят пройти ее вперед и предложат где-нибудь присесть, скорее всего вон там, возле окна, под черной тарелкой старенького репродуктора, – передавали, кажется, сцену у фонтана из «Бориса Годунова»: где-где, а в авиации, как она знала, мужчины умели и любили показать уважительное отношение к женщине, даже если этой женщиной была самая распоследняя прачка.
Но предложения пройти и присесть, к ее удивлению, не последовало, а последовал вопрос:
– Что за личное дело?
Настя улыбнулась, хотя улыбаться после такого не совсем любезного вопроса, да еще заданного явно недружелюбным тоном, словно она тут им помешала, было не с руки. Но все равно улыбнулась: Настя узнала в задавшем вопрос того самого лейтенанта, который удивил всех на аэродроме тем, что прилетел сюда, в Стрижи, с кутенком – Майбороду по фамилии. Майборода как раз и возился сейчас с этим кутенком на полу возле порога, осторожно тыча того мордочкой в тарелку с молоком и одновременно поглаживая по шерсти. Но поскольку Настя замешкалась с ответом, невольно переведя взгляд тоже на кутенка, он, все так же не поднимаясь с пола, повторил свой вопрос, всем своим видом давая понять, что хозяева здесь они, а не она:
– Ну так что за личное дело?
– Насчет лейтенанта Башенина я, узнать, – наконец ответила Настя.
– Насчет Башенина?
– Да, узнать.
– Что именно?
– Все, а главное, как это произошло. Ну, как их сбили.
– А почему мы должны вам об этом рассказывать? Кто вы ему? Знакомая, что ли? А может, родственница?
Этот вопрос Майбороды еще больше озадачил Настю: что ей было сказать в ответ? Кто она лейтенанту Башенину в самом деле? Сказать, что никто, что она этого Башенина видела всего-то единственный раз в жизни, совершенно его не знает, что привело ее сюда какое-то мимолетное напугавшее ее чувство неосознанной вины перед погибшим, хотя она, видит бог, ни в чем перед ним не виновата, значило бы дать Майбороде, – а он тут явно верховодил, – повод поднять ее на смех и дать от ворот поворот. А у нее при одной мысли об этом уже подкашивались ноги, и, поколебавшись какую-то секунду, она вдруг выпалила:
– Да, родственница.
И тут же намертво сомкнула рот, ужаснувшись сказанному. А ужаснувшись, собралась было поскорее обратить все это в шутку, но не успела набраться духу, как Майборода, посмотрев на нее уже более внимательно, опередил ее, проговорив опять недружелюбным тоном и этим как бы отрезая ей путь к отступлению:
– Родственница – это интересно, родственницам Виктора Башеннна мы всегда рады. Только вот какая – близкая или дальняя? Сдается, дальняя?
– Да, дальняя, но не очень, – опять бесстрашно солгала Настя, и на этот раз, верно, уже не столько потому, что отступать было поздно, а сколько, пожалуй, из-за этих вот унизительных вопросов и недружелюбного тона Майбороды, которые начали ее пугать и раздражать одновременно. А может, тут сказалось и то, что остальные летчики, как только услышали, что она родственница лейтенанту Башенину, выразительно шевельнулись и посмотрели на нее, наоборот, с полным пониманием и сочувствием и, кажется, были даже готовы вступиться за родственницу их несчастного однополчанина, если Майборода не подберет для разговора более подходящий тон, – они явно симпатизировали Насте.
– Двоюродная сестра я лейтенанту Башенину, – добавила она уже смелее.
– Двоюродная – это не дальняя, это уже ближе, – отозвался Майборода. – Близкая родственница – это когда по крови.
– Разумеется, товарищ лейтенант. Вот я и говорю, по матери я сестра лейтенанту Башенину, – уточнила Настя, холодея от удивления, как это она, оказывается, ловко умеет врать и при этом не краснеет.
Летчики в ответ опять согласно закивали головами, радостно заулыбались, что означало, верно, не одно только согласие, но и еще кое-что, отчего кровь у Насти прихлынула к вискам и вся она как-то преобразилась, стала еще восхитительнее в своем вранье.
И только один Майборода опять позволил себе проговорить в мрачном раздумье:
– Что-то Виктор никогда не говорил, что у него была взрослая сестра. Мать, отец – это мы знаем. Брат еще, пехотинец, а вот чтобы сестра…
Если человек начинает врать, врать даже во имя святой цели, остановиться ему бывает уже невмоготу, он врет уже напропалую до последнего, стараясь не задумываться, чем все это может для него кончиться, хотя и пугаясь при мысли об этом конце. Его словно захватывает что-то, связывает по рукам и ногам и несет в какую-то беспредельную даль, и он уже не в силах что-либо сделать, что-либо предпринять, даже если захочет. Вот и Настя, сказавшая один раз неправду и готовая уже было тут же отказаться от своих слов, но не сделавшая этого, сейчас тоже, как бы в силу инерции, была вынуждена говорить неправду и дальше. Поэтому в ответ на новое сомнение Майбороды она без колебания заявила, правда, стараясь теперь не глядеть ни в сторону Майбороды, ни в сторону почтительно замерших в молчаливом ожидании летчиков:
– Так мы же, товарищ лейтенант, с детства в разных городах жили. Только в детстве и виделись. В лицо, наверное, и не узнаем друг друга, если встретимся. Он даже не знает, что я в армии, на фронте. Наша семья в Сибири живет…
Настя не знала, что лейтенант Майборода тоже был коренным сибиряком, как она не знала и того, что для Майбороды встретить на фронте сибиряка было все равно, что встретить родного брата, если не больше. Услышав слово «Сибирь», Майборода тут же поспешно поднялся с пола, оставив своего кутенка, радостно раздул широкие ноздри и переспросил:
– В Сибири, говорите? Не в Новосибирске, случаем?
– В Новосибирске, – ответила Настя, на этот раз не погрешив против истины и мгновенно почувствовав, какое же это, оказывается, счастье после столь отвратительного вранья сказать самую обычную правду – она и в самом деле была из Новосибирска. И обрадованная этим, добавила уже бойче и каким-то другим, словно расцветшим голосом, не сомневаясь, что и Майборода, несмотря на свою украинскую фамилию, тоже, конечно, из Новосибирска и что опасаться его больше тогда ей нечего: – Я на улице Щетинкина жила, товарищ лейтенант, недалеко от базарчика. И оперный театр недалеко. Улицу Щетинкина знаете?
– Как не знать, – расцвел Майборода в улыбке.
– Только на Щетинкина не сразу, – уточнила Настя, увидев, что он слушает ее не с одним лишь вниманием, но и с удовольствием. – Сначала-то мы жили возле вокзала, на улице Ленина, это до восьмого класса, а с восьмого – на Щетинкина. Помните вокзал, конечно? Не забыли? Самый большой в стране, нигде, говорят, больше такого нету. А Обь?
– О-о, Обь! – простонал Майборода. – Водичка – первый сорт. Получше чем в Черном море. Залезешь – и вылезать не хочется.
– Переплывать пробовали?
– Туда и обратно – без отдыха, – не без гордости подтвердил он и, чтобы в ответ сделать и Насте что-нибудь приятное, раз она заговорила о дорогих его сердцу местах, одни лишь названия которых звучали для него музыкой, Майборода пошел еще дальше, добавив со значением: – А я на Красном проспекте жил, слева от оперного театра. Так что мы с вами, оказывается, не только земляки, но и соседи. Кстати, как вас по имени, вы не сказали?
– Настя, Анастасия…
Майборода на мгновение нахмурился – это имя ему было уже знакомо, таким именем должна была называться на этом аэродроме девушка, с которой намеревался познакомиться Виктор Башенин. как сам он, в свою очередь, намеревался познакомиться с тихоней Сониной. Уж не она ли эта самая Настя – Анастасия и есть, что-то уж слишком подозрительно она походит как раз на ту Настю, на которой остановил свой выбор его друг. Тут все удивительно совпадало, если, конечно, верить описаниям девчат: и рост, и глаза, и эта сдержанность в движениях, а теперь вот еще имя. Не могло же быть на аэродроме двух Насть с абсолютно одинаковой внешностью. Правда, фамилии той, первой Насти, он не знал, фамилия ее вчера не называлась, называлось только имя, и поэтому насторожившую его мысль он тут же отогнал как нелепую и в свою очередь тоже счел нужным назвать себя:
– Лейтенант Майборода. Звать Василием. С Виктором мы одно училище кончали. И летали вместе, в одной эскадрилье. – Потом, снова помрачнев, добавил уже удрученно: – Сбили его, Настя, зенитки сбили, язви их душу. «Мессеров»-то не было. Как раз на выводе из пикирования. Снаряд угодил, прямое попадание. Ну, самолет, ясно, загорелся. Я-то сам не видел, ребята видели. Мы в это время только отбомбились и делали разворот. Ну, выбросились они, конечно. На парашютах все трое выбросились.
– Значит, живы? – встрепенулась Настя – она готовилась к худшему.
– Живы, понятно, раз выбросились, – не очень-то уверенно подтвердил Майборода, кося глазами на остальных летчиков и как бы призывая их на помощь. – Повторяю, сам-то я не видел, видели ребята. Вот Константин видел, – кивнул он в сторону низкорослого летчика в брезентовых сапогах, стоявшего с сумрачным видом возле окна и не сводившего все это время с Насти грустного взгляда. – Многие видели. А вот приземлились ли, никто сказать не может. Далековато было, да и зенитки продолжали лупить по нам и в хвост и в гриву. Но приземлились, конечно, не могли не приземлиться, раз выбросились…
У Насти отлегло от сердца. Но не совсем: Настя не была уж такой наивной, чтобы не понимать, что выброситься над территорией врага из горящего самолета-одно, а в живых остаться – другое, У нее даже нервно дрогнули веки, когда она после слов Майбороды вдруг представила себе, что во время приземления тот же лейтенант Башенин мог запросто сломать себе ногу, руку или, того хуже, угодить в лапы гитлеровцам. А пожар в самолете? Разве Башенин не мог еще тогда, в горящем самолете, обгореть до костей или быть раненым? Кто тогда с уверенностью мог сказать, что он покинул самолет не последним усилием воли и парашют доставил на землю не мертвое тело, а живого человека? И только подумала об этом, обожгла новая мысль: почему же тогда летчики не подождали до последнего, чтобы своими глазами убедиться, чем там у них, этих трех несчастных, кончилось, как они достигли земли, благополучно или нет? Разве не могли они сделать над ними круг и, убедившись, что у них там все более или менее в порядке, помахать на прощанье крыльями, чтобы поддержать дух, как это иногда, она знала, делалось на фронте в подобных случаях? Вот эта мысль, хотя она в отличие от первой как раз и была наивной, и заставила Настю посмотреть на Майбороду и его товарищей уже не растерянно и виновато, а с непроизвольным укором. И летчики, за исключением Майбороды, который опять был вынужден склониться над заскулившим кутенком, почувствовали этот ее немой укор, правда, истолковав его несколько по-своему, Они вдруг обступили Настю со всех сторон и, уже не стесняясь, начали утешать ее, кто как мог, напирая на то, что отчаиваться пока рано, что на войне и не то бывает. Кто-то привел случай: в прошлом году у них в полку на глазах сбили один самолет, изрешетили, казалось, до дыр, а экипаж, глянь, и вернулся, да еще целехоньким, без единой царапины. Так, дескать, может случиться и с Башениным и его товарищами по экипажу. Особенно горячо это доказывал тот самый низкорослый лейтенант в брезентовых сапогах гармошкой, на которого сослался Майборода, назвав Константином. Кстати, этот же лейтенант (Настя потом догадалась, что это был Константин Козлов), когда ей пришло время возвращаться назад, вызвался ее проводить. Настя поняла, что с его стороны это было сострадание к ее горю.








