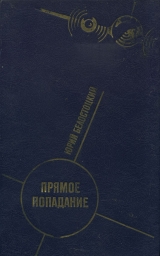
Текст книги "Прямое попадание"
Автор книги: Юрий Белостоцкий
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 26 страниц)
XVI
Легла в этот день Настя поздно. Выпуск стенгазеты занял много времени, так что, когда они с Раечкой вернулись из Ленинской комнаты в землянку, была уже полночь. По дороге в землянку Раечка без умолку тараторила о своем Константине Козлове, который тоже допоздна был вместе с ними, помогая им клеем и ножницами. Настя, чтобы не шептаться о нем с Раечкой еще и в землянке, быстро разделась и улеглась в постель, благо, света не было. Она была возбуждена не меньше Раечки, и приятный холодок от простыни с одеялом, и тишина вокруг, и темнота подействовали на нее успокаивающе. Она долго пролежала так, расслабившись всем телом, без движений и мыслей и не замечая времени, только подсознательно чувствуя, что ей покойно и хорошо. Потом, когда тело перестало чувствовать холодок постели и дыхание пришло в норму, она закрыла глаза, чтобы уснуть – подъем был в шесть. Но уснуть не смогла, как ни пробовала – что-то ее вдруг после этих нескольких блаженных минут тишины и покоя стало смутно беспокоить. Настя подумала, что это от впечатлений, которыми был так богат сегодняшний день, и еще, наверное, от долгого лежания на спине. Она уже не раз замечала, что, когда ложилась на спину, сон обходил ее стороной, и как она ни старалась заснуть, ни обманывала себя, ничего не получалось, только измучивалась. Но стоило ей перевернуться на левый бок, то есть занять любимую с детства позу – правую руку вдоль тела до бедра, согнутую левую ногу до упора в живот, – и она мгновенно засыпала. И Настя, помучившись еще немножко, перевернулась на левый бок и согнула левую ногу в колене настолько, что едва не касалась ею подбородка, и полежала так, стараясь не шевелиться и ни о чем не думать, еще минут пять, если не больше. Но сон все равно не шел, ходил где-то вокруг да около, а беспокойство возрастало, хотя оно и не было столь мучительным, как всегда. Настя не удивилась. Она уже привыкла, что в последние дни ее всегда что-то тяготило, неважно, бодрствовала она или отдыхала. Правда, беспокойство на этот раз не походило на прежнее и, как ей показалось, не было связано с лейтенантом Башениным. Но все равно лежать вот так и ощущать его чуть ли не физически ей было неприятно, и думать, что бы оно могло означать или предвещать, это смутное беспокойство, тоже было неприятно, тем более что в противоположном углу вдруг кто-то, верно, тихоня Сенина, а может, кокетливая Вероника, начал ворочаться с боку на бок и тяжело, с надрывом, вздыхать. Настя, чтобы не слышать этих вздохов и отогнать тревожившие ее мысли, тут же решительно и как бы назло себе легла на живот, хотя это была не лучшая поза, и с головой накрылась одеялом. Одеяло было грубое и колючее, но все равно это ее немножко отвлекло и успокоило, и она опять почувствовала, что мир устроен не так уж плохо и быть человеком в этом мире тоже не так уж плохо. Однако дышать под толстым одеялом, уткнувшись лицом в подушку, вскоре стало трудно, да и лежать в этой непривычной для нее позе тоже было нелегко, и через какое-то время она была вынуждена снова раскрыться и снова принять прежнюю, привычную с детства, позу.
Первый же глоток свежего воздуха дал Насте понять, что она заблуждалась, когда думала, что беспокойство, сейчас снова ее охватившее, было связано не с Башениным, а с чем-то другим. Нет, это опять, как вчера и позавчера, было то же самое, это опять был Башенин, только, обманутая успокаивающим холодком постели и тишиной после такого суматошного дня, она не сразу в этом разобралась, а может, и не хотела разобраться, намеренно себя обманывая. Теперь же, как только она мало-помалу успокоилась и мысли снова обрели относительную стройность, когда уже ничто не могло отвлечь ее от привычных для последнего времени дум, она поняла, что причиной беспокойства все-таки опять был тот же лейтенант Башенин, а не что-то другое. Только он, Башенин, в этом можно было уже не сомневаться, и она больше не сомневалась, тут же смирилась с этим, как с неизбежным испытанием для себя, и мысленно приготовилась терзаться хоть всю ночь до утра. Но, странное дело, в тот же миг она почувствовала еще с заметным облегчением и тихой радостью, что это открытие ее ничуть не испугало, хотя и должно было бы вроде испугать и разбудить дремавшее чувство вины перед ним, а, наоборот, приятно возбудило, мгновенно возвратив ее к тому времени, которое она провела с Раечкой в Ленинской комнате за выпуском стенгазеты и где вместе с ними находился лейтенант Козлов, пока его не отозвали по какому-то делу к себе в полк. Именно тогда, в Ленинской комнате, склонившись над стенгазетой и прикидывая, куда бы получше пристроить фотографию с лейтенантом Башениным, на первую колонку или посредине, Настя впервые почувствовала, что этот человек ей, оказывается, вовсе не безразличен, как она думала и продолжала думать до сих пор, что он вовсе ей не посторонний и чужой, а чем-то очень и очень близок и даже дорог. Может, как раз тем, что их имена на аэродроме так часто ставились рядом в эти дни, может, потому, что гибель Башенина так стремительно и болезненно вошла в ее жизнь. Потом она подумала, что ей было бы не так уж, наверное, неприятно и безразлично увидеть его после всего того, что произошло в эти дни на аэродроме, было бы интересно поговорить с ним, услышать его голос, разглядеть улыбку и шрам на лице. Ей совсем небезразлично было бы узнать также и о том, как бы он сам, какими глазами посмотрел на нее, когда бы они встретились лицом к лицу, не остался ли бы он к ней абсолютно равнодушным или, наоборот, тоже проникся бы симпатией, как вдруг прониклась симпатией к нему она. И от этих необычных чувств и мыслей у Насти тогда, в Ленинской комнате, защемило сердце и закружилась голова, и она долго и как-то по-новому, с боязливым любопытством и удивлением, смотрела на фотографию перед собой, и, хотя на фотографии толком невозможно было разобрать ни глаз, ни носа, ни бровей Башенина, только общее выражение лица да еще разве чуть выпяченный вперед подбородок, она все равно только больше укреплялась в мысли, что это, пожалуй, как раз и есть тот человек, который способен ее по-настоящему взволновать и которого она сможет полюбить без оглядки. И только подумала так, как тут же начисто забыла о своем чувстве вины перед ним, словно его, этого чувства вины, никогда не было, оно никогда до этого ее не угнетало, и весь вечер, пока стенгазета не была готова и пока им с Раечкой не пришло время возвращаться в землянку, была необычно оживленна и взволнованна, хотя рта больше не раскрывала, боялась, как бы не проговориться и не выдать себя с головой. И снова и снова обращала она свой взор к этому человеку в комбинезоне на сером снимке, осторожно водила по нему пальцем, дорисовывая воображением то, чего фотоаппарат не мог нарисовать: его взгляд, жест, профиль, по-детски доверчивую улыбку, затаившуюся в углах совсем не детского, а твердого мужского рта, наклон головы, снова улыбку, нахмуренные брови – и так без конца. Потом это вдруг так же неожиданно, как и возникло, прошло. И то ли потому, что за Козловым, который помогал им в работе и развлекал Раечку разговорами, явились из полка, и Насте пришлось хоть на время да отвлечься от этих своих мыслей, чтобы с ним попрощаться и еще раз поблагодарить за фотографию. То ли потому, что у Раечки после ухода Козлова все начало валиться из рук, и Настя была вынуждена теперь изрядно пыхтеть над стенгазетой и за нее, то ли еще по какой другой причине, а только чувство это и впрямь вдруг исчезло, вызвав у Насти что-то вроде тихого удивления, а потом такого же тихого разочарования и грусти, как если бы над нею кто-то неумело подшутил или она сама над собой подшутила.
И вдруг вот то же самое чувство, о котором она так легкомысленно позабыла, сейчас здесь, в землянке, снова охватило ее, и у нее снова обнесло голову и сладко защемило сердце. Это тоже было так неожиданно и так же, несмотря на повторение, вчуже ново, что первое время она не знала, обрадоваться ли ему, этому вернувшемуся чувству, что возбуждало, но сулило неизвестно что, или, наоборот, воспротивиться, как она попробовала воспротивиться в прошлый раз, хотя и безуспешно, и скорее для очистки совести, чем всерьез. И от нерешительности, длившейся то ли целую вечность, то ли всего какое-то мгновение, сообразить она не могла, в теле у нее появилась предательская слабость и дрожь, а во рту вязкость, словно только что наелась недозрелых яблок. И она не могла избавиться от этой слабости и от этой вязкости во рту, пока наконец не на шутку взволнованная этим, хотя и понимала, что все это ерунда и может вот-вот пройти, не догадалась снова сменить позу. Резкое движение и скрип кровати в ночной тишине вернули ей ощущение покоя и уверенности, она снова с облегчением почувствовала и свое молодое тело, втиснутое в узкую койку, и живительную силу воздуха, как если бы это был чистый кислород, и свое шумное и частое дыхание. Но разум ее по-прежнему продолжал если и не противостоять охватившему ее чувству, то быть настороже. Но то был разум, всего лишь холодный разум, а чувству девичьему здесь, в ночной тиши и темени, где не было ни чужих взглядов, ни голосов, ни подозрительных улыбок, ни шепота за спиной, где все безмолвствовало и было так призрачно и таинственно, был неограниченный простор, чувству здесь ничто не мешало, и оно в конце концов взяло над разумом верх. И Настя тут же снова, только на этот раз уже приятно обессиленная, расслабившись всем телом, с радостной доверчивостью отдалась ему без остатка, не играя с собой, а воспринимая его как должное, даже как своего рода награду за свои недавние страхи и переживания, что обрушились на нее как раз из-за этого человека, хотя и не по его вине. Она снова, хотя и продолжала все еще лежать с закрытыми глазами из боязни спугнуть это чувство, увидела лейтенанта Башенина во весь его большой рост, только уже не на фотографии возле самолета, где его надо было мысленно дорисовывать, а рядом с собой, будто он стоял тут же, в землянке, возле ее койки, и с мягкой, но требовательной улыбкой смотрел на нее и ждал, когда она доверчиво протянет к нему руки, чтобы уже никогда не выпустить их из своих. Настя понимала, что это наваждение, сладкий обман, что это ей просто так сейчас захотелось, чтобы он стоял тут, рядом с нею, и ждал ее решающего шага. Но это наваждение, этот обман были настолько головокружительно-приятны, что ей действительно потребовалась известная твердость духа, чтобы не поддаться соблазну и не ответить на его призыв. Но даже и пересилив себя, она все равно почти не сомневалась, что стоило ей протянуть руки – и она бы дотронулась до него, ощутила его, услышала его дыхание и была бы от этого безмерно счастлива. Но она боялась это сделать, как боялась излишне радоваться охватившему ее чувству, и продолжала лежать все так же без движений, словно в полусне, пока вдруг не представила его уже не рядом с собою, а там, в темном глухом лесу за линией фронта, представила одиноким и беспомощным. Это было так неожиданно и жутко, что Настя не сдержалась и резко повернулась на койке и шумно задышала, забыв, что уже давно ночь и в землянке она не одна, и тут же замерла, услышав сбоку справа тихий шепот:
– Не спишь? Все о Башенине, поди, вздыхаешь?
Справа от Насти, через узкий проход, стояла койка Глафириной заместительницы Клавдии Марковой. Когда Настя пришла в землянку, Клавдия спала, как всегда, закинув руки за голову. А может, Насте тогда показалось, что Клавдия спала, потому что дыхание у Клавдии было вроде ровное и спокойное, какое бывает как раз у спящих. И не шевелилась она все это время, пока Настя раздевалась и укладывалась в постель, шурша одеждой и одеялом. Но Клавдия, оказывается, не спала, а только делала вид, что спала, и, возможно, наблюдала за Настей исподтишка все это время, тем более что та вернулась в землянку в неурочный час и долго еще ворочалась с боку на бок. Правда, ничего опасного в том, что Клавдия не спала и даже наблюдала за нею, не было, Клавдия была хорошей приятельницей Насти, всегда держала ее сторону и подозревать ее в чем-то предосудительном было невозможно. Но вот что Клавдия оказалась близка к правде, вдруг прочитала ее потаенные мысли о том, в чем Настя завтра, быть может, и себе не призналась бы, да еще заявила ей об этом почти напрямик, было так неожиданно, что Настя суеверно вздрогнула и долго ничего не отвечала, словно ничего не слышала. Лишь когда обычно деликатная Клавдия, вдруг изменив этой своей деликатности, повторила вопрос, ответила не своим голосом:
– С чего ты взяла? Навыдумываешь.
– Ничего не выдумываю, – убежденно проговорила Клавдия. – Я ведь вижу.
– Скажи на милость, она еще видит.
– Да, вижу. Все, Настя, вижу, не думай.
– Что же ты видишь, интересно знать? – голос у Насти еще не пришел в норму, но заметно набирал силу. – Что-нибудь из области фантастики?
Вместо ответа Клавдия сначала поворочалась немножко под одеялом, верно, подбирая для разговора позу поудобнее, а может, просто собиралась с мыслями и тянула время, потом вдруг предложила:
– Может, лучше спать будем? Время позднее, а в шесть – подъем.
– Ну уж нет, – решительно возразила Настя, потом, откинув одеяло в ноги, села, согнув ноги в коленях, и потребовала: – Начала, так договаривай. Нечего тут…
Насте действительно нестерпимо захотелось вдруг, чтобы Клавдия сейчас же договорила до конца все, что хотела сказать, а не играла бы с нею в прятки, тем более что заговорила она о Башенине, а не о ком-нибудь другом и, по сути, попала в точку. Она почувствовала в этот миг, что если Клавдия сейчас промолчит или отделается шуткой, она не выдержит и сама наговорит ей бог знает что. И Клавдия каким-то образом, хотя в землянке было темно и Настю было не разглядеть, поняла это ее состояние и ответила со смешком, на который, правда, было трудно обидеться:
– Ну и глупая ты, Настя, честное слово. И смешная до ужаса. Ну, о ком же тебе еще и вздыхать, как не о Башенине. Не о лейтенанте же Козлове, когда о нем день и ночь вздыхает Раечка? Да Козлов еще и здесь, всего-то в другой землянке – пошла и увидела, а Башенина нет, Башенин сбит. Вот ты и вздыхаешь, мучишься, изводишь себя, глядеть жалко. Прошлой ночью, если хочешь знать, ты даже во сне металась, все его звала, чуть ли не криком кричала…
Настя опешила: ничего подобного за собою она не замечала и что могла кричать во сне – тоже не подозревала. Но поняла, что Клавдия говорила правду, а эта правда ужаснула ее, как до этого ужаснула мысль, что человек, которого она почти что уже полюбила, сбит и на аэродром никогда не вернется. Но показать, что Клавдия ее напугала, Настя не захотела и потому ответила ей таким тоном, будто речь шла о пустяках:
– Подслушиваешь, выходит?
– Куда там подслушивать, когда ты чуть ли не на всю землянку кричала. Ладно еще девчат не разбудила, – усмехнулась та. – А то был бы концерт. – Потом, потянувшись до хруста в костях и выразительно вздохнув, добавила не без подначки: – Да уж не полюбила ли ты этого самого лейтенанта Башенина? А ну-ка, признавайся, голубушка!
Это было уже чересчур, и Настя готова была вознегодовать, услышав подобное предположение из уст Клавдии. Но не вознегодовала. Посидев так истуканом, точно в этот момент шея у нее от неожиданности вросла в позвоночник, несколько мучительных секунд, она вдруг обреченно уронила голову себе на колени и произнесла почти одним движением губ:
– Кто знает, Клава, может, и полюбила, если уж во сне кричу. – Потом, снова выпрямившись и как бы желая показать Клавдии, что теперь-то, после такого признания, ей уже все нипочем, добавила свистящим шепотом, в котором почувствовался вызов: – А что? Или заказано? Кто может запретить? Полюбила – и все тут. Кому какое дело? Или Башенин, скажешь, хуже других? Хуже Раечкиного Козлова или гордеца Кривощекова? Полюбила и буду любить, никто мне запретить не может, потому что, видно, так мне на роду написано, такая, значит, у меня судьба – полюбить Башенина. – Затем, увидев, что Клавдия над нею не только не смеется, а, наоборот, слушает с сочувствием, взяла другой тон, уже доверительный и чистосердечный, взывающий к душевности – Конечно, я понимаю, Клава, все это выглядит смешно и несерьезно, но тут действительно что-то есть. Даже сама удивляюсь, но ничего поделать с собой не могу. Нашло вот что-то, накатило и понесло куда-то, как под гору… Особенно сегодня. А может, просто я запуталась и вообще перестала что-то понимать. Кто знает? Может, и перестала. И все, наверное, из-за этого самозванства проклятого. И как только у меня тогда язык повернулся? Я уж и поревела сегодня…
Серьезное это было признание, если учесть, что по природе Настя вообще-то распахивалась редко, была намного сдержаннее остальных девчат. Но, верно, слишком уж много наболело у нее на душе за эти дни, и ей, верно, стало невмоготу, что она вдруг разоткровенничалась. И Клавдия поняла сейчас ее. Но ни охать, ни утешать не стала, а продолжала все так же, как заведенная, сокрушенно покачивать головой в темноте, хотя Настя больше не говорила, а тоже выжидающе молчала. И лишь когда молчание начало угрожающе затягиваться, осторожно спросила:
– Ну и что же ты теперь собираешься делать?
Настя, несмотря на подавленность, оказалась готовой к такому вопросу и сразу ответила:
– Завтра же утром пойду к летчикам и расскажу все, как есть.
– Давно пора, – одобрила это ее решение Клавдия. – Только предупреди остальных девчат, чтобы знали, что к чему, и не испортили бы все дело. А дальше?
– А вот-дальше не знаю, – чистосердечно призналась Настя, потому что она и в самом деле не знала, что бы она сделала дальше. Потом, зябко передернув плечами, нерешительно добавила: – Наверное, буду ждать возвращения лейтенанта Башенина, если он только вернется.
– А если не вернется?
Похоже, что Настя не услышала этого вопроса Клавдии, потому что никак не отреагировала на него. Она долго, даже очень долго сидела в той же, казалось, невозмутимой позе как неживая и глядела незрячим взглядом куда-то в темноту. Потом вдруг нервно повела плечами и попросила сдавленным от напряжения голосом: – Давай лучше спать, Клавдия, а то зареву. Ей-богу, зареву-у.
И заревела, уткнувшись лицом в колени.
XVII
Приблизительно в то же время, когда Настя ударилась в рев, в далеком лесу, за линией фронта, там, где южный склон безымянной сопки заканчивался заброшенным либо вовсе ничьим минным полем, – метровые палки, воткнутые в землю, на палках мины, а между ними проволока, чтобы человеку было за что задеть и подорваться, – в черное небо взмыла ракета. Ракета тотчас же высветила нездоровым светом сначала редкий лес с кустарником по склону сопки и расселину между скал, а затем, набрав силу, выхватила из кромешной тьмы и это минное поле, чем-то похожее на аккуратное сельское кладбище с крестами, жиденькие тени от которых тут же испуганно заметались из стороны в сторону, заприплясывали, словно от света им стало невтерпеж и они не знали, куда себя деть. Затем – ракета еще не успела достичь начинающегося за минным полем леса – с сопки скороговоркой ударил автомат, и тени на минном поле вовсе поджали под себя ноги, и сразу сделалось на поле пусто и неприютно. Зато на сопке что-то заблестело и как бы задвигалось, меняясь местами, и при желании можно было даже разглядеть, как там, где-то за выступом верхней скалы и частоколом деревьев, видно, скрывавших фигуру автоматчика, заплясал язычок пламени. И плясал долго, почти без перерыва, только меняя цвет и накал, и от этого пламени и от грохота автомата тут же пробудился и тревожно завздыхал лес, почернело и заохало небо, отпрянув тут же куда-то вглубь, в густую черноту ночи.
Потом, когда ракета, так и не достигнув леса, погасла и автомат тоже смолк, темнота снова, как и минуту назад, сомкнулась над этой сопкой и снова вокруг стало так первозданно тихо, что два человека, которые во время вспышки ракеты и автоматной очереди, заставших их врасплох, распластались на земле как тени, услышали дыхание друг друга, хотя и тот и другой старались не дышать. Они лежали невдалеке от автоматчика, шагах в ста, в неглубокой ложбинке, заросшей травой и кустарником и как нарочно густо выложенной в середине камнем.
Эти двое были Башенин и Кошкарев.
Башенину не повезло. Когда ракета уложила его наземь, а автоматная очередь заставила от неожиданности зажмурить глаза, он зашиб коленку и вдобавок еще угодил лицом в один из камней и раскровенил лицо. Он со страхом подумал, что остался без глаз. Но попробовать открыть их сразу не решился – побоялся, что открыть не сможет, а если и откроет, то все равно ничего не увидит, ну а если что-то и увидит, то это обязательно будет автоматчик, и этот автоматчик будет целиться ему в лоб. Но глаза вдруг открылись сами собой, без усилий, и он почувствовал, что видит, хотя и не так отчетливо, как до этого. И автоматчика перед ним не было, а была лишь темень и мокрый от крови камень, похожий на подкову, который он сначала все же ощутил щекой, а уж потом, когда приподнялся на локтях, разглядел. И в тот же миг услышал позади себя дыхание Кошкарева. «Жив», – с внезапной радостью подумал он, хотя и понимал, что ни раненым, ни убитым Кошкарев быть не мог, разве что зашибся или поцарапался изрядно – автоматчик, по всему видать, стрелял наугад и явно не в их сторону. Это он успел заметить еще при падении по светившейся трассе – трасса уходила намного правее, скорее всего туда, где действительно не то что-то треснуло, не то звякнуло. Но все равно подумать, что Кошкарев жив и находится рядом, только протяни руку, ему в этот миг было приятно, и от этой приятности, а может, и от нервной дрожи, что не отпускала его, он опять зажмурил глаза и пролежал так, без движений, еще несколько времени, которого, впрочем, оказалось вполне достаточно не только для того, чтобы окончательно вернуть потерянное было ощущение собственного тела, но и привести в порядок мысли. Потом, втянув через нос побольше воздуху, он попробовал шевельнуть ушибленной ногой. Это ему удалось и тоже несказанно обрадовало, как минуту назад обрадовало дыхание Кошкарева, – нога слушалась безотказно и боль в коленке тоже больше не беспокоила. Теперь не плохо было бы повернуться в сторону Кошкарева и дать ему знать, что у него тут все в порядке и что через минуту-другую, если ракет больше не будет, надо отсюда убираться подобру-поздорову. А то, не ровен час, может скоро рассветать, и тогда им тут явно несдобровать: автоматчик, если у него тут пост, на этот раз предпочтет палить уже не просто в белый свет как в копеечку, а в живые мишени. Но поворачиваться в сторону Кошкарева ему не пришлось и подавать знака тоже не потребовалось – Кошкарев вдруг сам оказался рядом, подполз к нему с правого боку как ящерица и дохнул в лицо с неподдельным возмущением:
– Вот, гад, стреляет…
Это «стреляет», да еще произнесенное таким тоном, словно автоматчик и в самом деле действовал не по правилам и допустил по отношению к ним бог знает какую подлость, было до того неуместно, что Башенин, вместо того чтобы на правах командира сердито одернуть его за опасную в таких случаях самодеятельность, не выдержал и улыбнулся от уха до уха, потом проговорил:
– А ты как думал?
Кошкарев не увидел в темноте его улыбки и, все еще кипя от возмущения, снова щекотнул его в самое ухо, только уже не по поводу стрельбы гада-автоматчика, а насчет увиденного им минного поля, и в голосе его на этот раз Башенин уловил не одно лишь возмущение:
– Вот бы напоролись, товарищ лейтенант.
Действительно, ни Башенин, ни Кошкарев до того, пока немец не запустил в небо ракету, не подозревали, что тут было именно минное поле и они вышли как раз к нему, не дойдя до первого ряда кольев какой-то, может, полсотни шагов. Они думали, что перед ними обычная лесная поляна, за которой, по предположению Башенина, начиналась ничейная, а может, даже наша территория, куда они и стремились на всех парах. А тут вдруг – мины, да еще какие-то не такие, какие им приходилось видеть до сих пор – не мины, а черт знает что такое. Вот Кошкарев и ахнул, первым увидев их перед собой вместо чистенькой поляны, не вытерпел и подполз, пренебрегая опасностью привлечь внимание автоматчика, к Башенину, чтобы предупредить его об этом, если тот еще не успел разглядеть. Но Башенин и сам увидел, что надо было увидеть, хотя и не сразу, и поразился увиденным не меньше Кошкарева. Правда, попервости он попробовал было утешить себя мыслью, что это, быть может, ему с испуга показалось, что никакого минного поля тут не было и нет, а просто кто-то когда-то, может еще до войны, для каких-то нужд навтыкал в поляну колышков да и забыл про них. Могло ведь и показаться, тем более что ракета светила не так уж долго и не слишком ярко, да и автоматная очередь быстренько уложила их на землю, и им было уже не до разглядывания окружающих красот. На деле же выходило, что не показалось, раз об этом заговорил и Кошкарев. Один он еще, конечно, мог ошибиться, а двое – вряд ли, тем более что у Кошкарева, как Башенин уже успел убедиться за эти дни, глаз на такие дела был наметан. Поэтому Башенин какое-то время не знал, что сказать ему в ответ, – слишком уж все это было так неожиданно и так все это вдруг спутало им в последний момент карты, что он предпочел пока промолчать, чем отделываться ничего не значащими фразами. А потом он пришел к выводу, который несколько его утешил: ведь как бы там ни было, а немец этой своей проклятой ракетой, как, впрочем, и стрельбой, сыграл им все же на руку. Ведь не окажись он здесь в этот час, не освети ракетой местность, они бы с Кошкаревым наверняка, как у них уже было условлено, махнули бы к тому лесу как раз через эту поляну и, конечно, тут же бы подорвались на минах.
* * *
А немец, сам того не ведая, предупредил их о грозившей опасности, ненароком отвел от них беду. Так что, как говорится, нет худа без добра, и этого проклятого немца, может, еще за это надо благодарить: теперь-то уж они не сунутся куда не надо, а возьмут, если все обойдется, значительно левее – местечко тут такое, оказывается, есть.
С другой стороны, он, этот чертов немец, теперь, после всего случившегося, не даст им, наверное, долго головы поднять, если у него здесь, понятно, действительно секрет или пост, и уходить до рассвета он отсюда не собирается. Это уж точно – не даст. К тому же он еще и встревожен чем-то, раз только что палил из автомата с таким остервенением. Зря палить не станет, не дурак. Выходило, что он тут что-то заподозрил, и сейчас, после всего этого, глаз, поди, с округи не спускает, за каждым кустом следит как сыч, чуть что – и начинит тебя свинцом по самую макушку. Значит, выход один: затаиться тут пока и ждать, сколько только возможно, хотя лежать в таком положении неудобно, а потом, если ничего такого за это время не случится, – ползком назад, обратно в тот овражек, в котором они благополучно дождались сегодняшней ночи и из которого выбрались перед тем, как очутиться здесь. Там, в овражке, будет безопасней, там можно будет без помех подумать, как быть дальше, придумать что-то новое. Конечно, на худой конец, можно попробовать выманить этого проклятого немца из его норы и тихонечко, так, как это обычно делают разведчики в пехоте, прикончить ударом, скажем, финки между лопаток. Это было бы, пожалуй, лучше всего. Но как это сделать, когда не знаешь, один он, этот чертов немец, или их там дюжина, да только остальные пока себя не обнаруживают, таятся до часа, чтобы потом навалиться всем гамузом, либо просто отдыхают, а этот бодрствует. Да и где он там, этот чертов немец, что там у него за нора, поди узнай, если жить надоело. Может, его там уже и нет совсем, может, это был какой-нибудь подгулявший фельдфебель или просто сорвиголовушка, который пришел, пострелял с пьяных глаз для очистки совести и протопал дальше, довольный, что нагнал на кого-то страху. Ведь линия фронта здесь не сплошная, окопов, дзотов и траншей нет, только патрули да секреты вроде этого. Так что лучше пока не рисковать, не искушать судьбу-злодейку понапрасну, а подождать еще немножко и уж тогда, когда все выяснится, – назад, в овраг, где у них есть укромное местечко.
Но жалко все же и обидно, что вот получилось именно так, а не иначе, тем более что, когда ракета только вспыхнула, Башенин успел краешком глаза заметить слева от минного поля небольшое, напомнившее ему рулежную дорожку у них на аэродроме, пространство, где палок с проволокой, а значит, и мин не было, и по этому своеобразному коридору, в случае чего, можно было бы без опасений пробраться к заветному лесу, что совсем был близко и сулил конец всем их злоключениям. Там и ориентиры надежные – валун в рост человека и пара сосен – с другими не спутаешь, даже в темноте. Так что уходить отсюда, по совести, вроде тоже не с руки: где еще найдешь такое место, чтобы и линия фронта была несплошная и до своих рукой подать? Не будешь же бесконечно рыскать по лесу как волк, обложенный со всех сторон красными флажками. Хватит с них, они уже и без того почти что обезножели от беспрерывной ходьбы, особенно Кошкарев, хотя и бодрится изо всех сил, не подает виду. Да и то сказать, пятый день почти без еды, одной кислой травкой пробавляются. Да и комаров терпеть уже сил не стало, поедом едят окаянные. Поэтому о новом месте для перехода линии фронта пока лучше не думать, а искать надо что-то другое, пока, благо, еще позволяет время.
Вот так лежал Башенин эти несколько мучительных мгновений в полной неподвижности и думал свою горькую думу, и кто знает, что бы он надумал в конце концов, если бы на помощь им не пришел вдруг сам немец.
Немец появился в поле их зрения не сразу, а лишь спустя минут пять, как снова дал о себе знать. Сначала там, где он действительно, как Башенин и предполагал, находился все это время, скрадываемый выступом скалы и деревьями, послышался не то приглушенный кашель, не то хруст ветки. Первым это услышал Кошкарев и, легонько толкнув Башенина в бок, прошептал с обжигающе-боязливой радостью, хотя радоваться было вовсе нечему:
– Идет сюда, – и тут же заставил себя приумолкнуть, поспешно приложив палец к губам, потому что вслед за этим с той же стороны донеслось еще несколько каких-то новых неясных звуков, показавшихся Башенину потрескиванием углей в костре, хотя никакого костра там у немца конечно же быть не могло. Потом они услышали еще что-то подозрительное, на этот раз, кажется, похожее на шуршание песка, когда по нему стараются ступать на цыпочках, и, как заключительный аккорд, – вполне отчетливый металлический звук, словно немец нечаянно стукнул прикладом автомата о что-то металлическое. Да, верно, сам же и испугался такого неожиданно громкого и зловещего в ночи звука, тут же подхваченного эхом, потому что после этого вдруг внезапно и надолго замолчал. И Башенину с Кошкаревым, и без того уже напрягшимся до предела, уже готовым внутренне к тому неизбежному, что, казалось бы, вслед за этим вот-вот должно было произойти, это молчание показалось ужаснее пытки. Во всяком случае, им было бы, наверное, легче просто очутиться, раз такое дело, под дулом автомата этого завозившегося немца, чем вот так, распластавшись на земле не совсем в удобных позах, до звона в ушах вслушиваться и до рези в глазах всматриваться в темноту и ждать, что произойдет дальше. У того же Башенина. появилось ощущение, что это мучительное, сродни пытке, молчание, пожалуй, уже никогда не кончится, будет продолжаться вечно. Или, наоборот, ему вдруг начало казаться, когда еще прошло несколько минут, а может, и секунд, что немец уже давным-давно обошел их стороной и теперь стоит конечно же у них за спиной во весь рост и злорадно улыбается и сейчас вот, в это самое мгновенье или чуть помедлив, чтобы напоследок помучить их еще немножко, крикнет нарочито заполошным голосом «хенде хох!», а то и просто без предупреждения, в холодном молчании, разрядит автомат им в спины. И это ощущение не только рождало чувство затравленности, тоски и обреченности, но и заставляло злиться и даже ненавидеть самого себя за то, что беспомощен в такой напряженный момент, начисто лишен возможности что-либо сделать, даже оглянуться назад, чтобы убедиться собственными глазами, что никакого немца там вовсе не было и нет, что это лишь плод расстроенного воображения. И было еще почему-то жутковато чувствовать острые и точно бы враз захолодевшие, особенно где-то у сердца, камни под собой, словно это были уже не камни, на которые он тогда, как в небе хлопнула ракета, плюхнулся плашмя не глядя, а мины с соседнего поля, и эти мины, стоило ему сейчас сделать одно неверное движение, не замедлят разнести его в клочья. А сделать какое-нибудь движение почему-то хотелось, хотелось нестерпимо, как нестерпимо подмывало и оглянуться назад. Башенин не знал, что сейчас испытывал Кошкарев, а если бы знал, то удивился, потому что Кошкарев, в отличие от него, сейчас, по сути дела, не испытывал ничего, кроме острого нетерпения, смешанного с чисто мальчишечьим любопытством. Правда, чувство опасности тоже не горячило сейчас Кошкареву кровь и не веселило душу. Но вот это неясное движение, этот подозрительный, непонятно что предвещающий, шум на середине склона сопки после того, как вроде все успокоилось, заставил его на время позабыть об этом страхе, хотя всего лишь несколько минут назад, как только в небе вспыхнула ракета и загрохотали выстрелы, он, этот страх, цепко ухватил его своей клешней за самое сердце и долго не давал вздохнуть полной грудью. Тогда, при грохоте выстрелов и зловещем свете ракеты, Кошкареву показалось даже, что это была сама смерть, и когда он падал, ничего не видя перед собой, в темноту, ему почудилось, что он не падает, а летит в какое-то оглушающее черное пространство, которому нет ни конца ни края и из которого во веки веков не возвращаются. Сердце его в тот момент, беззвучно отворив грудь, как тоже ему представилось, оставило ненужное теперь тело и неслось где-то впереди него крохотным черным комочком, и ему было странно видеть его со стороны и при этом еще не испытывать ничего, кроме физической боли и невесомости, которая ему, как стрелку-радисту, была уже не в диковинку. Так что страху или того, что называют страхом, Кошкарев уже хлебнул по самые ноздри, и у него под гимнастеркой вволюшку погуляли сквозняки. Но этот страх так же внезапно прошел, как и появился, выжав из него холодный пот. Стоило ему немножечко отлежаться на сырой земле и почувствовать обретшим боль телом ее холодную неровность и мягкое, чуть слышное шуршание распрямившегося рядом куста, в который он угодил лицом, и страха не стало. Вместо страха появилось удивление, что он, оказывается, жив, а не мертв, и пистолет, оказывается, тоже при нем, он его из рук не выпустил, даже когда летел в эту черную бездну вслед за своим сердцем. А когда он, протолкнув вставший в горле ком, еще увидел впереди Башенина, вернее, даже не увидел, а сначала услышал какой-то шум, потому что Башенин в это время как раз поскреб носком сапога о землю, то и вовсе воспрял духом, и лицо его морщиться перестало, оно приняло сосредоточенно-суровое выражение, и губы у него уже не подрагивали, и взгляд не тускнел, и весь он как-то отвердел, готовый, как только Башенин даст знак, смело и решительно действовать, хотя и смутно представлял, что именно в тот момент Башенин мог от него потребовать. Но понял, что сначала надо выждать, раз Башенин никакого сигнала не подавал и подавать вроде не собирался, лежал все так же ничком, согнув ногу в колене. И он терпеливо выждал, пока его вдруг не ошпарила как кипятком мысль, что рядом-то перед ними, вопреки ожиданиям, не чистая поляна, а минное поле и бежать, стало быть, в случае чего, им будет некуда, и надо бы шепнуть об этом Башенину, а то он еще, чего доброго, даст сигнал ползти как раз в ту сторону. И Кошкарев, теперь уже, наоборот, похолодев от этой мысли, пополз, извиваясь как уж, и доложил. И остался доволен, что сделал это умело, не издав ни звука. К тому же он этим еще и душу отвел, перекинувшись с командиром парой слов. Конечно, пугающе-тихий шепот под носом у противника – не успокоительная речь, а все же и это на него подействовало одобряюще, и он с того момента о страхе думать перестал.








