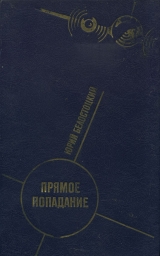
Текст книги "Прямое попадание"
Автор книги: Юрий Белостоцкий
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 26 страниц)
V
Все время, пока самолет Башенина не давал о себе знать, майор Русаков в мрачном раздумье вышагивал по КП и с каким-то ожесточением, словно глотал отраву, курил папиросу за папиросой. Глядя на него, не щадил свои легкие и начальник разведки воздушной армии, тоже дымил с усердием, которого с лихвой хватило бы на двоих. Только в отличие от майора полковник не ходил по КП неприкаянным, а неотрывно сидел за длинным высоким столом, на котором при подготовке к полетам экипажи обычно раскладывали карты, и молча взглядывал из-под опущенных век то на упорно молчавший телефон, стоявший под рукой, то на майора. И терзался мыслью, что майору Русакову, видимо, придется посылать на это задание кого-то еще раз, а может статься, что теперь-то уж майор полетит сам.
Майора раздражали эти его потаенные взгляды – он их читал, как по книге, хотя и старался не смотреть в его сторону, – и еле сдерживал себя, чтобы и в самом деле не дать техникам команду начать готовить к вылету свой самолет.
И вдруг – это сообщение из Стрижей, и майор тут же и складки со лба согнал, и папиросу изо рта выплюнул, словно только что заметил, что она жгла ему губы. А когда самолет приземлился, у майора Русакова уже был такой вид, словно он никогда и не сомневался, что тот мог не вернуться, дать себя сбить. И доклад экипажа о выполнении задания майор тоже выслушал невозмутимо и хмуро, будто ничего особенного в разведывательных данных, как и в возвращении экипажа с задания, он не видел. Лишь когда Башенин под конец добавил, что в последний момент их зажали «мессершмитты» и хотели посадить на свой аэродром, майор позволил себе расширить от удивления глаза, потом не то испытующе, не то с каким-то бессознательным укором посмотрел на полковника, словно тот был причастен к этому событию, и только после заметил, правда, опять все тем же будничным голосом:
– Хлебнули, значит, шилом патоки?
Это была любимая Майорова поговорка.
– Хлебнули, товарищ майор, было дело, – охотно, чтобы не рисоваться, согласился Башенин, кося глазами на Овсянникова с Кошкаревым и этим как бы давая понять майору, что говорит не только от себя лично.
Майора это, видимо, удовлетворило.
– Ну ладно, – уже не так скучно проговорил он. – Хлебнули так хлебнули, чего не бывает. Зато в другой раз будете осторожнее. А сейчас, раз кончилось все благополучно, ступайте обедать. «Боевые сто граммов» вы заработали. – Затем посчитав, что разговор с экипажем на этом закончен, тут же повернулся к начальнику штаба полка, тоже майору по званию, и спросил: – Вы распорядились насчет похорон Куркова? Там все готово? Тогда через час. А то мы с полковником должны успеть в штаб воздушной армии: вызывает командующий.
Что-то вроде удара под дых почувствовал Башенин от этих последних слов командира. Он и думать-то уже перестал за время полета о том, что один из первых самолетов в полку, ходивших утром на задание, привез вместо разведывательных данных мертвое тело как раз этого стрелка-радиста Куркова. Было как-то не до того, не до этого Куркова – от другого голова шла кругом. А тут командир, не дав им перевести дух, напомнил, и от чувства облегчения, что после всего случившегося они снова на своем аэродроме, в привычном кругу друзей, не осталось и следа. А потом, какой теперь мог быть обед, когда через час вместе со всеми надо будет шагать на кладбище, опускать гроб в могилу, теперь и кусок в горло не полезет, даже если и выпить перед этим «боевые сто граммов».
И верно, когда они пришли в столовую, то к еде долго не притрагивались, сидели молча, делая вид, что дожидаются, пока остынет суп. Полк отобедал раньше, и многие столы стояли еще неубранными, с грязной посудой, хлебными крошками и пролитым компотом. Обычно в столовой, когда обедал весь полк, было оживленно и шумно, а тут – не убрано, пусто и непривычно тихо, как в больничной палате. Да и официантка оказалась какая-то незнакомая, видать, из новеньких, тоже ходила как тень. Правда, начальник столовой, самолично поставивший перед ними «боевые сто граммов», попытался было их растормошить, заведя разговор о недавно появившихся на их участке фронта новых истребителях «ЛА-5», с ходу прозванных летчиками по созвучности «лопатами», но они разговор не поддержали, и начальник столовой, поняв, что летчикам не до него, почтительно удалился. И они остались в зале одни, потому что следом за начальником столовой, поставив на стол все, что было надо, неслышно удалилась и официантка. Но даже когда остались одни, к еде притрагиваться все равно не торопились. И выпить «боевые сто граммов» не торопились тоже – казалось, не с руки. Но вот Овсянников, первым не выдержав этого тягостного молчания, нерешительно взялся за ложку, отхлебнул из тарелки, как бы пробуя, не горячо ли, затем, переложив ложку в левую руку, с такой же нерешительностью взял стакан, заглянул в него, словно там могло быть еще что-нибудь, кроме водки, и искательно произнес:
– Ну так что, братья славяне, с возвращением в родное гнездо, что ли?
– Само собой, с возвращением, – поспешил согласиться с ним Башенин, словно Овсянников мог раздумать и взять свои слова обратно. Потом подтолкнул локтем в бок Кошкарева – не отставай, дескать: Кошкарев был из непьющих, и Башенин боялся, что пить Кошкарев откажется.
Но Кошкарев на этот раз не отказался. Получив толчок в бок, он тут же поднял свой стакан и первым, не дожидаясь, когда выпьют старшие, опорожнил его единым духом. И даже закусывать не стал, хотя и побледнел от натуги и дыханием с непривычки зашелся.
Стараясь не показать, что это их удивило, следом за ним, изо всех сил блюдя торжественность момента, выпили и Башенин с Овсянниковым. А когда выпили, погрустнели еще пуще: забыли, оказывается, чокнуться, и получилось, что выпили они не за возвращение вовсе, а за то, что из головы у каждого теперь не выходило – за беднягу Куркова, пусть земля ему будет пухом.
Первым это понял Башенин и, с медлительностью возвратив стакан на прежнее место, проговорил таким тоном, словно это было продолжением только что прерванного безрадостного разговора о Куркове:
– Говорят, у этого Куркова немцы под Харьковом всю семью расстреляли, – и, подняв глаза на Кошкарева, добавил: – Ты ведь с ним до нас в одной эскадрилье был?
– Мы и в ЗАПе [10]10
Запасной авиационный полк.
[Закрыть]вместе были, – уточнил Кошкарев, не поднимая головы от стола: уши у него уже начали пунцоветь, хотя в лице по-прежнему не было ни кровинки. – А что расстреляли, так это точно, расстреляли, – всех до единого – и мать, и отца, и сестренку с братом. За связь с партизанами. Он мне об этом еще в ЗАПе рассказывал. Как узнал, все на фронт рвался, чтобы отомстить, значит. Отомщу, говорит, гадам, чтобы век помнили. Отчаянный был парень. И в то же время тихий, добрый такой…
– Добрый, чего там говорить, – охотно поддержал разговор Овсянников, заметно оживившись и заблестев глазами. – Я с ним, между прочим, как-то в бане мылся, еще на старом аэродроме, так он мне так спину отполировал, что огнем горела. Давайте, говорит, товарищ лейтенант, я вам спину потру, а то самому-то вам, говорит, несподручно. У меня рука, говорит, легкая, останетесь довольны. Ну, отказываться, конечным делом, я не стал, разлегся на лавке, как барин какой, валяй, говорю, раз охота. Ну и натер он, да так, думал, кожа сойдет…
Башенин неопределенно улыбнулся и снова проговорил:
– У него на счету, между прочим, сбитый «Мессершмитт-109» есть.
Этого сбитого Курковым «Мессершмитта-109» Башенин намеренно назвал полным именем, а не усеченно, как обычно, верно, для внушительности, чтобы прибавить Куркову весу. Потом уточнил, и тоже не без выразительности:
– Он этого гада почти что на моих глазах срезал. Помнишь, Глеб, мы тогда на переправу ходили, по два захода еще делали. – Потом повернулся к Кошкареву – Ты тогда с нами не летал, в резерве сидел. Кстати, это какой же, выходит, у него был сегодня вылет?
– Десятый, никак, – неуверенно ответил Кошкарев. Он теперь уже сплошь был красным. Но голос звучал как надо. – Курков раньше меня начал летать, вы знаете. Пока я к вам в экипаж не попал, он уже вылетов семь, наверное, сделал. Тогда и «мессера» сбил.
– Ну, а к награде-то его за это хоть представили?
Задав этот вопрос, Башенин почему-то в упор посмотрел на Кошкарева, словно это Кошкарев был ответствен за представление стрелков-радистов к наградам. Кошкарев в ответ неопределенно пожал плечами – откуда, дескать, мне знать. Тогда опять заговорил Овсянников.
– Представить-то, конечно, представили, – внушительно заявил он. – Да ему-то теперь что? Нужна теперь ему эта награда! Как же! Не возьмешь же ее с собой в могилу? Ему теперь никаких наград не надо – отвоевался, парень…
Какое-то время Башенин посидел молча, потом ни с того ни с сего вскипел:
– Как это не надо? А дом, а семья? Ему не надо, зато другим надо. Разве дома у него, родным, не приятно было бы узнать, что их сын награжден, скажем, боевым орденом, награжден за отвагу и мужество, проявленные в боях за Родину, а не за что-нибудь другое? – Потом, спохватившись, что у Куркова давно уже не было ни семьи, ни родных и что, выходит, кипятится он зря, закончил уже без всякой запальчивости – И почему это у нас не принято в орденах хоронить, тем более на фронте? Жалко, что ли, им этих орденов? Честное слово, будь моя власть, я бы приказал хоронить только в орденах, при всех, так сказать, регалиях. Заслужил, значит, и в могилу с собой забирай, как это в далекие времена делали. Так нет ведь…
Но его никто не поддержал, и разговор на этом кончился…. А потом были похороны Куркова.
Кладбище находилось недалеко, сразу же за стоянкой третьей эскадрильи, у обрыва над рекой, и гроб с телом несчастного несли попеременно на руках – добровольцев нашлось хоть отбавляй, особенно из стрелков-радистов первой эскадрильи, из которой был погибший. Был среди них и Кошкарев. Но Кошкарев не столько нес гроб, сколько мешал другим – рядом с рослыми, здоровенными парнями из первой эскадрильи он выглядел просто лишним.
Башенин, наоборот, вперед не лез, шел позади всех, а на гроб старался вообще не смотреть – сколько уж был на войне, а все не мог привыкнуть к таким зрелищам. Когда же гроб все-таки попадал в поле зрения, глаз не отводил и искренне удивлялся, что гроб слишком велик для Куркова – в жизни, он знал, Курков ни ростом, ни дородностью не отличался, был таким же щуплым и низкорослым, как Кошкарев, а тут получалось, что хоронили не меньше как богатыря – видать, в БАО плотнички перестарались.
Рядом с Башениным, глядя куда-то вбок, словно тоже считал себя здесь лишним, вышагивал Овсянников в своих огромных, сорок четвертого размера, сапогах. Башенин краешком глаза видел, что из голенища левого сапога Овсянникова выглядывало ушко, но ничего не говорил – не хотел, хотя ушко его почему-то раздражало. Раздражал Башенина и незнакомый ему офицер из БАО, шедший впереди и поминутно оглядывавшийся на них с Овсянниковым с таким видом, словно хотел просветить неразумных, что это был за человек такой Курков. И этот офицер еще непрестанно кашлял, и кашель его тоже был неприятен Башенину, но чтобы приотстать от этого офицера на шаг-два или перейти на другую сторону дороги, не думал, продолжал упорно шагать за ним след в след.
Когда пришли на кладбище – три могилы, уже успевшие осесть и осыпаться, хотя кладбищу не исполнилось еще и двух месяцев, – случилась небольшая заминка: передние не знали, куда опустить гроб – мешали дерево и соседняя могила. Наконец по нетерпеливому знаку начальника штаба полка гроб опустили чуть в стороне от могилы, использовав для этого небольшой бугор. И тут же, еще люди, несшие гроб, не успели стереть со лбов испарину, зазвучали речи – видать, устроители похорон получили указание с этим делом особенно не тянуть. Что говорили выступавшие, Башенин не слушал – намеренно встал в стороне и хмуро глядел на небо, пытаясь определить, будет завтра летная погода или не будет. Однако когда речи смолкли и гроб начали опускать в могилу, не выдержал, тоже подошел к могиле, тоже вместе со всеми стал бросать в глубокую холодную яму комья желтой и мокрой еще от дождя земли. Потом, вытерев руки пучком травы, вместе со всеми разрядил над свежим холмом пистолет и первым, не дожидаясь, когда тронутся остальные, быстро зашагал обратно.
Он боялся, что когда однополчане вернутся в землянку, то полезут с расспросами: что, дескать, да как, начнут судить да рядить о случившемся, причем каждый на свой лад, а ему сейчас не то что говорить, а и думать-то ни о чем не хотелось. Но однополчане, когда вернулись – в землянке они жили своей, третьей, эскадрильей, только без командира и штурмана, – отнеслись к нему с Овсянниковым так, словно, кроме похорон Куркова, в полку сегодня ничего особенного не произошло. Он понял: не до него с Овсянниковым, не до их полета, Курков на уме, и тогда, отложив в сторону планшет с картой и сняв сапоги (комбинезоны они всем экипажем оставили еще на КП, где была специальная раздевалка), плюхнулся, не разобрав одеяла, на койку и закрыл глаза. Полежав так немного, он почувствовал, как пистолет, который он позабыл снять, начал давить бок. Вставать было неохота, но он встал, снял пистолет с ремнем и сунул их под подушку. Подушка была хотя и пуховая, но слишком крохотная (Овсянников постарался; из одной, добытой где-то по случаю, три сделал, на весь экипаж, чтобы никому не было обидно), и теперь пистолет стал давить затылок, и надо было, раз такое дело, переложить его в другое место. Но вставать второй раз уже не захотел, решил терпеть, только подумал, что надо бы как-то сказать старшине эскадрильи, чтобы он сменил ему эту его пуховую подушку на обычную. Потом, продолжая лежать все так же неподвижно с закрытыми глазами, услышал, как за окном вдруг глухо зашумел дождь. А после, когда дождь, хотя и был обильным, как-то неожиданно и сразу кончился и о нем напоминали лишь одиноко падавшие капли за окном, он почувствовал вялость и сонливость, и тогда все, что тяготило его, не давало покоя, стало уже безразличным: безразличным стал вылет с его мощной облачностью и «мессерами», безразличными стали и похороны Куркова, и он уснул.
* * *
Проснулся Башенин, когда в землянке было темно, и он сперва подумал, что это вечер. Но когда чиркнул спичкой и глянул на часы, ахнул: была полночь, проспал он, оказывается, восемь часов подряд. Ничего себе, дал раскрутку, упрекнул он себя и осторожно, стараясь не скрипеть койкой, приподнялся на локте и огляделся.
Рядом, через проход, выметав ноги из-под одеяла, спал Глеб Овсянников. За ним, у стены, головой к окну, сладко причмокивал своими толстыми губами Василий Майборода. Майборода всегда, когда спал, причмокивал губами, будто сосал леденец, и это нередко служило причиной насмешек со стороны ребят. Но Майборода на них никогда не обижался. Слева, свесив голову в узкий проход, будто отыскивая там что-то, спал лейтенант Козлов. Этот вообще спал не так, как спят нормальные люди, а как-то наперекосяк: то чуть ли не поперек койки, то свесив голову в проход. Койка Кошкарева стояла чуть дальше, и Башенин отсюда не мог видеть своего стрелка-радиста. Но что-то вдруг, когда он скосил в его сторону взгляд, подсказало ему, что Кошкарев не спал. И верно, спустя какое-то время, когда Башенин снова вытянулся в удобной позе и попытался закрыть глаза, Кошкарев тихонечко зашевелился, потом встал и на цыпочках направился к выходу. У входа, на скамье, стоял бачок с водой. Возле этого бачка Кошкарев остановился и, пригнувшись, начал неторопливо шарить руками вокруг да около, видать, в поисках кружки, чтобы напиться. Но в темноте, верно, не разглядел ее и нечаянно столкнул на пол – кружка зазвенела на всю землянку. Кошкарев замер, прислушиваясь, не раздастся ли вслед за этим чей-нибудь возмущенный голос, если звон кружки разбудил кого-то. Но люди в землянке продолжали спать крепко, даже не шевельнулись, и Кошкарев успокоился. Но пить, верно, уже расхотел и, поставив кружку назад, на скамейку, направился обратно. По пути он поправил на Овсянникове одеяло, постоял какое-то время над ним в нерешительности и, только когда снова продолжил путь, заметил наконец, что Башенин тоже не спит и наблюдает за ним со своей койки. Кошкарев не удивился и, подавшись в его сторону, спросил для верности свистящим шепотом:
– Я вас разбудил, товарищ лейтенант?
– Нет, не разбудил, сам проснулся, – поспешил успокоить его Башенин и, подавив зевок, добавил со смешком: – Вот дал храпака, даже ужин проспал.
– Ужин здесь, я принес, – сообщил Кошкарев. – Если хотите, поешьте. В тарелке блинчики с мясом и чай в стакане. Только остыл уже, конечно, холодный.
– Какая сейчас еда, – отмахнулся Башенин и, снова оторвав голову от подушки, в свою очередь спросил – А ты чего полуночничаешь, ходишь тут, гремишь на всю землянку?
– Да кружка вот эта распроклятая, чтоб ей ни дна ни покрышки, – ответил Кошкарев, но, поняв, что это не оправдание, угнетенно смолк и какое-то время стоял безмолвно и неподвижно, похожий в темноте на огромную птицу, собирающуюся взмахнуть крыльями, но не имеющую сил это сделать. Потом, подавшись чуть вперед, точно боялся, что Башенин за это время уснул, нерешительно произнес: – Уж и не знаю, товарищ лейтенант, говорить или не говорить. Боюсь, не поверите ведь, смеяться начнете…
Услышав такое необычное вступление, Башенин действительно насмешливо скривил губы и в тон же ему ответил:
– Сказать, что за сегодняшний вылет тебе нет прощения и ты заслуживаешь списания в пехоту или чего-нибудь похуже? – Но увидев, что Кошкарев тут же съежился от этих его слов, поспешил добавить уже без иронии, но и без строгости: – Если только это, то лучше иди и ложись спать. Завтра, судя по всему, наверняка будет вылет, а ты не выспишься. Хуже нет, когда на задание, а не выспишься. Так что давай рули и постарайся уснуть, если сможешь. Да и я постараюсь, может, тоже усну, хотя вроде больше некуда, – с этими словами он поудобнее устроился на койке и закрыл глаза.
Но Кошкарев и не подумал уходить, продолжал все так же нерешительно стоять над ним в темноте ночной птицей с подбитыми крыльями, а когда Башенин сделал вид, что уснул, вдруг торопливо произнес, и в голосе его на этот раз прозвучал вызов:
– Можете смеяться, товарищ лейтенант, а только одного из них я все же сбил. Не сойти мне с места!
– Кого это ты сбил? – Сразу же снова повернувшись к нему всем туловищем, насторожился Башенин – он еще не разобрал, что именно хотел сказать Кошкарев, но почувствовал: что-то стоящее.
И Кошкарев пояснил:
– Одного из тех шестерых «мессеров», товарищ лейтенант, которые нас вчера зажали. Даванул на гашетку, он и закувыркался вниз. Это когда вы вверх, в облака, потянули. Я даже глазам не поверил. Смотрю, а он задымил – и вниз, вниз…
Башенин удивленно посмотрел на него, потом возмутился:
– Так чего же ты, дурень этакий, молчал до сих пор? Почему не говорил? Специально ждал ночи, что ли, когда я высплюсь, чтобы тогда сказать?
Башенин уже не лежал, а сидел на койке и, казалось, от возмущения был готов вцепиться в этого Кошкарева обеими руками и трясти его до тех пор, пока всю дурь не вытрясет.
– Вот дурень, – повторил он тем же тоном. – Сбил и молчит, будто сбил не «мессера», а воробья. Ну и юморист же ты, оказывается, как я погляжу. Язык, что ли, отсох? В чем дело наконец? Георгий? Ну!
– Боялся, не поверите, товарищ лейтенант, – сдержанно, но уже явно с облегчением объяснил Кошкарев. – Думал, посчитаете, что я это в порядке оправдания, чтобы себя, значит, обелить, грех свой покрыть. Это ведь я их просмотрел, этих «мессеров» распроклятых…
– Ничего ты не просмотрел, – резко перебил его Башенин. – Дальше что?
– А потом как докажешь, – продолжал гнуть свое Кошкарев, – что я его, гада, сбил? Ведь ни вы, ни Глеб Иванович ничего не видели, не до того было, сами знаете. Да и я, по правде, тоже до конца не видел, как и где он упал, только успел заметить краешком глаза, что закувыркался и вниз, к земле. И дым следом, А больше ничего, потому что не успел я палец со спускового крючка пулемета убрать, как мы были уже в облаках. А в облаках чего увидишь?
– Все равно надо было сказать, и я бы доложил командиру, – недовольно проворчал Башенин, но уже не так строго. – Это не пустяк – сбить «мессера» и держать в тайне. А потом чего ты боялся? Если он упал где-нибудь невдалеке от аэродрома, то это будет не трудно доказать. Какой-никакой, а след на земле должен остаться, тем более если он упал горящим и взорвался. Черное пятно всегда в таких случаях остается или как бы потухший костер.
Но Кошкарева это не убедило.
– А если этот сбитый мною «мессер» упал не в лес, а в реку или на свой аэродром? – возразил он. – Допустим, он успел дотянуть до полосы и плюхнулся именно там? Тогда как? Не оставят же его немцы лежать на полосе до тех пор, пока кто-то из наших не полетит туда и не убедится, что он действительно был сбит?
– Ну, это вряд ли, чтобы он упал на аэродром, – усомнился Башенин. – Если, как ты говоришь, он дымил, то до аэродрома ему так и так было не дотянуть. Это уж точно, не дотянуть, – повторил он с убежденностью, и не столько, верно, Кошкареву, сколько, пожалуй, самому себе. И вдруг опять вскипел, видать, уже от недовольства собою, что уговаривает этого Кошкарева как маленького, тогда как его просто надо было вздуть хорошенько: – А чего это мы с тобой гадаем на кофейной гуще? Сбил так сбил, тут и упираться нечего, и завтра надо будет доложить об этом командиру полка, чтобы знал что и как и сделал бы соответствующие выводы…
– А может, все-таки докладывать не надо, товарищ лейтенант? – нерешительно попросил Кошкарев. – Все равно ведь не засчитают. А как я тогда людям в глаза смотреть буду?
– Засчитают, если сбил, – жестко ответил Башенин и тут же поправился: – Засчитают, потому что ты его сбил, в этом я не сомневаюсь. – Башенин действительно не сомневался, знал, что Кошкарев зря говорить не стал бы. – Проверят и засчитают, – энергично повторил он. – Причем проверять нам же самим, нашему же полку и придется, да еще в самом скором времени, если не завтра, – и, чуть понизив голос, добавил со смешком – Ты думаешь, для чего наш майор вчера к командующему полетел? Докладывать о результатах разведки? Как же, докладывать – держи карман шире. Не знаешь ты нашего майора. Доложить и дурак может. Если хочешь знать, так наш майор боится, как бы командующий не приказал бомбить этот аэродром какому-нибудь другому полку, а не нашему, не хочет, чтобы лавры за разведку и уничтожение этого аэродрома достались другим. Это же такой хитрец, наш майор, ты и представить не можешь. Вот он и полетел к командующему, чтобы его умаслить. И умаслит как миленького, наверняка добьется, чтобы налет на аэродром сделал только наш полк, а не какой-нибудь другой. Да это в общем-то и справедливо будет, если наш. Сам понимаешь: мы его разведали, нам его и бомбить. Кому же еще как не нам? И еще увидишь: поведет полк на это задание майор только сам, никому другому не доверит. Ты ведь знаешь, какой он: все только сам. – Потом он перевел дух и закончил успокоительно – Так что как только пойдем на бомбежку, увидим и «мессера» твоего. Все увидят, потому что сбитый «мессер» не иголка, чтобы его не увидеть, особенно когда он горящим упал. А ты говоришь – не засчитают. Засчитают, куда они денутся…
И Кошкарев, наконец, сдался. Но с оговоркой, что до вылета разговор об этом с командиром полка Башенин заводить не станет – только после вылета.
– Само собой, – без всяких согласился тот. – Я сам тоже хочу убедиться, если уж на то пошло. – Потом, помолчав, вдруг закончил опять с внезапным раздражением – Ладно, хватит, спать ступай, нечего тут из пустого в порожнее переливать. Наговорились, больше некуда…
Кошкарев потоптался немножко и ушел, и Башенин, почувствовав некоторое облегчение, подобрал позу поудобнее и опять закрыл глаза уже с твердым намерением больше ни о чем таком не думать и постараться уснуть. Но уснул опять не сразу. Последний вылет и похороны Куркова все равно долго еще не выходили у него из головы, так и стояли перед глазами во всех подробностях, и ему снова пришлось все это – и вылет, и похороны Куркова – пережить заново.








