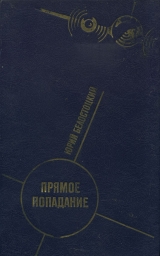
Текст книги "Прямое попадание"
Автор книги: Юрий Белостоцкий
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 26 страниц)
XX
Когда Елизавете Васильевне Башениной у себя в городе, где она заведовала детской поликлиникой, предложили поехать в составе шефской делегации, как было принято в те годы, на фронт, она с радостью согласилась. Но Елизавета Васильевна не подозревала, что ее сын Виктор тоже окажется именно на том фронте, куда она поедет. Где, на каком фронте сын воевал, Елизавета Васильевна не знала, сын ей об этом никогда не писал – было запрещено военной цензурой. И все же какая-то надежда, что она может его там где-то встретить, не оставляла ее ни на мгновение, как не оставила бы такая надежда любую другую мать, даже если бы эта мать наверно знала, что сын воюет совсем не там, куда она едет.
И вдруг – почти неслыханное счастье: ее сын Виктор здесь, на этом фронте, и на первых порах Елизавета Васильевна еле сдержала себя, чтобы не расплакаться от нахлынувших на нее чувств.
Случилось так, что в первый же день, как только делегация прибыла на фронт и была принята заместителем командующего фронтом, один из работников штаба, подполковник по званию, как раз занимавшийся делегацией, сразу же после приема спросил у Елизаветы Васильевны, в каких бы частях она хотела побывать – у артиллеристов, пехотинцев или у танкистов.
Дело в том, что всего в составе делегации было десять человек, и в штабе фронта справедливо решили, что будет лучше, если их разделить на три группы. Во-первых, это даст возможность увеличить число частей и подразделений, где бы делегаты могли побывать. Во-вторых, это было удобнее с точки зрения транспорта, ночлега и безопасности, потому что меньший кортеж из легковых автомашин на фронтовых дорогах меньше привлекал бы внимание вражеских самолетов.
Когда подполковник объяснил все это Елизавете Васильевне, она без колебаний ответила:
– Если можно, я бы поехала в какой-нибудь авиационный полк, лучше всего – в бомбардировочный.
Подполковник деликатно улыбнулся:
– Вы, как я вижу, поклонница авиации. Причем, видимо, не всякой, а только бомбардировочной.
– В известной степени, да, – тоже улыбнулась Елизавета Васильевна. – У меня сын летчик, летает на пикирующих бомбардировщиках.
– Вот как! – оживился тот. – Тогда понятно, понятно. На фронте, конечно?
– На фронте. С самого начала.
– А на каком, позвольте спросить?
Елизавета Васильевна беспомощно развела руками, и подполковник, словно допустил бестактность, виновато поджал губы, потом так же виновато улыбнулся и спросил опять, уже явно чем-то, как показалось Елизавете Васильевне, осененный:
– Вы не допускаете, что ваш сын может воевать как раз на нашем фронте? – И тут же, не подождав ответа, добавил: – Конечно, допустить можно все. Но вот какая история: мне кажется, я где-то уже встречал фамилию – Башенин, и, по-моему, совсем недавно. Сын носит вашу фамилию?
От волнения у Елизаветы Васильевны уже перехватило дыхание, и в ответ она только судорожно качнула головой.
– Ну, конечно, – укрепился в своей мысли подполковник. – Башенин… Я еще обратил тогда внимание: фамилия, кажется, как фамилия, вроде ничего особенного, а вот чем-то привлекла, запомнилась. Наверное, что редкая. Только вот где же я ее встречал?
Если бы подполковник в этот момент бросил взгляд на лежавшую у него на краю стола газету, он бы тогда, наверное, без труда вспомнил, что встречал он ее не далее как в тот же день утром, и не где-нибудь, а именно в этой газете. Под заголовком «Один против шестерых» газета сообщала, что экипаж лейтенанта Башенина из энского бомбардировочного полка недавно в тяжелых метеоусловиях был окружен шестью «мессершмиттами», но сумел, сбив одного из них, вырваться из огненного кольца и привез ценные разведывательные данные к себе на аэродром.
Однако подполковник на газету не посмотрел, он продолжал смотреть на Елизавету Васильевну и, обеспокоенный, что никак не может вспомнить, где встречал фамилию Башенина, страдальчески морщил лоб, потом, как бы в порядке компенсации за свою беспамятность, выразительно посмотрел на телефон, стоявший рядом на тумбочке, и проговорил в некотором смущении:
– Знаете что, давайте-ка все-таки я попробую связаться с управлением кадров ВВС фронта и попытаюсь там что-нибудь узнать. На ловца, как говорится, и зверь бежит. Не возражаете?
Елизавета Васильевна была уже в таком состоянии, что не только возражать, но и говорить была не способна: что-то подсказывало ей – звонок будет ненапрасным.
И верно, когда подполковник, взяв трубку, объяснил кому-то на том конце провода (а этот кто-то, видимо, был его добрый знакомый, он называл его запросто по имени), что ему надо, особо подчеркнув, что мать этого летчика Башенина находится с делегацией здесь, в штабе фронта, лицо его почти тут же приняло радостное выражение, и он, придавив трубку к уху так, словно ее у него собирались отнять, воскликнул в возбуждении:
– Не может быть! Ты не ошибся, Захар? А ну, погляди еще раз. Гляди внимательнее. Тут, брат, такое дело… Чтобы без ошибок. Ба-ше-нин… Да, на «Петляковых». Смотри-ка ты. И наградной лист, говоришь, на столе? Здорово! На первую степень? Хор-роший орден. За новый аэродром? Подожди, мать честная, так это же я о нем как раз и читал сегодня в газете. Вот она у меня, тут где-то, на столе, сейчас, подожди. – И с этими словами подполковник поспешно потянулся рукой к этой самой газете, которую до этого упорно не замечал, и только как бы тут, когда вытащил эту газету из-под вороха бумаг, вскинул на Елизавету Васильевну торжествующий взгляд и продолжал тем же возбужденным голосом: – Вот ведь как, Елизавета Васильевна! А? Ну прямо как в сказке. Здесь, оказывается, ваш сын, а мы и не знали. На нашем фронте он, в энском бомбардировочном полку, что в Стрижах. Надо же! – Потом, видимо, посчитав, что для матери сейчас это тоже очень важно, добавил подчеркнуто торжественно – И к ордену к тому же представлен ваш сын, за храбрость, мужество и находчивость, к «Отечественной войне» первой степени. Хороший орден, смею вас заверить. И в газете вот про него написано. Так что поздравляю, Елизавета Васильевна, от души поздравляю. Повезло вам, ничего не скажешь, увидите вы своего сына, аэродром этот совсем недалеко, завтра и встретитесь…
Елизавете Васильевне поблагодарить бы этого услужливого подполковника, улыбнуться бы ему самым сердечным образом за такую весть, а у нее от этой вести и слов уже не стало, и губы плохо слушались, и надо было еще глаза промокнуть, потому что и глаза тоже стали вдруг некстати мокрыми и ничего почти не видели, а тут как на грех и платок где-то в сумке запропастился и вместо платка в руки лезла всякая ненужная мелочь вроде зеркальца, записной книжки, гребенки и шпилек. А когда наконец платок отыскался и глаза были приведены в относительный порядок и можно было что-то этому милому человеку сказать, поблагодарить от души, она вдруг почувствовала, что в комнате за то время, пока она рылась в сумочке, что-то произошло, что-то изменилось, и она, еще не зная, что это такое, но явственно, почти физически ощутив тревогу, искательно посмотрела подполковнику прямо в глаза.
Подполковник уже не улыбался, как мгновение назад, а наоборот, теперь был хмур, растерян и старался не смотреть на нее. Подполковник смотрел сейчас только в черный зев телефонной трубки, будто там можно было что-нибудь увидеть, болезненно жмурился и машинально, почти не раздвигая губ, не то уточнял, не то переспрашивал у своего далекого Захара:
– Так, так, понятно. Так. Зенитки. Ясно. Уже как пятый день? Данные, конечно, точные? Ну, ясно, откуда же им быть неточными, раз такое дело. Не знаю, не знаю, да, видно, придется. Как же иначе.
Потом подполковник медленно и осторожно положил трубку на рычаг, выжидательно посмотрел на нее, словно она могла еще добавить что-то к сказанному или переиграть все заново. Но трубка молчала упорно, и тогда он оторвал наконец от нее этот выжидающий взгляд, поднял его на Елизавету Васильевну, и, стараясь голосом и улыбкой смягчить то, что должен сказать, произнес ту фразу, от которой у Елизаветы Васильевны тут же поплыли круги перед глазами и она, чтобы не свалиться со стула, должна была ухватиться рукой за столешницу.
* * *
И вот уже здесь, на аэродроме, сразу же после митинга-опять неожиданность. И хотя не такая ужасающая, но все равно неожиданность, которая тоже поставила Елизавету Васильевну в тупик – у нее, оказывается, здесь, в БАО, есть племянница. Причем узнала Елизавета Васильевна об этом вовсе не от летчиков, а от начальника штаба полка, который в качестве гостеприимного хозяина не отходил теперь от делегатов ни на шаг. Летчики, конечно, тоже не преминули бы сообщить ей об этом, но сейчас они находились в воздухе, на задании, а с утра это сделать им было просто невозможно-т-митинг начался по существу сразу же как только члены делегации вылезли из машин и немножко размяли кости, и даже лейтенант Козлов, который был по письмам знаком с Елизаветой Васильевной, не смог с нею перемолвиться и словом.
После митинга, перед тем как пойти завтракать, члены делегации и сопровождавшие их люди, всего человек восемь, по пути завернули в Ленинскую комнату, чтобы посмотреть стенгазету, над которой накануне как раз пыхтели Настя с Раечкой. Замполит специально пригласил их туда, чтобы дать возможность Елизавете Васильевне посмотреть на фотографию сына и прочитать о нем заметку. Он видел, как она, несмотря на все свое мужество, была подавлена свалившимся на нее несчастьем, и хотел этим хоть чуточку сгладить остроту ее переживаний. Правда, увидев на фотографии сына, Елизавета Васильевна снова переменилась в лице и полезла в сумочку за платком, но до слез, к счастью, не дошло, и замполит остался довольным и на радостях, что все обошлось без истерики, пообещал Елизавете Васильевне узнать у Насти Селезневой, нет ли где второго экземпляра этой фотографии, чтобы Елизавета Васильевна могла увезти его домой.
– Сержант Селезнева – наш редактор, – пояснил он.
Вот тут-то начальник штаба полка, слушавший этот разговор, и спросил с проснувшимся интересом:
– Селезнева, говорите? Синоптик? Это та, что на метеостанции?
– Она самая, – подтвердил замполит.
– Подождите, дорогие товарищи, так это же, если я не ошибаюсь, лейтенанта Башенина двоюродная сестра и, следовательно, племянница нашей уважаемой Елизаветы Васильевны, – уже обрадованно подхватил он. – Ну да, сестра, об этом у нас в полку все говорят. – Потом, с недоумением поглядев на Елизавету Васильевну, полюбопытствовал с шутливой укоризной – Вы что, даже не знаете, что у вас тут племянница отыскалась? Причем, говорят, весьма пригожая…
– Первый раз слышу, – растерянно ответила Елизавета Васильевна, затем, как-то угнетенно помолчав, добавила: – У меня есть племянница, но я точно знаю, что она не на фронте. Боюсь, тут что-то не так.
– А вдруг, пока вы сюда ехали, она взяла да и удрала на фронт? А? Тогда как? – ввернул с забавной гримасой начальник штаба, чтобы, верно, вызвать улыбку на ее лице, потому что во все время этого разговора Елизавета Васильевна ни разу не улыбнулась. – Теперь, говорят, это в моде, – разошелся он. – Бегут девчата на фронт, особенно в авиацию. Как же – голубой цвет…
– Но здесь, право же, какое-то, видимо, недоразумение, – повторила Елизавета Васильевна, хотя и понимала, что насчет фронта начальник штаба просто пошутил. – Тем более, моя племянница вовсе не Селезнева, а Демина, – уточнила она.
Теперь пришел черед удивляться уже начальнику штаба, и это удивление он выказал тем, что, как только Елизавета Васильевна замолчала, начал растерянно перебирать пальцами пуговицы на кителе, как будто пуговицы могли оторваться. Неловко почувствовали себя и остальные, потому что действительно получалось что-то не так, а как бы шиворот-навыворот. Да и сама Елизавета Васильевна, повторив это свое утверждение насчет ошибки, вдруг засомневалась: а ну как это и впрямь какая-нибудь племянница, о существовании которой она не подозревала, а если и не племянница, то, может быть, какая-нибудь дальняя родственница, которых не всегда знают, а когда узнают, то уже начинают откапывать через них еще целую дюжину новых родных – и так вплоть до адамова колена. А потом ей было уже не безразлично, что могли подумать те же ее земляки из делегации и сопровождавшие их люди вместе с этим простодушно-смешливым начальником штаба, если бы она даже не сделала попытки разобраться в этом деле. И она вдруг насильственно улыбнулась и спросила:
– А можно мне ее сейчас увидеть? Ну хотя бы для того, чтобы выяснить это недоразумение? Это не трудно?
Начальник штаба посмотрел на замполита БАО. Замполит выступил вперед, объяснил:
– Сержант Селезнева сейчас на дежурстве. Метеостанция рядом. Но, может быть, оставим это на после завтрака? Вы же с дороги, а потом сразу этот митинг, а завтрак уже готов. А потом надо будет встречать полк.
Довод замполита был резонный. Но Елизавете Васильевне уже захотелось увидеть эту родственницу, если только та действительно доводилась ей родственницей, прямо сейчас: что-то на нее вдруг нашло. И это был не каприз, а скорее всего какое-то смутное и потому заставившее ее насторожиться чувство, что за всем этим должно что-то крыться, крыться не совсем, может, обычное и, возможно, даже связанное с ее сыном Виктором, и ей об этом конечно же следует непременно знать. А потом услужливая память тотчас же подсказала ей, как на стоянке во время митинга на нее что-то уж не совсем обычно, если не сказать странно, смотрела какая-то рослая военная девушка, и эта девушка как будто еще порывалась с нею заговорить, но что-то ей помешало, кажется, команда становиться в строй. И девушка эта к тому же была пригожа собой, и это тоже сейчас насторожило Елизавету Васильевну – начальник штаба как раз упомянул об этой пригожести, когда начал разговор. Значит, тут что-то все же было, и это что-то требовало своего скорейшего разъяснения, иначе потом, может, будет поздно. И хотя внешне Елизавета Васильевна ничем не выдала этого охватившего ее нетерпения и тревоги, по-прежнему с виду оставалась удручающе спокойной, начальник штаба все же угадал это ее состояние, а может, просто посчитал, что раз зачинщиком разговора о племяннице Елизаветы Васильевны был он, то в его же интересах было и довести этот разговор до конца, и предложил, чтобы это устроило всех вместе и каждого в отдельности:
– Давайте сделаем лучше так: мы все тихонечко отправимся в столовую, а Елизавета Васильевна и вы, товарищ замполит, зайдете по пути на метеостанцию, тем более что она рядом, и все выясните вместе с этой девушкой. Я думаю, это не займет много времени, да и мы вас стеснять не будем. Такое предложение вас устроит?
Такое предложение устроило всех, и через несколько минут Елизавета Васильевна, испытывая самые противоречивые чувства, уже вступала по шатким наклонным ступенькам в царство, на дощатых вратах которого было нацарапано мелом: «Посторонним вход воспрещен» – в этом царстве «делалась погода».
… Так вот, рядышком, уронив руки на колени, они могли сидеть уже, наверное, целую вечность, а может, для них и вечности не хватило – время ровно бы перестало существовать для них, растворилось в этом мягком полумраке, что окутывал их сейчас будто облаком. Они уже находились как бы вне времени и пространства, в каком-то ином мире, надежно защищенном от того, другого мира, который яростно бушевал где-то совсем рядом за толстыми стенами землянки и этой вот умиротворенностью, что мягчила их, заволакивала глаза и навевала дрему. Они сидели вот так рядышком, недвижно, почти касаясь плечами друг друга, сидели как мать и дочь, и ни о чем не говорили, потому что уже все, что надо, было сказано, все, что требовалось, обговорено, все, что было неясно, выяснено. Слова теперь были бы совершенно лишними и ненужными, они бы только нарушили эту вот безмятежную тишину и благостную слитность двух женских душ. Где-то позади остались настороженность, недоверие, враждебность, особенно охватившие Елизавету Васильевну в первый миг, забылись резкие, полные горечи и упреков слова, взгляды, жесты, рассеялись сомнения, высохли соленые слезы. А может, их и не было, этих соленых слез и волнений, этого недоверия и враждебности, не было обидных взглядов и резких слов, а сразу вот эта благостная тишина и умиротворенность, от которой не хотелось ни говорить, ни двигаться, а только сидеть неподвижно и неотрывно смотреть в одну точку немигающим взглядом и чувствовать близость друг друга, чувствовать мир, уют, покой.
– Что вы хотели сказать мне тогда, на аэродроме?
– Я хотела повиниться перед вами.
– В чем ваша вина?
– Я – самозванка, назвалась сестрой вашего сына.
– Это действительно нехорошо. Зачем вы это сделали?
Это был бы, наверное, долгий разговор, если бы Настя, когда последовало еще несколько таких же вот, раз от разу набиравших накал, вопросов, не уронила голову на стол, заваленный прогнозами погоды и синоптическими картами, на которых где-то шумели ветры и грозы, шли дожди, а где-то властвовало вёдро, и не заплакала. Вид плачущей девушки, ее какая-то неутешность и обнаженная беззащитность в этот миг как раз и перевернули все в душе Елизаветы Васильевны, заставили ее, несмотря на жгучую обиду за сына, которого она так неожиданно нашла, чтобы тут же потерять, внимательнее прислушиваться к словам, которые начали вырываться из этого, поверженного ее голосом и взглядом, ознобно вздрагивавшего юного существа сквозь слезы. Елизавета Васильевна угадала то, что сама Настя смогла угадать далеко не сразу и далеко не без мучений. И нашла, к своему удивлению, радость в этой отгадке, хотя, как мать, наоборот, должна была бы, кажется, насторожиться, увидев в том, о чем она догадывалась, посягательство на своего сына, как нашла затем великую, исцелившую ее от собственных мук, радость и в том, что, сама страшно нуждающаяся в этот миг в утешении и жалости, вдруг стала утешать это плачущее создание, обновляясь этим утешением, полнясь каким-то незнакомым либо забытым за эти дни чувством сострадания, любви и материнской нежности. Она никак не думала, что это так упоительно и сладостно говорить вот этому незнакомому, впервые увиденному человеку слова утешения и жалости, когда ты сама нуждаешься в этой жалости; ласково гладить этого человека по голове и смотреть затуманившимся взглядом на его рассыпавшиеся по плечам волосы и как-то подсознательно отмечать, что к этим волосам и плечам куда больше подошло бы белое платье, чем вот эта стираная-перестираная гимнастерка с покоробившимися сержантскими погонами. Ее радостно взволновала и доверчивость этой незнакомой девушки, с какой она в ответ на ее утешения и ласки вдруг в благодарном порыве прильнула к ней и застыла так, в неловкой позе, боясь шелохнуться, чтобы, верно, не спугнуть охватившего ее чувства покоя и умиротворенности; ей доставило ни с чем не сравнимое наслаждение тут же, как только Настя безоглядно доверилась ей, ощутить своим телом стук ее сердца, словно это был стук сердца собственного сына, хотя о сыне она в этот миг думала как-то отдаленно и уже без той боли, которая терзала ее все это время. Но нежность и жалость, которые переполнили ее вдруг, шли, как она понимала, из тех же глубин, в которых они копились для сына и должны были бы излиться на сына, а изливались сейчас на Настю. И обеим было хорошо от этого и покойно, словно свершилось чудо, обе были счастливы в этот миг и не спешили вставать и что-либо делать, сидели и сидели, будто околдованные друг другом, хотя замполит, дожидавшийся все это время Елизавету Васильевну за дверью землянки, уже несколько раз принимался шуршать спичечным коробком и покашливать в кулак, чтобы напомнить об остывающем завтраке.
Но вот наступила минута, когда эти две женщины, души которых, казалось, слились воедино, вдруг снова посмотрели друг на друга так, словно кто-то из них должен был сейчас предать другого: это они услышали за дверью землянки уже не деликатное покашливание замполита, не шуршание спичечного коробка, а шум, возникший как-то сразу и вдруг, потом крики и топот множества ног, и в этом шуме – знакомый голос, который и заставил их вздрогнуть и отшатнуться друг от друга, словно с появлением этого голоса все теперь менялось и они могли сейчас ожидать одна от другой всего, чего угодно. Но это было лишь в первый миг, в первое ошеломившее их мгновенье, пока шум еще не улегся и пока они снова не услышали этот голос, теперь, в наступившей тишине, прозвучавший уже совершенно отчетливо. И тогда, устыдившись своих чудовищно несправедливых взглядов, поддавшись какому-то одному и тому же порыву, они опять схватились за руки и с мучительным нетерпением, словно то, во что они еще боялись поверить, и впрямь могло оказаться ошибкой, уставились на дверь.
И дверь тут же, будто под напором ветра, распахнулась настежь, и в ее проеме, высвеченном солнцем, показался Виктор Башенин и тихо, будто опасался тут кого-то напугать громким голосом, произнес:
– Мама? Ты здесь, мама?
Сразу, со света, он, верно, еще не успел разглядеть в дальнем темном углу землянки двух женщин, прижавшихся друг к другу и смотревших на него с таким видом, словно в дверях появился не человек, а призрак, и позвал еще раз:
– Мама!..
Второго раза оказалось достаточно, чтобы Елизавета Васильевна поверила наконец в то, во что боялась поверить: перед нею не призрак, а ее родной сын, которого она уже не чаяла увидеть в живых, и вздрогнула всем телом, неловко зашевелилась, намереваясь встать, чтобы броситься сыну навстречу. Но сил на это у нее уже не нашлось, и она, поняв это, безвольно уронила руки на колени и тихо, почти беззвучно, заплакала.
Настя тоже почувствовала, как и у нее в горле встал ком и защипало в глазах от появления этого человека в дверях. Настя тоже была близка к тому, чтобы удариться в слезы. Но продолжала сидеть молча, боясь шевельнуться, чтобы не испортить эту святую минуту встречи матери с сыном, и ждала мгновенья, когда можно будет незаметно выскользнуть из землянки и оставить их вдвоем – себя она считала теперь тут абсолютно лишней. И в то же время покинуть землянку не могла, чувствовала, что могла понадобиться, чтобы, в случае чего, тут же бежать в санчасть за доктором и валерьянкой, – она больше всего сейчас боялась за Елизавету Васильевну.
Но ни доктор, ни валерьянка не понадобились – Елизавета Васильевна нашла наконец, в себе силы, чтобы встать и шагнуть сыну навстречу. Она уже не плакала, нет, только обморочно ахнула, прижав подбежавшего сына к груди, и тут же начала его ощупывать со всех сторон, как бы проверяя, он ли это, и невольно придерживая судорожный бег пальцев там, где натыкалась на его рубцы, кровоподтеки и жесткую щетину бороды. Сын тоже был совершенно безмолвен, сын тоже больше ничего не говорил или не мог говорить и только грузно оседал всем телом под этими ее сновавшими туда-сюда руками, словно мать не ощупывала его для достоверности, а вынимала из бедняги кости, пока не опустился на пол и не уткнулся лицом ей в колени. Потом, замерев на несколько мгновений, он снова поднял голову, снова посмотрел на мать широко открытым взглядом и рассмеялся тихим счастливым смехом. И этот смех, хотя был предназначен только матери, обрадовал и Настю. Она почувствовала себя безмерно счастливой и невольно зашевелилась в своем темном углу и заскрипела скамейкой.
Елизавета Васильевна, в первый миг забывшая о Насте, с испугом посмотрела в ее сторону, словно там, в углу, был кто-то ей неведомый и этот кто-то собирался посягнуть на ее счастье. Потом вдруг виновато улыбнулась, с напускной строгостью потормошила сына и произнесла голосом, каким обычно выдают приятные секреты:
– Ты, кажется, Виктор, хотел видеть девушку, которую зовут Настей? Так вот эта Настя. Не узнаешь? – Потом, когда сын тоже повернул голову в сторону Насти, добавила с убежденностью, но уже торопливо и чуть ли не крича, потому что как раз в этот момент над землянкой, приглушив ее голос, послышался нарастающий рев возвратившихся с задания бомбардировщиков: – Не знаю, какой бы она была тебе сестрой, но другом она тебе может быть хорошим…
Но что сын ответил ей на эти ее слова и что он затем сказал Насте, когда, встав на ноги, подошел к ней и протянул руку, Елизавета Васильевна не услышала – рев самолетов над землянкой в этот момент достиг уже такой силы, что не только голос, но и пушечный выстрел – раздайся он у нее над головой – она все равно бы не услышала. Но зато она увидела, как сын и Настя, поборов минутную скованность, вдруг заулыбались друг другу так, будто были знакомы век, и сын при этом еще слишком уж что-то долго для первого раза держал в своей руке руку Насти и Настя отнять у него руку не торопилась.








