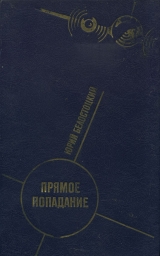
Текст книги "Прямое попадание"
Автор книги: Юрий Белостоцкий
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 26 страниц)
Небо хранит тайну
I
В землянке он появился под вечер, уже в сумерки. В мокром от дождя реглане, рослый, голубоглазый, с белозубо-насмешливой, но ничуть не обидной для других улыбкой, он сразу же вызвал у летчиков какое-то особое любопытство, особый интерес. Уже по тому, как он резко распахнул охнувшую дверь, а затем, войдя, ловко, чтобы она не ударила его в зад, придержал ногой – руки у него были заняты вещмешком и чемоданом, – он показался им не таким, как все. К тому же у вошедшего во всю щеку, правда, нисколько его не уродуя, голубел шрам, и один из летчиков, старший по возрасту, перестав сдавать карты – от нечего делать летчики резались в подкидного дурака, – невольно встал ему навстречу и, вместо ответа на приветствие, понимающе, скорее даже сочувственно утверждая, чем спрашивая, проговорил с дружеской фамильярностью:
– «Мессер»?
– Нет. Кобель соседский.
Ответ пришельца, хотя и не погасившего белозубой улыбки, если не покоробил, то во всяком случае разочаровал летчиков. Они почему-то ждали от него совершенно другого, даже чуточку необычного, а тут – на тебе – кобель какой-то, а спрашивавший – это был летчик второго звена лейтенант Доронин, и тоже со шрамом, только не на щеке, а на виске, и не от кобеля какого-то паршивого, а от «мессершмиттов» – откровенно досадливо поморщился и с подчеркнуто пренебрежительным видом отправился на свое место и, как ни в чем не бывало, снова начал сдавать карты. Лишь после, как сделал первый ход, внушительно выбросив на стол козырную шестерку, он все же, верно, для приличия, а может, чтобы сгладить невыгодное впечатление, произведенное ответом пришельца на его, как он, видно, с опозданием подумал, не к месту и не вовремя заданный вопрос, переспросил постным голосом:
– Кобель, говоришь? Эт-то интересно, – и, все так же не поворачивая головы, зато бессовестно заглядывая соседу в карты, добавил нараспев: – А сам ты кто же будешь, товарищ покусанный? А? – И высоко, не сгибая в локте, вскинув руку, сделал следующий ход.
– Извините, но вы, кажется, не с той карты пошли, – вместо ответа мягко остановил его от порога вошедший. – Точно, не с той. Надо девятку, а вы восьмерку сбросили. Вот, теперь в ажуре, – и, поставив вещи на пол, взял, наконец, под козырек и, будто врубаясь в строй, в один присест отрекомендовался: – Лейтенант Бурноволоков. Штурман. Из ЗАПа. К вам в эскадрилью. Как говорится, для прохождения дальнейшей службы. – Потом, уже заметно сбавив обороты, с виноватой улыбкой: – Шрам же этот у меня действительно от соседского кобеля. С детства.
Летчики прервали игру, конфузливо переглянулись: пополнение, оказывается, новичок, нашего полку прибыло, а Доронин, быстренько смекнув, что новичок, быть может, как раз к нему в экипаж, вместо его недавно погибшего штурмана, уже более миролюбиво глянул в его сторону, вроде даже соболезнующе покивал ему своей крутолобой, стриженной «под ежика», головой с розовыми мясистыми ушами и опять повторил, видно, не найдя другого слова:
– Интересно, интересно!
– Интересного мало, если разобраться. Дурость одна, – снова повеселевшим голосом отозвался новичок и, не дожидаясь приглашения, прошел чуть вперед, ища глазами, куда бы пристроить реглан с пилоткой. – Ага, вот, – обрадовался он, найдя в стене свободный гвоздь и пробуя, крепко ли он там сидит. – Теперь порядок. – И снова, не обращаясь ни к кому в отдельности, точно самому себе, но невольно притягивая к себе взгляды, продолжал: – Дурость, говорю, одна. Из-за этого шрама меня и в ЗАПе за фронтовика принимали. Честное слово! Один раз даже на встречу с детворой пришлось идти. Со стыда чуть не сгорел. Вызывает меня, значит, комиссар полка и говорит: «Поедешь в детский сад. В порядке шефства. Расскажешь ребятишкам, как воевал. Дух у них поднимешь. Фронтовые эпизоды разные, позанимательнее которые». «Ошибочка, говорю, товарищ комиссар. Я и на фронте-то еще не был». У того глаза на лоб: «Как не был?» – «А так, не был – и все». – «А чего же ты, говорит, мне голову морочил? Вот у меня список – фронтовиком числишься». – «Не морочил, отвечаю, я вам голову. И фамилию свою в список не давал». – «А почему же тогда тебя, я сам, дескать, слышал, фронтовиком кличут?» – «Из-за шрама, наверно, этого. В шутку». – «А шрам откуда?» – «От кобеля соседского. С детства». От таких моих слов комиссара чуть удар не хватил. Минут пять не мог слова вымолвить. А пришел в себя, говорит: «Заменить бы тебя, стервеца, да некем. Но и мероприятие срывать нельзя, не положено. Только полк осрамим. Потому мой тебе приказ: садись в машину и тотчас поезжай в детсад. Без разговоров. Выступишь там. Только чего не знаешь, не болтай. В общем, ступай. И после доложишь. Да смотри, чтоб комар носа не подточил».
Землянка зацвела улыбками – летчики снова, уже не таясь, с любопытством воззрились на новичка, оценивающе перемигнулись: ловкий, дескать, парень, ходовой, и собою видный. Лишь большеголовый сержант, с перебинтованной выше локтя левой рукой, с видом великомученика брившийся перед крохотным щербатым зеркальцем в дальнем углу землянки, отставил бритву в сторону и, вздув на шее жилы, проговорил с натугой и вроде бы не совсем трезво:
– И вы поехали? Согласились?
В голосе его послышалось не только любопытство, и новичок, точно силясь разглядеть, кто это его спрашивает – на всю землянку была одна-единственная керосиновая лампа – помолчал немножко и ответил уже не так бойко, но все же со значением:
– Попробуйте не поехать. Комиссар полка ведь – четыре шпалы [16]16
Воинские знаки различия.
[Закрыть].
– Верно – комиссар. Ну, и чем дело кончилось?
Это уже спросил Доронин, спросил внушительно, так, что всем, особенно сержанту, застывшему с бритвой в руке, стало ясно: не перебивать, пусть рассказывает до конца, вопросики, мол, придержать под занавес. Так это понял и Бурноволоков и, виновато посутулив плечи, закончил со смешанным чувством стыда и балагурства:
– Выложил им пару баек, какие от ребят знал, да из газет вычитал, и тут же, как говорится, газ – по защелку, опережение – до ушей. Дай бог ноги, в общем.
И снова летчики, позабыв о картах, возбужденно зашевелились, невольно давая этим понять новичку, что поступил он если и не совсем порядочно, то во всяком случае смело, не растерялся, словом, проявил, что называется, армейскую находчивость, а раз так, то и вояка из него должен быть добрый. А Доронин даже привстал и, словно боясь, что его могут опередить, поспешил предложить ему койку, что пустовала рядом с его собственной:
– Вот тут и приземляйся. Капонирчик удобный. Свободный, – и, неуклюже взбив подушку, добавил, приспустив веки: – А портретик можно убрать, ежели мешает. Теперь он ни к чему.
Над койкой – два топчана и деревянный щит, – как раз в простенке между окон и в самом деле висела выцветшая фотография какой-то миловидной рыжеватой женщины. Бурноволоков обратил внимание, что глаза у нее чуток вытаращены, будто от испуга. «Не иначе, фотограф напугал, – усмехнулся он про себя. – А на обороте, наверное, что-нибудь вроде «Юре от Нюре» или «Люби меня, как я тебя», – и вдруг тут же резко – половица под ногой скрипнула – обернулся к Доронину, как-то болезненно прищурился и глухо спросил:
– Вдова, выходит, чья-то? И давно?
Тот неуклюже потянулся к лампе поправить фитиль. Руки у него были короткие – не достал. Пришлось встать. Табурет с грохотом отлетел к стене.
– Давно, говорю, сбили? – водворив табурет на место, опять глухо, но уже настойчиво переспросил Бурноволоков. Что-то подсказывало ему, что он имеет право на эту настойчивость.
– Неделю назад. «Мессера». Штурман мой. В одном экипаже. С хвоста зашли. Из пулемета. Насмерть. А Степану вон, стрелку-радисту, – кивок в сторону брившегося сержанта, – руку поцарапали. Выше локтя. А это жена штурмана. Только перед войной поженились. Да вот не повезло. Убери, ежели мешает.
Начал говорить Доронин вроде бы виновато, сдавленным голосом, не поднимая головы, а кончил вдруг с раздражением, шумно сопя носом и злобно косясь то на одного, то на другого, будто они были виноваты в случившемся. Бурноволоков смекнул: говорить ему об этом трудно и, чтобы разрубить сразу же наступившее вслед за этим неловкое молчание, с грохотом приволок от входа чемодан, с шумом рванул на себя крышку – и летчики, с любопытством следившие за каждым его движением, увидели поверх белья, книг и бритвенного прибора внушительного размера алюминиевую флягу.
– Солдат один дал, – смущенно пояснил Бурноволоков, взвешивая ее на руке. – Шофер, с которым сюда добирался. Он как раз бочку спирту вез. Бери, говорит, у меня лишку. Я и взял, не отказался. Только вот закусить нечем.
– Пойдет и так, – разом подобрев, но все еще шумно сопя, поспешил успокоить его Доронин. Потом, широкой ладонью смахнув со стола карты и дав знак кому-то, чтоб принесли стаканы, спросил:
– Как звать-то тебя, штурман?
– Иваном, Иваном Лукичом.
Отчество Бурноволоков назвал просто так, на всякий случай, скорее по инерции, так как знал: по отчеству его, двадцатилетнего лейтенанта, в полку так и так называть не будут – не тот возраст.
– Ваня, значит, – уточнил Доронин, со звоном ставя на стол один-единственный граненый стакан – больше не нашлось. Кружка же – для воды, запивать, кто сухогорлый.
– Нет, Иван.
– Ну, Иван так Иван, – охотно согласился тот. – А меня Платоном кличут. С детства. Еще когда под стол пешком ходил. А это вот, – добавил он, нарисовав рукой в воздухе нечто среднее между «иммельманом» и «боевым разворотом» [17]17
Фигуры высшего пилотажа.
[Закрыть],– эскадрилья, значит, наша. Вторая в полку. Это по счету. А по храбрости – первая.
– И по потерям тоже, – в тон ему подсказал продолжавший коромыслом гнуться перед зеркалом его стрелок-радист, по фамилии Клещевников, и опять, как показалось Бурноволокову, не совсем трезвым – вроде как резину жевал – голосом.
Доронин сузил глаза, но ответил мягко, с чуть заметной укоризной и тщательно подбирая слова:
– На войне, Степа, без потерь не бывает, без потерь не обойтись. Это вещь вполне закономерная. Наше дело такое: или грудь в крестах, или голова в кустах. В общем, нельзя, Степа, на войне без потерь. Невозможно.
– Потери потерям – рознь, – снова подал из угла голос Клещевников, уже без улыбки, и теперь Бурноволоков окончательно убедился, что тот был под хмельком. И еще он почувствовал, что Клещевников намеренно перечил своему командиру экипажа, вроде хотел затеять с ним ссору. Но Доронин сделал вид, что не разобрал его последних слов и, секунду-другую послушав, как под рукой Бурноволокова булькал из фляги в стакан спирт, умиротворенно произнес:
– За встречу, значит, за знакомство! И за службу нашу общую. А она, знаешь, не легкая: то «мессера», то зенитки, так что и пропустить по махонькой не грех, особенно перед ужином.
Первым, по общему настоянию, выпил сам Бурноволоков. Разом полыхнувший во рту пожар притушил услужливо поданной кем-то кружкой воды. За ним – Доронин. Этому неразведенный спирт – что слону дробинка, даже не поморщился. Только крякнул для солидности. Потом к столу, крохотному, без клеенки, подходили остальные летчики – человек десять – двенадцать – все, что к тому времени уцелело от эскадрильи. Пили тоже степенно, не торопясь, стараясь перед новым товарищем не ударить в грязь лицом: не привыкать, дескать, и не такое пивали. И приговаривали, каждый на свой лад:
– Будь здоров, лейтенант!
– Дай бог, не последнюю!
– Хто б ее пыв, колы б не нужда!
Лишь низкорослый и рыжий, как подсолнух, летчик первого звена младший лейтенант Тамбовцев подошел к столу не как все, а как-то боком, левым плечом вперед, посадив на него изрядное пятно с недавно побеленной печки, и, суетливо ощупав на гимнастерке пуговицы, произнес торопливо, будто кто его подгонял:
– Чтоб ни «мессеров» вам, товарищ лейтенант, не встречать, ни зениток не видать. А особенно над Алакурти не появляться. Семьсот стволов там – сила! И круглые сутки «мессера». Вот. Ну, за здоровье, товарищ лейтенант, и за все такое прочее, чтоб жить и не умирать, – и, опасливо покосившись на дверь, за которой, кроме глухого шума дождя, ничего не было слышно, «дернул» стакашек с таким видом, словно без парашюта прыгал за борт самолета.
Поблагодарив его взглядом, Бурноволоков поспешил протянуть ему кружку с водой, но Тамбовцев, как-то неестественно дернув шеей и раз за разом отчаянно икнув, протестующе замахал руками и – левое плечо вперед – вдруг с возрастающей скоростью, снова задев за печь, порулил к выходу. У самой двери он не сдержался и, зажав обеими руками рот, опрометью выскочил из землянки вон.
– Значит, насытился по самые ноздри, – не то осуждая его, не то оправдывая, счел своим долгом благодушно пояснить Бурноволокову Доронин, хотя и так все было ясно. – Тонка кишка на это дело. Ну, да еще привыкнет. – Затем, прищурив на него свои сухие даже после выпитого спирта, без блеска глаза, добавил с потугой на остроумие: – Одет ты, штурман, как я погляжу, прямо с иголочки, во все новенькое. Точно на парад. Только почему штаны пехотные, с красным кантом? И на гимнастерке кант красный? Других в ЗАПе, что ли, не было?
– Не было, – вяло отозвался тот, не спуская беспокойного взгляда с двери, за которой скрылся Тамбовцев. Потом, размяв папиросу и прикурив ее от лампы, пояснил: – Это еще что. Другие экипажи даже в танковую форму обрядили, когда на фронт отправляли. Представляете: стальной френч с черными бархатными петлицами, а в петлице – «птички». Не хватает, видно, обмундирования для нашего брата, а может, интенданты поднапутали, завезли не то, что надо…
– Интенданты – они мастера на такие штучки, – ухватившись за последнее с энтузиазмом, поддакнул Доронин, но, видно, тут же раздумав пройтись на их счет – не время, дескать, в другой раз, – вдруг широко улыбнулся и произнес с видом знатока: – А шрам у тебя, друг Иван, и точно боевой, вроде как от «мессеров». Не разберешь, что кобелек покусал. Как же это он тебя? А? Характерами, что ли, не сошлись?
Бурноволоков, не вынимая изо рта папиросы, неопределенно пожал плечами и снова посмотрел на дверь.
– Нет, все-таки, чего не поделили? А? – опять спросил Доронин и, лихо глянув на ребят, многозначительно поджал губы.
Бурноволоков понял: рассказать придется – две дюжины глаз, помасленевших от выпивки, снова уставились на него с властным любопытством и нетерпением, так не ломаться же как пряник – и, стряхнув пепел в приоткрытую дверцу печки, он начал неторопливо, но и не давая повода подгонять себя:
– Двенадцать лет мне тогда было. На хуторе мы жили, на Кубани. Садов там у нас – счету нет. Сплошь сады. Волк из лесу прибежит – заблудится. У нас тоже сад был. И яблок там, и груш, и слив – всего вдоволь. Но известно, у соседа они всегда слаще и поспевают раньше. Вот я и соблазнился соседскими грушами. А у соседа, на беду, кобель. С теленка. И злющий, почище тигра. Не подойдешь. Один парнишка попробовал, так он у него чуть ли не ползадницы оттяпал. В больнице даже лежал. С неделю, пожалуй, ей-богу. Вот все и забоялись туда лазить. Я же, наоборот, решил доказать, что мне-то уж все нипочем, я не я, мол, если соседских груш не отведаю и ребят ими не угощу. Раз плюнуть, дескать. Даже об заклад побился. А сунусь в сад, кобель тут как тут. Один раз штанину располосовал, из одной две сделал. В другой – ботинок прокусил.
Летчики шевельнулись, посгрудились плотнее. Вот уже вторую неделю кряду они почти безвылазно сидели в землянке – не было летной погоды – и, дурея от скуки, резались то в осточертевшего «подкидного», то «забивали козла» и, понятно, были сейчас рады любому свежему слову, любому рассказу и даже анекдоту. Ведь друг о друге они уже давным-давно все знали, вплоть до того, кто сколько раз на день до ветру ходит, все друг о друге давно повыведали, а тут – новичок. Новичка же всегда любопытно послушать, особенно такого, как этот ходовой красавец штурман. И не важно им сейчас было, врал этот штурман или говорил правду.
Если и врал, то врал занятно, солидно – и летчики, поудобней оседлав скамейки, самоотверженно тянули в его сторону шеи и неутоленно, в сладкой истоме щурили на него глаза.
– Ребята, известно, смеются, проходу не дают, – в полной тишине продолжал меж тем Бурноволоков. – А меня злость берет. И тут решил я, что перво-наперво мне надо кобеля на тот свет спровадить. Не убить, а отравить, скажем. Тогда и груши будут мои. Только где зелья взять такого? Яду, значит. Думал, думал и решил я ему вместо яда иголку с горбушкой хлеба сунуть. Глядишь – и подавится. Так и сделал: взял дома иголку, запрятал ее в мякиш – и к саду. Кобель там, понятно, на своем посту. Бросил ему, а сам бежать. Настала ночь, я снова туда. В полной уверенности, что подавился. Иголка ведь, не что-нибудь. И только я ногу на забор, он – ко мне. Живехонек. И вроде злее стал. Опять еле ноги унес. Но все равно, думаю, сегодня не вышло, завтра выйдет. На другой день я ему уже две иголки, да поздоровее, в хлеб законопатил. И опять то же самое: только я в сад, он тут как тут. Ничего не берет. Едва штаны на заборе не оставил. А все равно не отступаюсь: что ни день, новую иглу ему, а то и два. Мать на меня коситься начала: куда это, мол, иголки деваются, не напасешься. А потом и прятать стала. А я подгляжу и цап-царап. А затем и у дружков стал таскать. Приду к кому, увижу иголку – и в карман. А кобелю опять хоть бы хны. Иголок, поди, сорок в нем, целая швейная мастерская, а он живехонький, на весь хутор заливается, страх на добрых людей нагоняет. Я же чуть не плачу. И тут решил я ему уже не швейную, а шорную иглу подсунуть. Какими хомуты чинят. Специально у конюха спер. Ну, думаю, теперь-то уж он наверняка окочурится. Не иголка ведь, шило. Все кишки насквозь пропорет. И верно, сделал это дело и ночью – к саду. Подошел – тихо. В заборе дырку соорудил – тоже тихо. Сую в нее голову – и тут же он, стервец, точно из-под земли, как хва-аа-тит меня за щеку, аж головешки из глаз посыпались. И молчком почему-то, без рыка. Хоть бы взвизгнул. Зато я голос подал. На том конце хутора, говорят, слыхать было…
Пламя в «пятилинейке» качнулось, тени на потолке и стенах сбились в кучу – летчики схватились за животы.
Не сдержался и сам рассказчик, тоже широко раздвинул губы в улыбке.
– С тех пор вот и хожу с этой штуковиной, – добавил Бурноволоков и смущенно провел пятерней по шраму. – Ношу ее при себе.
– Вместо удостоверения личности, значит, – в тон ему поддакнул Доронин. – Бывает, бывает. Пошел, как говорится, по шерсть, а вернулся стриженым. Бывает, – и вдруг, разом оборвав смех, с дружеской бесцеремонностью хлопнул его по плечу, предложил: – А не махнуть ли тебе, штурман, к нам в экипаж. А? Место, как знаешь, свободное. Вместе утюжить воздух будем. Ты, я и Степан.
Предложение Доронина польстило Бурноволокову. Только не от него, Бурноволокова, это зависело – экипаж себе выбирать. На то командир и штурман эскадрильи есть, им и карты в руки. И потому, покашляв для видимости, ответил сдержанно:
– Это уж как начальство решит. Но Доронин уже в раж вошел.
– Что начальство? Летать ведь нам с тобой, нам и решать надо, – постанывая от возбуждения, загудел он уже на всю землянку. – А начальство я на себя беру. Поговорю. Не откажут. Было б твое желание. Согласен? – И цепко, словно тот увертывался, тянул его взглядом к себе, даже злился, хотя не мог не догадываться, что Бурноволоков так и так его экипаж вряд ли минует.
Понимали это, верно, и другие летчики, но не мешали тому куражиться, только сдержанно, не размыкая ртов, улыбались. Не улыбался лишь доронинский стрелок– радист Клещевников. Словно разговор этот его не касался, он отошел в дальний угол землянки, куда свет от лампы почти не доставал, и, затаясь в тени, исподлобья взглядывал оттуда то на одного, то на другого. И было непонятно, против он нового штурмана или нет. Лишь когда Бурноволоков, поддержанный кем-то из летчиков, кажется Тамбовцевым, убедил, наконец, Доронина, что разумнее подождать до завтра, как начальство решит, так оно и будет, а сам он нисколечко не против, опять вышел на свет и проговорил не то в шутку, не то всерьез:
– Правильно, не спешите, товарищ лейтенант, спешка, она, знаете, больше при ловле блох или когда с чужой женой, как говорится. А тут – такое дело.
Бурноволоков, не гася улыбки, удивленно глянул в его сторону, а Доронин, истолковав слова своего стрелка как намерение поднять себя в глазах нового штурмана, бросил небрежно, но и не без строгости:
– Вашего мнения, товарищ сержант, между прочим, и не спрашивают. Ясно?
Это подействовало – Клещевников, будто споткнувшись обо что-то, разом приниженно сгорбатил спину и, хороня раненую руку, чтобы не задеть за тесно сдвинутые койки, заковылял в свой закуток. Но на полдороге вдруг резко обернулся и, накрыв полземлянки большеголовой тенью, со злым упрямством произнес:
– Не спрашивали, а я скажу. Рот затыкать нечего.
Бурноволоков опять с недоумением перевел взгляд в его сторону и только теперь увидел, что Клещевникова развезло окончательно, он еле стоял на ногах и, чтобы не потерять равновесия, судорожно, до белизны в пальцах, здоровой рукой цеплялся за подоконник. Оказывается еще до появления штурмана, когда Клещевников был в санчасти, на перевязке, его сердобольная Настасьюшка, работавшая там медсестрой, исключительно из сострадания к его ране, поднесла ему вместительную мензурку чистейшего спирту. А тут вскоре и Бурноволоков подоспел со своей флягой, вот его и разобрало, а заодно и храбрости поддало, каковой он вообще-то здесь, на земле, никогда не отличался, был парнем тихим, негромким, оживал только в воздухе.
– Вы хотите, товарищ лейтенант, – стараясь говорить внятно и все же сглатывая окончания слов, с напряжением заговорил он, – нового штурмана в экипаж заполучить. А для чего? Чтобы его так же, как и Рудакова, изрешетили? А изрешетят, точно. Потому что экипаж наш невезучий. Я уж и не припомню, когда мы с вами с задания без пробоин возвращались. Не везет нам – и только, – и, уже полуобернувшись к Бурноволокову, добавил открыто-доверительным тоном: – Вы извините, товарищ лейтенант, что я так вот, прямо при вас. Честное слово, после того случая, когда потеряли Рудакова, не хотел с ним летать. Откажусь, думаю. Пойду к самому командиру полка и откажусь. Хоть к стенке ставь.
У летчиков перекосило физиономии – такого в авиации не было, чтобы стрелок-радист от своего командира отказывался. Да еще в открытую, при всем честном народе. Ну, штурман, скажем, – другое дело. Штурман может отказаться. На то он и штурман. Штурман в бомбардировочной авиации – всему голова. А тут – на тебе – рядовой стрелок-радист, человек, летающий, как говорится, задом наперед, в хвосте, а туда же – летчику от ворот поворот давать. Уж не спятил ли он? А может, это ранение мозги ему набок свернуло? Со спиртоганом вместе. Ударил спиртоган в голову, вот он и сошел с курса. И летчики с минуту пялили на него глаза не столько с возмущением, сколько с изумлением, будто на зачумленного, и лишь когда Клещевников, выговорившись до конца, бледный, видно, сам оглушенный своей необычной откровенностью, мешком опустился на койку, Доронин наконец поднял голову, шумно выпустил из груди воздух и проговорил сдавленно, через силу:
– Отказываешься, значит, Степа? Летать со мной, значит, не хочешь?
– Не хотел, товарищ лейтенант, – расслабленно поправил Клещевников.
– Это одно и то же, – уже пересилив себя, снова на свой обычный голос перешел тот. – Что ж, вольному – воля, спасенному – рай. Уходи. Как-нибудь и без тебя обойдемся, – и, поводив пальцем по столу, добавил с потаенной угрозой: – Только вот к кому пойдешь, не знаю? Может, вообще, в пехоту? Стрелковым отделением либо взводом командовать?
– Зря это вы, товарищ лейтенант, – все так же вяло, вроде даже с безразличием отозвался Клещевников и остекленело, будто не узнавая, поочередно обвел взглядом настороженно притихших летчиков. И вдруг снова с упрямством, точно шел на таран: – Летать с вами я не отказываюсь, а вот новому штурману лучше подождать. Рано ему на тот свет. Пусть в другом экипаже полетает. А вот нам с вами, – добавил он не то с радостной обреченностью, не то с насмешкой, – и погибнуть не грешно, как говорится. Полсотни вылетов за плечами. Чужой век заедаем…
Краешком глаза Бурноволоков увидел, как Доронин налился бледностью, которую не смог скрыть даже багровый отсвет, падавший на его лицо из полуоткрытой дверцы печки, и как весь он, словно кто из-под него потянул табуретку, сунулся вперед, грудью на столешницу, как рука его, мосластая, с рыжеватым отливом, будто невзначай скользнув по столу, сжала стакан чуть не до хруста. «Неужто ударит?» – сжался Бурноволоков и сделал опережающий шаг вперед. Доронин понял это и, прервав дыхание, с минуту просидел в той же позе, недвижно, лишь прикрыв, будто от дыма, глаза. Потом, катнув стакан по столу, рассмеялся самым натуральным образом:
– Эт-то интересно, интересно. Значит, не о себе, а о других печешься, друг Степа? Так? Вроде как ангел-хранитель, только без крылышек. Сам готов хоть головой в омут, а других жалеешь? Не знал, не знал, что за тобой такое водится – жалость. Только кому она требуется, эта твоя жалость? Кому? А? Смешно слушать даже такое, друг Степа, – и, вскинув еще не остывший, в сероватой окалине, взгляд на Бурноволокова, добавил с вкрадчивой многозначительностью – Может, тебе нужна его жалость, штурман? Говори, отвечай, не утаивай. Я ведь крепкий, слезу не уроню, выдюжу.
Бурноволоков не отвечал, продолжал стоять молча, в той же позе, чуть подавшись вперед. Да и что мог ответить он, новичок, прибывший в эскадрилью час-два назад, когда даже однополчане Доронина, вот уже второй год тянувшие с ним вместе солдатскую лямку, не решались слово вымолвить, лишь пришибленно взглядывали друг на друга да виновато переминались с ноги на ногу. А потом Бурноволоков понимал, что весь этот сыр-бор загорелся как раз из-за него, что, не появись он сегодня или вообще в эскадрилье, здесь все было бы тихо и мирно, все бы шло своим чередом, как и должно идти в боевой, давно слетанной авиационной семье. А он появился, и все полетело к чертям собачьим: и эта чистая, уютная землянка с пышущей жаром печкой, и по-особому симпатичные, какие-то домашние лица летчиков, и даже этот наивный, пошленький «подкидной дурачок», словом, все, что после долгой и тряской дороги от станции на аэродром, после холодного и нудного дождя, барабанившего в стекла кабины старенькой полуторки, казалось раем, располагало к отдыху и покою. И вот ничего этого уже нет, а есть лишь темные, грубо проконопаченные стены землянки, потрескавшаяся печь, злое, в суровых складках, лицо Доронина и неприятно коптившая керосиновая лампа. И все. Остальное, что еще недавно радовало, согревало душу штурмана, исчезло, и он, так и не ответив на вопрос Доронина, продолжал стоять будто в оцепенении.
И простоял бы, верно, долго, если б в землянке вдруг не появилось новое действующее лицо. Это была официантка из летной столовой Жанна, или, как в шутку называли ее на аэродроме за необычайно смуглый цвет лица, огромные круглые медные серьги и разбитной характер, Дама Пик. Жанна вошла не сразу – через дверь в землянку сперва донесся ее возмущенный грудной голос: «Я тебя, паразита, научу, как с культурной женщиной обращаться!» – не иначе, Жанна отшивала кого-то из приставших к ней мужчин, – а войдя – в глазах у Жанны – ноченька темная, под кофтой – два мощных кучевых облака – начала с ходу, без предисловия, будто заведенная, только чуть сменив интонации:
– Ужин стынет, а им хоть бы хны. Вы что же, мальчики мои миленькие, сегодня натощак решили ложиться? Так имейте в виду: не каждой женщине это может понравиться, – и вдруг, заметив незнакомого белокурого красавца со шрамом на щеке, протянула с наивным простодушием: – Ой, да у вас никак новенький? А я, дуреха, и не разглядела, – и тут же по инерции сделала ему глазки.
– Плохо, выходит, глядишь, – подал от стола голос Доронин и одарил ее свирепым взглядом – за глазки, верно.
– Плохо? Ничего, Платоша, еще рассмотрю, успею. Я ведь зоркая, насквозь вижу, – мгновенно нашлась Жанна и, как бы следуя его совету, намеренно чинно прошлась перед Бурноволоковым и смело оглядела его с ног до головы.
– Ну и как? – заинтригованно спросил кто-то из летчиков, почуяв возможность позабавиться и хоть на время позабыть о распре в эскадрилье.
– Натурально витязь в тигровой шкуре, – серьезно а с вызовом, не дав расцвести глумливым улыбкам, ответила Жанна и уже, будто, кроме них, в землянке больше никого не было, – Бурноволокову, робко, с девичьей стыдливостью, как бы намереваясь этим сокрушить неприступность штурмана: – Стихи, случаем, не пишете?
Бурноволоков недоуменно повел плечом.
– Нет, не пишу.
– Жаль. Может, попробуете? Между прочим, до войны у меня был один знакомый, тоже из военных, так стихи все писал. Про любовь. Возвышенно так. До слез. Может, все-таки попробуете?
– Чего пристала к человеку? Отвяжись! – опять, но уже не так злобно, осадил ее Доронин и, как бы извиняясь за нее перед штурманом, добавил с наигранной беззаботностью: – Вот репей-баба! Никому проходу не даст, за каждую штанину цепляется.
Как ни вульгарна, на первый взгляд, показалась Жанна Бурноволокову, а при последних словах Доронина и ее натура не смогла стерпеть такое: Жанна надменно – большие медные серьги сердито звякнули – откинула назад голову, зло изогнула левую бровь и, сузив, насколько это было возможно, свои огромные, широко поставленные черные глаза, отпарировала так, будто занозу под ноготь всадила:
– Ревнуешь, мой миленький? Боишься, как бы я его, – царственный жест в сторону Бурноволокова и новый звон серег, – невзначай не приголубила? Что ж, ревнуй, а то ведь и взаправду приголублю. Кавалер что надо, – и, не дожидаясь ответа, первой рассмеялась беззвучным, похожим на кашель, смешком, от которого Бурноволокову стало не по себе. В этот миг Жанна и впрямь напомнила знаменитую Даму Пик, и штурман, успев сообразить, что Доронин не иначе как ходит у нее в любовниках, искренне его пожалел: отчаянна не в меру.
Сам же Доронин и бровью не повел, видно, понял, что Жанну сейчас голыми руками не возьмешь, что ее лучше пока не трогать, и, неуклюже встав из-за стола, лишь бросил мимоходом и как-то примирительно:
– Плетешь несуразное. Язык-то без костей. – Потом, после чрезмерно затянувшейся паузы, добавил вновь окрепшим голосом: – А ужин и в самом деле стынет. Пошли, ребята. А то кишка кишке кукиш кажет, – и, не сомневаясь, что летчики, как всегда, хлынут за ним следом, первым, точно вожак в гусином стаде, вперевалку двинул к выходу.








