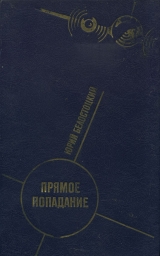
Текст книги "Прямое попадание"
Автор книги: Юрий Белостоцкий
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 26 страниц)
В полку Анохина не ждали. Из летчиков, вернувшихся со штурмовки, никто не мог объяснить толком, при каких обстоятельствах его сбили. Предполагали, что он и стрелок могли выброситься на парашютах, потому что видели, как самолет дымил. А что было дальше – никто не знал.
– Погибли, – говорили одни.
Но те, кто близко знал Анохина, в это не верили.
– Жив. Не такой Анохин парень, чтоб погибнуть. И друга он в беде не бросит. Придет, – стояли они на своем.
В этот день на аэродроме было необычайно шумно. Накануне из штаба воздушной армии пришел приказ – всем полком вылететь на штурмовку. Цель – Буян-озеро, тот самый аэродром, возле которого, голодный и усталый, одиноко бродил Анохин.
На стоянках ревели моторы, сновали автомашины, стартеры, бензозаправщики, от самолета к самолету бегали техники, оружейники, мотористы.
Начинался боевой будничный день.
Толстощекий крепыш Федя Ищенко, механик Анохина, теперь «безлошадный», как называли в таких случаях оставшихся без машин и экипажей, помогал техникам третьей эскадрильи готовить самолеты к боевым вылетам.
Эскадрилья занимала северо-западную окраину аэродрома. В километре от нее, на пригорке, располагались зенитные батареи. Их разделял крутой, глубокий овраг, уходивший к небольшому, похожему на лошадиную голову, озеру. Вдоль оврага тянулся густой темный лес. Слежавшиеся комья снега сдавили его, приплюснули, и от этого он казался печальным, угрюмым, и только там, где лесная полоса огибала стоянку, красовались, словно родные братья, высокие стройные тополя-великаны. Под их густыми заснеженными ветвями в удобном капонире стоял самолет командира эскадрильи, вправо и влево от него, по опушке леса, по звеньям – остальные.
Яркие лучи восходящего солнца серебрили огромные крылья «ильюшиных», этих «летающих танков», играли на стеклах приборов, колпаков кабин, заливали ослепительным блеском холмы и сопки. Грозно и неподвижно глядели стволы пулеметов и пушек, от прогретых моторов шел пар, пахло бензином. Возле землянки оружейников, куда обычно собирались на перекур, мотористы загружали автомашину бомбами и боеприпасами. Они оживленно переговаривались между собой, шутили. Летчики и воздушные стрелки, уже получив задание и ожидая сигнала к вылету, находились тут же, у самолетов. Они помогали техникам подвешивать бомбы, проверять вооружение, приборы, оборудование.
Глядя на них, на этих расторопных, задорных ребят, на эти по-деловому возбужденные лица, как-то не верилось, что вот сейчас, всего через несколько минут, они уйдут туда, за линию фронта, на запад, навстречу опасности и смерти. Говор и шутки не смолкали по-прежнему.
Один лишь Ищенко был угрюм и невесел.
«Вот бы Анохина сюда», – размышлял он, не обращая внимания на чей-то забавный рассказ, то и дело прерываемый дружными взрывами хохота.
– И где-то он теперь? Неужели погиб? Э-эх, пропал парень…
Ищенко и не заметил, что последние слова произнес вслух.
– Ты чего это вздыхаешь? – повернулся к нему техник звена Вайя Афанасьев.
Высокий, сутулый, в коротком полушубке и валенках, он казался вдвое выше Ищенко. Вот он степенно отер со лба пот, отставил в сторону ящик с инструментом и, покачиваясь из стороны в сторону, подошел к приятелю.
– Ты чего это? А? Да еще перед вылетом, – с укоризной заметил он Ищенко и покачал головой.
– Да так, – отмахнулся тот и, помолчав, добавил с грустью – Командир-то, говорю, погиб, наверно…
– Не вернулся – это не значит, что погиб, – солидно возразил ему Афанасьев. – Почему ты думаешь, что он не вернется? Вон в тридцать пятом полку Алексей Печников на шестые сутки вышел. А тут три дня – ерунда.
– Нет, нет, не говори, Ваня, – не унимался Ищенко, а сам пытливо поглядывал на него своими раскосыми глазами.
– Точно тебе говорю, – убежденно продолжал Афанасьев. – Таких случаев у нас немало. Вот, взять к примеру Софронова, Иванцова, да всех и не упомнишь. А Анохин ведь любому из них сто очков вперед даст.
– Это-то верно, да вот только…
Ищенко и сам не верил в гибель Анохина, но он нарочно вызвал приятеля на такой разговор. Ему нравилось, когда возражали.
«Значит, не я один так думаю. Не я один!..» Но стоило лишь кому-нибудь согласиться, что его летчик и стрелок погибли, как Ищенко резко обрывал не в меру сочувствующего:
– Погибли! А ты откуда знаешь? Пророк нашелся! Вернутся они! Живы!
Вот и сейчас ему было приятно, что Афанасьев спорил с ним, и он мало-помалу успокоился.
В это время к самолету подошел командир эскадрильи.
– Ну как, товарищи, готовы? – обратился он к техникам. – Через десять минут вылет.
– Все в порядке, товарищ майор! – ответил Афанасьев. – Не задержим.
– А помнишь, Ваня, – вдруг снова заговорил Ищенко про Анохина. – Помнишь, когда он под Новый год с задания вернулся?
Афанасьев кивнул головой.
– Так вот, поверишь ли, живого места не было на самолете… Подвинти. Еще немного. Вот так. Хорош… Пробоин пятьдесят, – продолжал Ищенко. – Приборы – вдребезги, фонарь – разбит, стабилизатор – как решето. «Где же это, – говорю я ему, – вас так угораздило?» – «В небушке, Федя, в небушке, – отвечает он и смеется. – Тесновато, – говорит, – в воздухе было, вот и пришлось схватиться с фашистом». – «А как же, говорю, вы летели на такой машине? Ведь это не самолет теперь, а одни дыры какие-то, телега. Теперь ведь ему только один путь – на свалку или в музей». – «Что ты, – говорит, – Федя? Зачем в музей? Матчасть работала исправно. Так и в формуляре запиши. Правда, кренит, заваливает слегка вправо, а так ничего, хорошо». Вот и поговори с ним после этого. А молодец! Отчаянный парень! – не без гордости закончил Ищенко.
– Что и говорить, – поддержал его Афанасьев. – Таких немного!
Вдруг в это время, едва не резанув винтом по верхушкам деревьев, над аэродромом внезапно появился самолет. На его длинном худом теле зловеще чернели кресты и фашистская свастика. Мощный, пронзительный рев мотора, казалось, хотел расколоть небо надвое.
– «Мессер»! – крикнули где-то рядом.
Бух! Бух-х! Трах-тах! – тотчас же ударили зенитки. А еще через мгновенье с командного пункта взвилась зеленая ракета. И не успела она погаснуть, как дружная пара «яков» рванулась с места и пошла на взлет.
– Быстрей! Быстрей! – провожали их криками на стоянках. – Быстрей, а то уйдет. Вишь, драпать начинает.
Но, к удивлению всех находившихся на аэродроме, «мессершмитт» и не думал удирать. Наоборот, сделав хитроумный противозенитный маневр (которому мог бы позавидовать любой летчик), он вдруг, выпустив шасси, смело пошел на посадку.
На аэродроме ахнули от изумления. Действительно, творилось что-то необычное. И, словно по команде, техники и мотористы, сержанты и солдаты, все, кто находился поблизости, бросились к самолету. А со стороны штаба и землянок туда же бежали новые и новые группы людей, на ходу щелкая затворами винтовок, спешил стрелковый взвод охраны.
А «мессершмитт» впритирку, как говорят летчики, мягко коснулся аэродрома, пробежал посадочную полосу, лихо развернулся и, как ни в чем не бывало, порулил к стоянке третьей эскадрильи, к тому самому капониру, в котором когда-то стоял штурмовик Анохина. Но капонир был занят. В нем уже по-хозяйски располагался связной «По-2».
«Мессершмитт» затормозил, остановился. Его тотчас же окружили со всех сторон.
– Сдаваться прилетел, – взволнованно говорили одни.
– Не сдаваться, а заблудился, – горячо возражали другие. – Бензина-то в обрез, наверное.
– Сдаваться, – не унимались первые. – Крышка скоро Гитлеру, вот они и перекидываются к нам.
Но каково же было их удивление, когда из кабины показался худой и обросший, озорно улыбающийся летчик и, махнув рукой на безобидно стоявшего в капонире «кукурузника», крикнул на чистом русском языке:
– А ну, братва, выкатывай эту посудину отсюда!
На какое-то мгновение толпа застыла в безмолвном оцепенении.
– Да это Анохин! – вдруг крикнул Ищенко.
– Анохин! Алексей! – прорвалось, грянуло по аэродрому, и не успел летчик опомниться, как десятки сильных и крепких рук подхватили его.
VIIВесть о том, что Анохин вернулся, да еще таким необычайным образом, быстро разнеслась по аэродрому, и вскоре не было ни одного человека, который бы не знал о случившемся. Правда, последовавший затем боевой вылет полка на время заслонил разговоры об этом, но, когда к полудню, изрядно потрепав противника, «девятки» штурмовиков, не потеряв ни одного экипажа, одна за другой стали касаться бетонки своего аэродрома, разговоры об Анохине возобновились снова.
А вечером, когда последний самолет был зачехлен и на стоянках остались одни часовые, в землянку летчиков третьей эскадрильи послушать отдохнувшего и отоспавшегося к тому времени Анохина собралось столько народу, что многим негде было присесть.
Анохин, расстегнув от жары почти все пуговицы на гимнастерке (друзья постарались, натопили как в бане), сидел на потертом футляре из-под баяна и неторопливо вел рассказ. Лицо его было гладко выбрито. Похудевшее, оно, однако, не потеряло своей свежести. Большие глаза смотрели по-мальчишечьи просто, открыто, и в то же время в них чувствовалась какая-то далекая, затаенная грусть.
Когда он заговорил о Казакове и его гибели, в землянке стало так тихо, что было слышно, как в лампе потрескивал фитиль, заставляя вздрагивать и колыхаться тусклое пламя «пятилинейки».
Тяжелая это была весть. Но ни один мускул не дрогнул на лицах собравшихся. Суровые и неподвижные, затаив дыхание, летчики слушали своего товарища.
Алексей изредка останавливался, чтобы собраться с мыслями.
В печке уже давно прогорели дрова, немилосердно коптила лампа, но на это никто не обращал внимания. Рассказ Анохина глубоко взволновал собравшихся, и уж до печки ли было тут.
Вот у окна сидит лейтенант Николай Котов. Его сосед, Федя Ищенко, пребольно сдавил ему ногу, а он и не шевельнется, глаз с Анохина не спускает, точно занимательную и страшную сказку слушает. Но лейтенант Котов знает, что это не сказка. Не раз побывавший в переплетах и переделках, из которых выходят только смелые и сильные духом, он знал, что такое подвиг, отвага, геройство. Он знал и цену им.
А вот Бахметьев. Всегда веселое, добродушное лицо его задумчиво и серьезно. Из-под широких, мохнатых бровей как угли горят черные глаза; в них и грусть о погибшем сержанте, в них и гордость за подвиг товарища.
А за окном пронзительно завывает холодный порывистый ветер, глухо шумит лес. Изредка доносятся глухие раскаты одиночных артиллерийских выстрелов, к ним примешивается сухой треск ломаемых стужей деревьев.
– Последнюю ночь я не спал, – неторопливо продолжал Анохин, изредка останавливаясь, словно припоминая что-то. – Было так холодно, что я не мог заснуть. Перчатки мокрые, в унты снегу набилось – замерз. Попробовал ходить – трудно. Снег – выше колен, еле ноги передвигаешь. Да и силы, думаю, беречь надо.
Бросил. Уткнулся лицом в воротник, кажется, теплее стало, и сижу. А надо мной сосны шумят, жалобно так, словно живые.
Сижу, раздумываю: как быть, что делать? В конце концов из всего вороха мыслей особенно врезалась мне такая: дай, думаю, подожгу мастерскую, которую я еще днем возле стоянки заметил. Охрана бросится тушить, поднимется паника, а я тем временем в самолет – и даешь в свой полк. Кажется неплохо. Обдумываю, взвешиваю все, чтобы действовать только наверняка. Но вот подумал, поразмыслил… и не то. Ведь охрана могла и не уйти от самолетов: не наше дело, скажут, пусть тушат пожарники. А мне тогда что? Ведь по следам могли найти. Значит, нужно что-то другое.
И тут приходит мне в голову новый вариант. Как же, думаю, я раньше-то о нем не догадался. Вот черт!
Анохин заметно повеселел, тряхнул головой и заговорил быстрее:
– И решил я, братцы, так. Пробираюсь на аэродром. Ночь темная. Незаметно подкрадываюсь к часовому и убиваю его. Быстро переодеваюсь в немецкую форму, для безопасности это, на всякий случай, а часового – в снег, от глаз подальше. Из каптерки (а я днем еще заметил, что замка там нет) достаю лампу и подогреваю мотор. Пламя у нее тусклое, незаметное, да и кто подумает, что вместо часового здесь я, советский летчик, орудую.
Подогрев мотор, расчехляю самолет, колодки из-под колес долой, по газам, – и поминай как звали. И до того я, ребята, приободрился, что про мороз забыл. Ну, а раз, думаю, решил, значит, медлить нечего. И сразу же за дело.
Встал – и к аэродрому. Снег, пни, валежник, а я вроде и не замечаю их. Иду, тороплюсь, даже жарко стало.
Пришел еще затемно. Прямо к капониру. Подполз ближе, смотрю: черт возьми, часовой не один. С ним еще кто-то, видимо, приятели с соседнего поста. Курят, гады. Ну, думаю, опять загвоздка. С тремя-то, пожалуй, и не справиться. Да и опасно. Но делать нечего, скриплю зубами, а лежу, жду. Прошло с полчаса, может, и больше, а немцы ни с места. Вскоре и светать стало. Тут и техники пришли, самолеты готовить к вылетам. Часовые, конечно, по землянкам, отогреваться, ну и мой курильщик тоже за ними. А я лежу. За капониром, значит. Холодно, а пошевелиться нельзя. Самолет почти рукой достаю, совсем рядом. Да только меня не видно. Сугробы, лес, кустарник – настоящая маскировка. Лежу, словно в укрытии каком. Да это, собственно, меня и не радовало. Ведь момента-то подходящего все не было. Вместо часовых теперь двое техников у «мессершмитта»: долговязый один такой и с ним ефрейтор, моторист. А тут еще вот-вот летчик подойдет. Опять трое будет.
Что ж, думаю, делать? Ждать? Ждать. Да больше для меня ничего и не оставалось. Авось, думаю, чего-нибудь да и дождусь.
А техники самолет расчехлили, мотор греют. И летчик вскоре пришел, тот самый, которого я вчера видел. Он на приветствие техников даже не ответил, а так буркнул что-то себе под нос и – прямо к лампе, руки греть.
На соседних стоянках уже моторы запустили, шум, рев кругом. Смотрю, и мой технарь в кабину полез, мотор опробовать. Закрутилась «палка» [26]26
«Палка» – воздушный винт.
[Закрыть], у меня даже под ложечкой засосало.
Слышу – хорошо работает, чисто, без перебоев.
«Ну, Алексей! – говорю себе. – Готовься».
Техник вылез из кабины и – к летчику. А мотор работающим оставил, на малых оборотах. Летчик парашют надел и хотел уже в самолет садиться, да, видимо, вспомнил о чем-то. А я с него глаз не спускаю. Смотрю, он торопливо достал из планшета какой-то пакет и подозвал ефрейтора. Тот козырнул и что есть духу пустился через аэродром – в штаб, наверно.
Ну, думаю, наконец-то!.. Лучше не будет. Самолет в готовности, и гитлеровцев только двое. Самый подходящий момент.
Ну, Алексей!.. Д-давай!
Поднялся я и – к немцам. Иду, напористо иду. Они не видят. Что ж, думаю, тем лучше.
А у самого в душе такое творится, что и не выскажешь.
Сколько раз на штурмовку ходил, с «мессерами» дрался, а того не испытывал. Ведь враги-то передо мной не за броней самолета, а с глазу на глаз, лицом к лицу. Эх!.. И закипело во мне. Вспомнил о Казакове – словно сил прибавилось. Ну, думаю, сейчас расквитаюсь.
Вдруг летчик в мою сторону поглядел. Мой необычный вид (рваный комбинезон, подгоревшие унты) удивил его.
– Вер зинд зи? [27]27
Кто вы? (нем.)
[Закрыть]– настороженно спросил он.
– Разве не видишь? – подойдя вплотную, спокойно, но твердо сказал я. – Советский летчик.
Ужас исказил лицо фашиста. Мне запомнились его глаза. Круглые, навыкате, они впились в пуговицу на моем комбинезоне. Там, на пуговице, он увидел звезду, нашу обычную пятиконечную звезду, и, конечно, сразу же поверил, что я действительно тот, за кого себя выдаю.
– О-о! Русс! – вскрикнул он тогда с каким-то необычайным злорадством и рванулся к парабеллуму. Но его рука еще и до кобуры не дошла, как я выстрелил ему в грудь. Он замертво рухнул в снег. Второй же немец (он в это время возле стабилизатора возился) как услышал выстрел, метнулся к нам. Видать, не сразу сообразил, что случилось. На стоянке ведь шумно. А потом, как разобрался, – на меня. Чего-то в руку схватил. Струбцинку, кажется. Да только ничего не вышло. Не успел он замахнуться, как я быстро отскочил в сторону и дал ему подножку. Он упал. Да так, что на животе чуть ли не полстоянки проехал. Я его тут же рукояткой по затылку. Он взвыл от боли. Я еще разок, и он затих.
Ну, теперь, думаю, все! В самолет…
Сильным пинком я вышиб из-под колес «мессершмитта» тормозные колодки – и в кабину.
Анохин оживился, озорно блеснул глазами. Голос его прерывался.
– Вскочил в кабину, мать честная! Аж дух захватило. И верю и не верю. В самолете ведь! Снова в самолете! Готов от радости заплакать. Схватился за штурвал: руки дрожат, в висках стучит, в горле пересохло. «Ничего! Ничего!» – говорю себе и даю газ. Как зверь мой «мессер» вырвался из капонира.
Впереди аэродром, взлетная полоса – как на ладони. Вдруг где-то со стороны штаба одна за другой взлетели красные ракеты. Глянул вправо – немцы бегут, слева – автомашина наперерез мчится. Тревога!..
Ну, нет! Теперь нас голыми руками не возьмешь! И, как говорится, «газ по защелку, опережение до ушей». Мой «мессер» вздрогнул, послушно ринулся вперед. И замелькало все: кусты, деревья, люди, землянки…
Что, взяли, гады? Э-э-х!.. И до того мне стало радостно, что я не выдержал и запел. Запел во все горло. Мотор поет, и я пою. Что есть мочи пою…
– А что пел? – облегченно вздохнув, вдруг с улыбкой спросил Бахметьев.
– Нашу авиационную:
Там, где пехота не пройдет,
Где бронепоезд не промчится,
Угрюмый танк не проползет,
Там пролетит стальная птица.
– Ну-у! А когда к своему аэродрому подлетал, тоже пел? – не унимался повеселевший Бахметьев. – Под зенитками-то небо, чай, в овчинку показалось? А? – И он лукаво прищурился.
– А как же? Пел! Все время пел! Ведь на батарее-то у меня командир приятель, земляк, – засмеялся Анохин. – Узнал по почерку! Да и я его повадки тоже знаю. Учел…
* * *
Далеко за полночь расходились летчики. Стихал ветер. Светлело небо. Цепляясь за верхушки деревьев, куда-то за сопки уползали рыхлые, хмурые облака. На стоянках перекликались часовые, изредка доносилось: «Стой, кто идет?» – и опять все смолкало. Где-то над лесом взлетали сигнальные ракеты. Рассыпаясь брызгами разноцветных огней, они медленно гасли в пространстве темной фронтовой ночи.
Через час-другой начнет светать. Мощный рев моторов разбудит тишину раннего утра. И тогда туда, в хмурое холодное небо, снова пойдут эскадрильи тяжелых стальных птиц.
– Желаем удачи!.. – скажут им на аэродроме и долго, долго будут глядеть вслед, пока самолеты не скроются в туманной дымке далекого горизонта.
Из огня да в полымя
Ну, еще один, последний полет по кругу – и сержанту Кузькину сам черт будет не брат. Загонит наконец свою окаянную судьбу он в мышеловку. А то ведь совсем было отчаялся парень. Третий месяц на фронте, а пороху, как говорится, не нюхивал. Даже перед товарищами стыдно. Кусок в горло не лезет. И все потому, что не довезло, не в сорочке родился. Прибыл из училища, думал: сразу в бой, на бомбежку. А в полку, оказывается, на семнадцать экипажей всего десять машин. По очереди летают. Да и то не все. Потом машин еще меньше стало. Три же месяца назад, в начале войны, ровно тридцать было. Потери уж очень большие. И от «мессеров» и от зениток. Правда, летчики-то, хоть и не все, возвращаются. На своих двоих, конечно, пешочком. Через леса и болота. Один даже спустя месяц пришел. Еле узнали. Был парень кровь с молоком, а тут – краше в гроб кладут. Кожа да кости. И немудрено. Почти одними ягодами питался. Клюквой да брусникой. И борода до пупа – оброс. А в левой ноге – дырка. Пулевая. Немцы отметку сделали, когда через линию фронта переходил. Вроде как на память. Чтоб не забывал. Но вернулся все же, выдюжил. И рад. Аж плакал от радости.
А вот сбитый самолет не вернешь. Факелом сгорает. Один костер остается. Там, за линией фронта.
Теперь же всему этому конец: полк на днях машинами укомплектовали. Полностью. Новехонькими. Прямо с завода. Получит свою и он, сержант Кузькин. Только вот сейчас бы не подкачать. Впрочем, это исключено. Техника пилотирования у него неплохая. Даже больше, чем неплохая. Хорошая, можно сказать. Командир звена только что проверял. Командир эскадрильи – тоже. Вроде и тот и другой довольны. Хотя давно не летал, с училища.
Так что еще один, наипоследний полет по кругу, еще одна «коробочка» – и Кузькин будет окончательно введен в строй, зачислен в боевой состав полка. А это значит: конец дежурствам по кухне и «теорке», которая ему еще в училище хуже горькой редьки надоела. Конец и насмешкам со стороны девчат. Линия, видишь ли, у них такая – привечать лишь тех, которые на боевые задания ходят. Им, мол, любовь нужней. Им без любви нельзя. А ты, дескать, можешь и подождать. Не к спеху. Теперь небось по-другому заговорят.
Только бы облачность не помешала. Вон небо-то как затягивает. Того и гляди дождь пойдет. А уж если пойдет, считай, на неделю. Здесь, в Карелии, без этого не бывает. Такой уж характер у здешней осени: зальет, а от своего не отступит.
Но ведь и у него, сержанта Кузькина, тоже характер есть, он тоже не на сырой водице замешен. Даром что ему лишь девятнадцать. Еще в училище, когда он на спор забрался по водосточной трубе до четвертого этажа и, пропев там от начала до конца авиационный марш, тем же манером спустился обратно, сам командир отряда при всех заявил, что характер у него действительно есть. Напористый. А уж он-то в людях разбирался. Правда, командир тут же, не сходя с места, вкатил ему и трое суток «губы» [28]28
Гауптвахта.
[Закрыть], но за это обижаться нечего. За дело. Набедокурил – отвечай. По чести и по совести. Это же ясно как божий день. Службу-то Кузькин знает…
А небо все мрачнее. На нем уже почти ни одного просвета. Словно кто его закупорил. Как бы обратно на стоянку заруливать не пришлось. Хотя нет, не придется. Вон командир знак подал. И финишер флаг поднял: взлетай, дескать.
Кузькин откинулся на бронеспинку и плавно, но энергично дал газ. Моторы взвыли, точно от боли, и самолет, распушив хвост, ринулся вперед. Быстро. Кузькина даже в сиденье вдавило. Оторвался от земли, повис в воздухе. Отрыв от земли – самое интересное на взлете. Какой-то миг – и самолет уже невесом. Хотя махина порядочная. Теперь время шасси убирать. Это своего рода шик – в момент отрыва тут же убрать «ноги». Без задержки. Был бы штурман, он убрал. А этот полет без штурмана и стрелка-радиста. Тренировочный. Так положено. И Кузькин, подавшись вперед, перевел рукоятку выпуска шасси на «убрано». Потом, придержав самолет еще немножко над землей, слегка взял штурвал на себя – и земля тотчас же провалилась вниз и будто замедлила бег.
Когда Кузькин делал первый разворот, до нижней кромки облаков оставалось метров сто. А вот перед вторым они оказались ниже. Едва он завалил машину в крен, как правое крыло, задравшись кверху, чиркнуло по одному из них, а у второго точно бы живот вспороло. Облака, небольшие, но по-осеннему плотные, сбитые, попали и под винты. Их тут же разорвало в клочья и кинуло под фюзеляж. Кузькина даже позабавило, когда следующее облако, уже большее по размеру, словно вывернутый наизнанку тулуп, вовсе обволокло самолет. В кабине будто теплее стало. И уютнее. Снаружи, за колпаком, дождь, мура, а тут как дома на печке. Благодать! И он блаженно улыбнулся. Аж десна наружу. И нос, широкий, в конопатинах, от удовольствия на щеку съехал. Щеки же у Кузькина, что твои тарелки. Толстые, выпуклые, на ложках играть можно.
Моторы гудели деловито и слитно, что называется, душа в, душу, многочисленные стрелки, словно живые человечки, весело поплясывали на циферблатах приборов, курсовая черта на плексигласовом полу кабины мягко делила дымившуюся внизу землю. Аэродром был виден хорошо. Даже людей различить можно. Потом на какое-то мгновенье его перекрыло не то дымкой, не то туманом. И лес, что нырял под крыло, тоже вдруг закутался в шубу. То выползли из-за сопок новые, правда, не толстые, а как бы размытые дождем, облака. За ними показались еще. Уже толще, грудастее, с синеватым отливом и звериными повадками – боднуть норовят. Добра от таких, пожалуй, не жди, могут все спутать. И Кузькин оттопырил нижнюю губу: не было, дескать, печали… Ведь терять аэродром из вида никак нельзя. Потеряешь, расчет на посадку будет неточным. А раз неточным, верняк «козел» или «промаз». Словом, стыда не оберешься. И сраму. А потом комэск, как всегда, посулит «шпоры». Поиграет глазами и скажет: «Шпоры захотел?» И не видать тогда ему, сержанту Кузькину, самолета как своих ушей, опять будет ходить в «безлошадных», пока новую партию не пригонят.
А шпоры эти самые, между прочим, пошли вот откуда. Одному кавалерийскому корпусу, говорят, с соседнего вроде фронта было придано звено легких самолетов. Своя авиация, так сказать, карманная, на мелкие расходы. Да что-то там у них вышло. Генерал, командир корпуса, – одно, летчики – другое. Характерами, видно, не сошлись, а может, генерал требовал невозможного. Не авиатор ведь, лошадник. Короче, нашла коса на камень. Ну, командир корпуса и не стерпел, на дыбы: «Вы, такие-сякие, где служите?» – «В авиации», – отвечают летчики. «Не в авиации, а в кавалерии». А те смеются: «Как же в кавалерии? У нас, как видите, даже шпор нет». Да на свою же голову. Генерал ухмыльнулся в усы и вдруг вызывает своего заместителя, приказывает: «Выдать им, таким-сяким, по шпорам, сабле и бурке. Да еще по доброму коню в придачу. И зачислить в первый эскадрон рядовыми!»
Может, брехня все это, а только с тех пор в полку чуть что не так, «шпоры» кричат. Сделал, скажем, кто-то четвертый разворот с запозданием или «высоко выровнял», комэск кричит на весь аэродром: «Шпоры захотел?» Сел с «промазом» или «козелка отодрал» – снова «шпоры». Даже когда кто-то из штурманов бомбы неточно в цель положил, комэск и тут «шпорами» пригрозил.
Ну а если Кузькин сейчас посадит самолет плохо, не притрет его «на три точки», «шпор» ему не миновать верняком. Это уж точно. И молодому летчику даже звон их послышался. Веселый такой, серебристый, ни дать ни взять – колокольчик под дугой. А ему этот звон что в пятку гвоздь. Даже в ушах запокалывало, в глазах пожелтело.
А третий разворот все же надо пораньше сделать. Вон она, облачность-то, так и прет. Куда, как говорится, ни кинь, всюду клин. Правда, тогда уж наверняка на посадку с большим углом заходить придется. Значит, и «промаз», пожалуй, обеспечен. И, разумеется, традиционный вопрос комэска насчет «шпор». А потом в штаб, «на правеж». Но ведь должен же он, комэск, в конце концов понять, что все это не от хорошей жизни. Что он – слепой? Не видит, какая мура кругом? В такой муре он и сам эти самые «шпоры» может схлопотать запросто. А уж ему, Кузькину, и по штату положено, сам бог велел…
А может, зря он себя казнит? И взъерепенивает? Может, облачность не сплошная? Вдруг за нею чисто? И солнце светит. Тут ведь, в Карелии, всякое может быть…
И хотя колебался Кузькин секунду-две, не больше, третий разворот он так и так делал уже не видя земли. Она исчезла как-то вдруг, неожиданно. Будто ее вырвали из-под самолета. Пропала, и все тут, пока он на какой-то миг зацепился взглядом за приборную доску. Ничего себе положеньице: и сверху облака, и снизу. Да близко так, хоть рукой доставай. И вовсе не синие, а серые, как волчье стадо. А потом и с боков подошли. Горбатые, вспененные по краям. Почти стеной. Вроде мышеловки получилось. Ни туда ни сюда. И сколько ни гляди, ни насилуй глаз, ни земли, ни аэродрома не видно. Вообще ничего не видать. Сплошь одни облака. Да уже необычные. Какой-то кисель, мучная болтушка. Кажется, не в самолете летишь, а в лодке плывешь. Без руля и без ветрил. Моторы даже не так слыхать стало, хотя газ дан почти до отказа. Число оборотов предельное. Взлетный режим. С запасом мощности и скорости: вдруг на второй круг уходить придется. Или от «мессеров» удирать. Впрочем, откуда им, «мессерам», сейчас тут взяться? Тоже, поди, у себя на аэродроме в норы забились, сидят как сычи, летной погоды дожидаются. В авиации погода – все. Нет погоды – нет и авиации. Сейчас же как раз это самое – непогода.
А он, сержант Кузькин, все же в воздухе, утюжит его почем зря, молотит винтами. Да все не перемолотишь. Вон их, облаков-то, сколько. Как на дрожжах всходят.
* * *
Будь на месте Кузькина другой, бывалый летчик, он бы сказал: табак дело, керосином пахнет. Но Кузькин таким летчиком не был. Поэтому он вообще ничего не сказал. Даже не подумал, что беда могла ходить где-то рядом, подстерегать. Известно – девятнадцать лет. Возраст розовый. Поросячий, как бы сказал комэск.
Теперь, когда самолет попал к облакам в плен, его смущало – морщины лоб состарили – уже другое: заходить ли вообще на посадку или делать вторую «коробочку», то есть переждать в воздухе, пока облака не схлынут и аэродром не откроется. Вслепую, конечно, заходить можно. Но страшно опасно. Не каждый отважится. Облака могли висеть почти до самой земли. Врежешься – костей не соберешь. Хоронить нечего будет. Лучше уж переждать. Береженого и бог бережет. Не даст напрасно в трату. И, снова загнав обратно, в «гнезда», выпущенные было «ноги», Кузькин повел самолет дальше, на второй круг, не спуская настороженного взгляда с компаса и часов.
Вот позади один разворот, за ним другой, третий, позади уже целый круг, а аэродром все не открывается, его по-прежнему продолжают застилать сплошные, в темных разводах, облака. И теперь уже новая забота выдавливает на широком лице молодого летчика пот: не проскочить бы линию фронта. Ведь она, эта линия, от аэродрома всего в четырех-пяти минутах полета. Будешь вот так ходить вслепую и ненароком проскочишь. Запросто. Раз – и уже там, у немцев. Вот была бы история! С географией! И уж тогда-то всему конец. Немцы его враз прижучат. «Пешка» на стометровой высоте – преотличнейшая мишень. Лучше не придумаешь. Насквозь продырявят. И Кузькин, глянув под крыло, даже на сиденье заерзал, точно под ним кто-то сковороду раскалил. Правда, после четвертого разворота, с курсом девяносто, она, сковорода, вроде бы остыла, а к третьему, уже на новом круге, когда самолет, кроша облака, снова пошел как раз по направлению к линии фронта, опять накалилась. Докрасна. А заодно и любопытство взяло. Пополам со страхом. Его поджаривает, а ему любопытно: какая все же она, эта самая линия фронта? Ведь он ее еще ни разу не видел. Знает только понаслышке, от ребят. Окопы, поди, одни да траншеи. И колючая проволока. В несколько рядов. Не сплошь, конечно. Есть места, где ни окопов, ни траншей. Вообще ничего нет. Только леса и болота. Через такие болота, верно, и выходят некоторые из тех, что сбивают. Не легко, понятно. Может, кто и остался там, в этих болотах. Засосало – и все. И никто об этом не знает. И никогда не узнает. Болота надежно хранят свои тайны.








