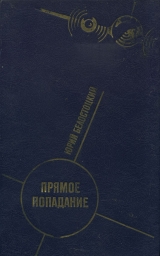
Текст книги "Прямое попадание"
Автор книги: Юрий Белостоцкий
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 26 страниц)
Однако ж аэродрому пора все-таки открыться. Не до сухих же баков ему вот так вслепую ходить. Ну, подошла мура, закрыла землю, но не навечно же. Всему бывает конец. Должен он и облакам наступить. Ветер бы, что ли, уж подул сильнее, прогнал бы их за горизонт. А то повисли над аэродромом, как «сабы» [29]29
Светящие бомбы для освещения цели при ночном бомбометании.
[Закрыть]над целью. Ни туда ни сюда. Правда, в боевой обстановке облака не помеха. Наоборот даже. Особенно когда «мессера» навалятся. Нырнул в них – и ищи ветра в поле. Многие так и делают. Вон прошлый раз командир звена четверку на бомбежку водил, так если б не облака, на том свете сейчас глубокие виражи закладывал. Двенадцать «мессеров» на них свалилось. Сверху. Аж неба не видно. Думали – конец. А тут облака. Кучевка. Слева по борту. В них и нырнули. «Мессера» ни с чем остались. Одного даже недосчитались. Это уже после, когда «пешки», круто изменив курс, чтобы сбить тех с толку, минут через пять начали выходить из облаков. Только вышли, а у командира звена в сетке прицела – «мессер». Видать, подловить их хотел, да сам попал как кур во щи. Близко так, под самым носом. Да еще в ракурсе «четыре четверти» [30]30
Положение дели по отношению к стреляющему.
[Закрыть]. Зажмурь глаза – и то не промахнешься. Вот командир звена и даванул на гашетку. Надвое, говорят, разворотил. А не будь облаков, сам едва б вернулся.
Сейчас же облака вовсе ни к чему. Мешают только. Душу выворачивают. Давно б уж приземлиться надо, а тут сиди как истукан, глаз с них не спускай, любуйся этим месивом. Тошнехонько. Хорошо еще, что моторы ровно работают, не подводят, да и в баках горючее пока есть. Так что уж лучше не растравлять себя, не терзаться. В воздухе это опасно, может плохо кончиться. Забьешь мозги – оплошки не миновать. Поэтому выше голову, сержант, как сказал бы командир звена. Солому жрешь, а хвост трубой держи. Это его излюбленная поговорка. На все случаи жизни. А жизнь командир знает. И летчик каких мало. Все типы самолетов перепробовал. Кузькин, конечно, ему завидует, старается походить на него, во всем подражать. И не он один. Многие. Укладчик парашютов из второй эскадрильи по его примеру даже трубку курить начал, бакенбарды отрастил. И финку на ремень прицепил. А зачем, спрашивается, этому «обтекателю» [31]31
Так в авиации в шутку называли обслуживающий персонал.
[Закрыть]финка? Пыль в глаза пускать, за храбреца себя выдавать? А какой из него храбрец, когда он, говорят, ночью один в сортир ходить боится. Вот летчику без финки нельзя. И без пистолета с компасом. Вдруг собьют. Правда, у него, у Кузькина, финки пока нет. Только перочинный кож. Но будет и финка. Как в строй введут – в боевой экипаж зачислят, закажет. Ребятам из БАО. Оки ему почище, чем у командира звена, сделают. С наборной рукояткой. И с кожаными ножнами. Тогда можно будет, пожалуй, и сфотографироваться. Конечно. Другие же фотографируются. Особенно вон укладчик парашютов старается, каждый день перед фотокорреспондентом позирует. Да еще не в своей форме: то фуражку с «капустой» нацепит, то галифе с кантом. Для фасона это, знай, мол, наших. Кузькину же фасон ни к чему. Что положено – наденет, а больше-ни-ни. Без форсу. Первую карточку, понятно, ей. Кому ей? Это уж он один знает. Это его секрет. Другим знать воспрещается.
И Кузькин, уже повеселевшим взглядом обласкав серое месиво за бортом, энергично заложил крен и вывел самолет на новый, уже третий по счету, круг.
И облака вдруг расступились, подались в стороны, образовав небольшой, крытый коридор. И аэродром показался. Только не сразу, а стыдливо и виновато, как женщина, скидывая с себя одну одежду за другой. Вон уже и стоянку видать. Капониры, масляные пятна возле них. И каптерку оружейников с одиноким деревцем по соседству. У Кузькина – гора с плеч. Еще бы! Поутюжил воздух – и хватит. Пора и честь знать. К тому же и обедать пора. – Адмиральский час, как сказал бы флагманский стрелок-радист. Любитель поработать зубами. Повеселиться, значит, за столом. И языком. Только что это? На стоянке – ни души. Хоть шаром покати. Куда же это люди подевались? Не ждут, выходит? Отчаялись ждать? Уже похоронили? Хотя нет, на месте. Только – продери глаза, сержант! – лежат вроде. Верно, не мерещится, лежат. Причем в самых удивительных позах. Как попало, словом. «Не иначе слушают, как трава растет», – по-девичьи игриво хохотнул Кузькин, даже не дав себе труда подумать, почему лежат, и вдруг тут же, словно перцу хватив лишку, с лица сошел: чуть ниже, как раз над стоянкой своей эскадрильи, он увидел двух «мессершмиттов». Короткокрылых, остроносых. С крестами на фюзеляже. Хотя встречаться так близко с ними до этого ему не приходилось, узнал их сразу. Еще бы, других таких у немцев нет. Ни у кого нет. Всем взяли: и скоростью, и вооружением, и маневренностью. В общем, не машины – звери. Попадешься к ним в лапы – пиши родителям, зови попа. Враз кишки выпустят.
Вдавив людей в землю, «мессершмитты» – они шли сейчас встречным «пешке» курсом – добросовестно, со знанием дела «выбивали пыль» из всего, что только ни попадало в глазки их пулеметов и пушек. Вон и пожар никак полыхнул. Точно. Каптерка оружейников занялась. Факелом. Кузькин увидел, как пламя, густо замешенное на бензине и масле, тугой вожжой заарканило соседнее с каптеркой деревце и, больше не найдя, чем поживиться, гадюкой, прогибаясь под ветром, поползло жалить небо.
«Сейчас и мне решку наведут», – покрываясь холодным потом и чувствуя, как гимнастерка прилипает к лопаткам, обреченно подумал молодой летчик.
* * *
И верно, завидев «пешку», «мессершмитты», видно, раздумали ударить по стоянке еще разок, уже против шерсти, и тут же начали круто – крен почти под девяносто градусов – забирать влево: живой, летящий самолет показался им, конечно, куда заманчивее, чем заякоренные на стоянке, укрывшиеся в капонирах. Что ни говори, живая мишень не мертвая. Соблазняет. Даже азарт придает. И они, чтобы не упустить ее, успеть зайти к ней в хвост, продолжали сжимать дугу разворота настолько туго, что казалось: из хвостов у них вот-вот брызнет сок. Кузькину стало тоскливо, он сжался, но все же сообразил: в запасе у него восемь-десять секунд. Не больше. Это значит: восемь-десять глотков воздуха.
… Молодой летчик не раз слышал рассказы бывалых авиаторов о том, как пахнет свое собственное мясо. Не баранья отбивная, не шашлык по-карски, а свое собственное мясо. Такие случаи уже бывали. И не раз. Авиация – не пехота. «Мессера» или зенитки вставят фитиля – и горят ребята, поджариваются. Почище, чем на сковороде. Со всех сторон сразу. Вон флагманский стрелок-радист. Горел уже однажды. С экипажем. Зажгли их тогда за линией фронта порядочно. Вот и тянули до нее, так как над чужой территорией выброситься не решались. Густо там немцев было. Везде: айн, цвай. И овчарки. Правильно, конечно, раз была возможность тянуть. Но поджарились здорово. Особенно стрелок-радист. Да и понятно. В хвосте он, весь огонь на него. Не кабина, а печь мартеновская. Хорошо еще, что очки летные были. А то б без глаз остался, лопнули бы от жары.
Вот и Кузькина сейчас ожидает та же участь. Только, конечно, с худшим концом. С пропеллером в могиле. Те от «мессершмиттов» хоть могли отстреливаться. Всю дорогу. Бой с ними вели. А он? Что он мог с ними сделать, когда на борту ни штурмана, ни стрелка-радиста? Правда, два носовых пулемета у него есть. Спаренных. Но ведь немцы не в лобовую идут, а с хвоста наседают. Это у них излюбленный прием: не из пистолета же по ним стрелять? Да еще через плечо? «Мессерам» это вообще нипочем. Даже не почешутся. Словом, глупость это – за соломинку хвататься, когда тонешь. Тут и бревно не поможет. Ничто не поможет. Так что всадят они сейчас в него полбоекомплекта. Как пить дать, всадят. И Кузькин, по горло наливаясь тоской, не дыша, будто подстреленная птица из-под крыла, заставил себя глянуть назад, страшась увидеть в хвосте беснующееся пламя. Но пламени не было. Не было пока и «мессершмиттов». В этот миг они только еще выходили из разворота, убирали крен. Но сейчас будут. Будут непременно. Как по расписанию. Через пять-шесть секунд. Значит, еще пять-шесть секунд отмерено в этой жизни молодому летчику. Пять-шесть секунд, и, сам того не ведая, Кузькин замороженным взглядом уперся как раз в бортовые часы, машинально выхватив их из множества других приборов. Часы показались ему огромными. Во всю кабину. Стрелки на них дрожали. Как в лихорадке. Короткая – где-то за двенадцатью, средняя, минутная – на трех. Секундная же стояла не шелохнувшись. Будто замерла, нацелившись перед прыжком. Вот-вот сорвется. И прыгнет. Как раз сюда, на эту вот белую, слегка подзелененную – фосфор все же светится – черту. Потом на следующую. В общем – пять-шесть секунд у него в запасе. Пять-шесть. Это пять-шесть вздохов. И то не глубоких.
– А кукиш с маслом не хотите? – вдруг с болью, точно его шилом кольнули, взвизгнул Кузькин и, не будь дураком, обеими руками хватанул штурвал на себя.
И упал горизонт. И встало на дыбы небо.
Со свистом и стоном, оставив «мессершмиттам» лишь натужное рыдание моторов, «пешка», теперь уже сама, по доброй воле, за миг до отмеренного роком, снова врубилась в серое месиво облаков.
* * *
Не думал, не гадал сержант Кузькин, что в этот день ему доведется поиграть в давно забытую, игранную в детстве, игру, известную под названием «кошки-мышки». Не думал, не гадал, а довелось. Да еще в обычном, тренировочном, а не в боевом вылете. Не по своей, разумеется, охоте. И с той разницей, что «кошками» на этот раз были не его босоногие сверстники в коротких штанишках, а немецкие истребители, грозные «мессершмитты», и проигравший расплачивался куда более дорогой ценой, чем водивший.
Войдя в облака, молодой летчик первым делом изменил курс. Ровно на девяносто градусов. Замел следы, как говорится. Потом засек время и затяжелил винты, – теперь-то уж хочешь не хочешь, а экономить горючее придется обязательно. Ведь неизвестно, сколько продлится эта «игра». А что она уже началась, точнее – не прекратилась, он не сомневался. Кто-кто, а «мессершмитты» не так-то легко выпускают из своих рук добычу, во что бы то ни стало постараются отыграться, взять реванш, если, конечно, горючего у них тоже не в обрез. Сейчас они, обозленные неудачей, рыскали, он чувствовал, где-то поблизости, поджидая, что «пешка» как-нибудь ненароком выдаст себя, обнаружит, показавшись из облаков , —и на этот раз ей будет конец. Полный, бесповоротный.
Потому-то Кузькин, хотя избежал непосредственной опасности, чувствовал себя и в облаках далеко не храбро: руки у него, особенно когда затяжелял винты, все еще заметно пританцовывали, правое веко нервно подергивалось и глаз из-за этого косил. Да и то сказать: не у тещи на блинах побывал.
А все же жив, вывернулся, сообразил что к чему. И ушел. В последний момент, можно сказать. Смерть уже в хвосте висела, конец, думал, а ушел. И сейчас постарается уйти. Во всяком случае, в лапы им больше не дастся. В лепешку расшибется. Хватит с него. Испробовал. Узнал почем фунт лиха. Больше не требуется. Не дурак. Только б облачность не ушла, задержалась бы здесь подольше. Пусть вот так и висит. Как на крюке подвешенная. С полчаса хотя бы. Даже меньше. Хватит и десяти минут, чтоб «мессершмитты» потянули к дому. Горючего-то у них на час, на час пятнадцать. В воздухе же они, вероятно, с полчаса. Даже если с ближайшего аэродрома. Что у реки, возле излучины. Ходу оттуда – двадцать – двадцать пять минут. Туда и обратно, значит, все пятьдесят. К тому же истребители перед посадкой должны иметь на борту не меньше как пятнадцатиминутный запас горючего. На случай воздушного боя в собственной же хате. Вернутся, скажем, домой, на свой аэродром, а там – противник. Ну и в бой надо. С ходу. А без горючего – не бойцы… Лишь бы на полосу скорее плюхнуться. Так что еще пять, от силы десять, минут, и Кузькин сможет спокойненько сделать «мессерам» ручкой: ауфвидерзеен, дескать…
А пока надо глядеть в оба. Насквозь и даже глубже, как сказал бы комэск. Муху не пропустить. В общем, на то, сказывают, и щука в море, чтобы карась не дремал. Не ровен час, облака разойдутся – окажешься на мели. «Мессеры» же, верно, рядом, только того и ждут. Спуску на этот раз не дадут. Попался, скажут, голубчик, и дух выпустят. Причем на первом вылете. Не на боевом даже, а на тренировочном. И в девятнадцать лет. Каково? А? В девятнадцать! И Кузькин, скосив глаз на сторону, зябко передернул плечом.
А интересно, сколько им, что на «мессерах»? Тоже, наверное, по девятнадцать? Хотя нет, больше. Они, гады, уже и с Англией, и с Францией повоевать успели. Насобачились. Старше, значит. Может, и под тридцать. И крестов, поди, навалом. Вон недавно, на днях, одного сбили, так сплошь кресты. До пуза. Больше вроде и вешать некуда. Ас, говорят, наипервейший. Герингов любимчик. А сбили все же. За милую душу. Выстрела не успел сделать – и готов, спекся. А кто, спрашивается, сбил? Такой же сержант, как и Кузькин. Только что из училища. Едва успели в строй ввести. А уложил как миленького. Тот сперва даже не поверил. Не может быть, говорит. Покажите. Показали, конечно. Так он за голову схватился. Все никак не мог от изумления в себя прийти. Вот тебе и ас. Был ас, а теперь весь вышел.
А эти – Кузькин опять покосился по сторонам, – поди, дружки его, товарищи. С того же аэродрома, не иначе. Много их там поднакопилось. Два полка будто. Вот и повадились, гады. За эту неделю уже второй раз. Даже облачность не останавливает. И зениток не боятся. В грош их не ставят. А, впрочем, что им зенитки? Пока те очухаются, «мессеров» и след простыл. Они ж долго над аэродромом не задерживаются. Подойдут скрытно, по-воровски, рубанут с наскоку – и тут же обратно. А про истребителей наших и говорить нечего. Даже вырулить не успевают. Не то что взлететь. А потом, говоря откровенно, кто же мог думать, что «мессера» в такую погоду будут заявляться. Добрый хозяин в такую погоду и собаку на двор не выпустит, пожалеет. А они пришли. На стоянке, конечно, дров наломали, «красного петуха» пустили. А теперь вот за Кузькиным охотятся. Ждут, не оплошает ли, не подставит ли себя под удар. Да только не дождутся. Кузькин хотя и не стреляный воробей, а на мякине его больше не проведешь. Поумнел. Сами в дураках останутся. При пиковом интересе. Лишь бы вот еще горючего хватило, баки бы не опустели. Жрут ведь его моторы здорово. Будто ненасытные. Вон она, стрелка бензомера, к нолю ползет, к нолю подбирается. Медленно, правда, а подбирается. Как в ноль упрется – хана, и Кузькин, задержав дыхание, боязливо скосил левый глаз уже на красное кольцо парашюта, которое пускают в ход лишь после того, как все средства испробованы и остается одно, последнее, – перебросить ноги за борт.
А за бортом – сплошь облака. Брюхатые, грудастые. Холодные, равнодушные. Всякие. На любой вкус. Что им до Кузькина? Даже ухом не поведут. Сбились в стадо – и ползут. Лениво. Точно вареные. Без дорог и желаний. Даже не зная – куда. Им это все равно: на юг ли жаркий, на север холодный или к черту на рога, лишь бы ползти, давиться, друг из друга сок выжимать. Молча, без крика. И без обид. Такая уж у них, облаков, доля незавидная, мотаться неприкаянными по небу, пока солнце не высушит. Или ветер не растреплет. Бродяги, в общем, бездомные. Потому и неприветливы они, по-бирючьи нелюдимы. А иные так волком глядят. Зверье зверьем. Вон те особенно, что справа по борту. Ишь насупились, сгорбатились. Не иначе как на рога поддеть норовят.
В общем, не велико удовольствие окунуться в них. Только от мысли об этом у Кузькина зачесалась спина. Это же все равно, что в прорубь нырнуть. В ледяную воду броситься. Что он – рыжий? А потом и с парашютом еще не шибко в ладах. Всего разок прыгал. В училище. Опыту, как говорится, кот наплакал. Уж лучше до сухих баков ходить, до последнего оборота винтов, словом, чем в это дьявольское варево окунуться. К тому же и пять минут, кажись, прошли. Точно, шестая побежала. Так что, может, он вообще зря отчаивается. Может, «мессера» и ушли отсюда. Тоже ведь не дураки – до сухих баков караулить. Ушли, конечно. Небось и дома уже. Или на подходе к дому. К своему аэродрому, точнее. А аэродром, говорят, у них классный. Две взлетные полосы: бетонка и песчаная. Целой эскадрильей взлетать можно. Сразу. Красота! Не то что у нас. Ну да не век же им там хозяевать. Придет время – и турнут их оттуда. Один хороший бомбовый удар – и от аэродрома одно название останется. Полк ведь теперь машинами укомплектовали. Полностью. Новехонькими. Прямо с завода. Взлетит – небо расколется. Меридианы с параллелями полопаются. Сила! Так что один налет – и аэродрома с «мессерами» как не бывало. С землей сравняют. В том числе и он, сержант Кузькин, к этому делу руку приложит. Не хуже других. Постарается, в общем. В грязь лицом не ударит.
Подожди-ка, сержант, не спеши. Что-то уж разошелся ты больно. Не рано ли? Как бы тебе в грязь лицом сейчас не пришлось ударить. Да, да, сейчас. Не видишь, что ли, облака кончаются. Вон она, синева, впереди. А там, быть может, и «мессершмитты», которых ты, потеряв терпение, поторопился домой спровадить. Тебя поджидают. Гостинец припасли. С огоньком и дымом. Так что туши лампу, старина, гаси свет.
И верно, не успел Кузькин притормозить веселый хоровод мыслей, как в кабину самолета рыжим нахалюгой-парнем вломилось солнце. Вломилось и заприплясывало, плавя металл, высвечивая в кабине каждый закоулок. В другой раз радоваться да радоваться этому, а сейчас – нет: ведь теперь он на виду. Открыт. Со всех сторон. С любой наваливайся. Во всяком случае, «месершмитты», если они где-то – не дай бог! – поблизости, не преминут этим воспользоваться. И точно. Вон они, гады. Легки на помине. Тут как тут. Уже и в атаку бросились. Мать моя родная! С левого борта. Сверху. Под углом. Играючи словно. И уверенно. Теперь уж, дескать, не уйдет.
Действительно, уходить было некуда, и молодой летчик обмер, будто его кто за горло схватил. Облака, так надежно его укрывавшие, остались позади. Далеко. Не догонишь. Правда, спереди, соблазнительно белея, набегал островок кучевки. Но слишком уж мал. Не скроешься. Голову спрячешь, ноги торчать будут. О возвращении назад тоже нечего было и думать. Не успеть. Даже с правым разворотом. И все же – машинально, на авось – он повернул вправо. Круто. Почти поставив машину на крыло. Моторы – в крик. Вот-вот надорвутся, от натуги сорвут голоса. Из-под крыла, качнувшись, будто на четвереньках, выполз аэродром. Сперва взлетная полоса. Затем, подковой на мокрой и пожухлой траве, рулежная дорожка, за ней – стоянка и черное, скошенное к дереву, пятно с рваными краями – все, что осталось от каптерки оружейников. Горевших капониров вроде не было. А может, он их просто не заметил. Не до того. Не до капониров. Страх уже волчьим капканом сдавил Кузькину душу, а когда, вырвав самолет из крена, поставив его на прямую, он увидел, что облака не стали ближе, что до них так и так не успеть, совсем голову потерял. Потерял и волю к сопротивлению, как-то разом сник, полинял: все равно, мол, пропал. Бесполезно. Ему надо бы хоть о парашюте позаботиться, чтобы, на худой конец, им воспользоваться, а он и тут бровью не повел, точно оцепенел. Единственное, на что сейчас еще оставался способным молодой летчик, так это бессмысленно, по привычке давить на сектора газа, хотя те были даны до упора, и до бесконечности – словно в них все дело – сутулить плечи. Он даже оглянуться назад был не в силах, точно боялся ослепнуть…
А зря.
Если б оглянулся, то увидел, как один из «мессершмиттов», не успез подойти к нему и на выстрел, вдруг круто вильнул в сторону, затем тут же вспыхнул дымным пламенем и, копотью фиксируя каждое свое следующее движение, медленно заштопорил вниз, к земле. Не видел молодой летчик и того, как второй «мессершмитт», шедший позади и выше, натолкнувшись на плотный, заградительный огонь зениток и увидев, что его напарник уже поджарился на этом огне, не стал дожидаться своей очереди и тут же, с ходу, повернул назад и вскоре пропал где-то за косой линией горизонта.
Кузькин очухался значительно позже, лишь когда – шлемофон стал тесен от вставших дыбом волос – снова оказался в облаках. Он даже не сразу поверил в это, думал – почудилось, а поверив, не сдержался…
И сделал перед заходом на посадку лишнюю «коробочку»: не гоже, дескать, боевому летчику после встречи с «мессерами» появляться перед однополчанами с промокшими глазами.
* * *
– Отвечай, чадо мое, по чести и по совести: мать-авиацию чтишь?
– Чту.
– На «пешке» летаешь?
– Летаю.
– В шасси веруешь?
– Верую.
– «Ликер-шасси» пьешь?
Кузькин с опаской покосился на помощника «патриарха», который, давясь, как и все на стоянке, от беззвучного смеха, держал наготове довольно вместительную воронку с заткнутой горловиной, почти до краев наполненную жидкостью. Это и был в шутку называемый летчиками «ликер-шасси» – смесь спирта с глицерином, применяемая в самолетах для аварийного выпуска шасси. Доза – явно не по чину, генеральская, и Кузькина, еще в жизни не бравшего в рот хмельного, она сулила тут же уложить на обе лопатки. Но обряд есть обряд, а тем паче для него, удостоившегося этой высокой чести до свершения первого, как обычно полагалось, официального боевого вылета, то есть – досрочно – знай наших! – и он, правда, уже не так твердо, но все же довольно храбро соврал:
– Пью!
– Отлично! Целуй шведский ключ.
Кузькин поцеловал и тут же, приняв из рук помощника «патриарха»– это был вездесущий укладчик парашютов – воронку с гремучей смесью – назвался груздем – полезай в кузов! – с замирающим сердцем и бесстрашным видом опорожнил ее до дна.
– Истинно авиационная душа! – под восхищение и смех однополчан, добросовестно фальшивя голосом, торжественно провозгласил «патриарх» и, выдерживая роль до конца, хотя его тоже душил смех, с благочестиво-апостольским видом перекрестил – потыкал Кузькину живот, дав этим понять, что полковой обряд посвящения молодого летчика в высокий сан фронтовика окончен: летай, мол, отныне ясным соколом…
Потом к самолетам подошел бензозаправщик, и посвященный, ноги которого к тому времени заметно утратили обычную твердость, уже выписывали на стоянке довольно замысловатые вензеля, без слов позволил усадить себя в кабину и отвезти прямехонько домой, в землянку – отсыпаться.
Отсыпался же Кузькин долго, будто за двоих. Спал весь остаток дня и всю ночь. Крепко, как говорится, без задних ног. И без снов. Спокойно. Только под утро приснился ему укладчик парашютов. Был укладчик в фуражке с «капустой», в галифе с голубым кантом и хромовых сапогах со шпорами. Короче, в неположенной форме, стервец.








