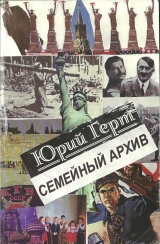
Текст книги "Семейный архив"
Автор книги: Юрий Герт
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 41 страниц)
С точки зрения тех, кого мы называли «обывателями» и «мещанами», наша жизнь – жизнь члена Союза писателей СССР и старшего преподавателя института народного хозяйства – выглядела довольно убогой, но нас занимали иные проблемы. К тому же мы были молоды, перед нами простиралась вечность...
Однако и у Ани, случалось, возникала «конфликтная» ситуация с властью. Публикуясь в издаваемых институтом научных трудах и сборниках, она работала несколько лет над диссертацией – и кафедра, и сама должность «старшего научного сотрудника» требовали этого, да и выбранная ею тема – «Перспективы демографической ситуации Алма-Аты» – представлялась ей живой, интересной.
Стоило большого труда добыть данные по составу населения за-разные годы – они считались секретными. Когда диссертация была готова и получила «добро» на кафедре, высшие, так сказать, инстанции не допустили ее к защите. Цифры-цифрами, данные-данными, но из них следовало, что, во-первых, в строго режимном в смысле прописки городе, в отличие от людей других национальностей, без особого труда прописывают казахов, а это было явным нарушением существовавших инструкций, и, во-вторых, рост населения никак не совпадал с ростом занятости на разного рода промышленных производствах, поскольку экологическое положение в регионе было скверным, горы мешали движению воздуха, город не продувался ветрами, смог накрывал его плотным, душным одеялом... Новые предприятия строить было запрещено. Выход существовал только единственный: наращивать и без того превышающий всякие разумные пределы бюрократический аппарат...
Все это не было ни для кого секретом, но одно дело – догадки, предположения, другое – цифры, объективно отражающие происходящий процесс... К тому же все могут отлично видеть, что король голый, но если кто-то скажет об этом вслух... Ого-го!..
Но что любопытно и символично: против поднялись вовсе не те, кого по тем или иным причинам это впрямую касалось, а секретарь парторганизации, выразивший сомнение в истинности данных... На что в ответ было сказано, что данные взяты в республиканском ЦСУ, здесь нет никакой подтасовки... Но сомнение было выражено, и не кем-нибудь, а... Его поддержали... Работа, длившаяся много лет, была перечеркнута. Аргументы?.. Главным аргументом было суровое молчание с вполне обозначенным подтекстом... Что двигало секретарем парторганизации, что направляло его поведение в сторону замазывания правды, ее сокрытия?.. Он был, между прочим, еврей и, казалось бы, на себе испытал, какие тенденции таит так называемый «национальный вопрос»... Но с конца двадцатых годов «диктатура партии» стала мифом, она лишь маскировала властолюбие «вождей», а впоследствии – обширного и все увеличивающегося класса номенклатуры...
Что же до диссертации, то для Ани она значила не меньше, чем для Домбровского «Факультет ненужных вещей»... Не меньше... Только без благоприятного для Юрия Осиповича парижского финала...
...И шла, устремлялась в бесконечность, жизнь Мариши... В ней, в этой маленькой еще жизни не было, слава богу, ни войны, ни бомбежек, ни эвакуаций... Ей было шесть лет, когда ее стали учить английскому. С двух лет она уезжала с бабушкой и дедушкой на лето в Кунцево, где жила Анина тетя Шура, у нее было полдома и маленький садик. Маринка подросла – и мы всегда увозили ее с собой в отпуск, будь то писательский Дом творчества в Коктебеле, Гаграх или Дуболтах или «вольный отдых» – в Полтаве, Вильнюсе, Зеренде, Дурускейниках, в плавании по Оке...
Мариша росла очень милой, отзывчивой, доброй девочкой, вдобавок еще и такой красивой, что на улице прохожие оборачивались, чтобы продлить удовольствие видеть ее. «Только никогда не говорите, что она красивая!» – суеверно твердила бабушка. Маришу все любили, да и невозможно было ее не любить. Тем не менее она была «девочкой с характером», самолюбивой, упрямой, в какой-то мере скрытной, т.е. в ней рано стала прорезываться личность.
Мы обычно вместе убирали квартиру по субботам, вместе мыли полы – ее отличали трудолюбие и тщательность в выполнении любой работы, будь то учеба в школе или помощь по дому. У нее были с детства свои убеждения, и она следовала им. Как-то раз один ученик в классе получил двойку за ответ, учительница потребовала у него дневник, он не дал... Тогда учительница обратилась к Марише, которая была старостой в классе, и велела взять дневник у мальчика-двоечника и принести ей... Мариша отказалась. Учительница настаивала, пытаясь пристыдить Маришу: «У тебя родители интеллигентные люди, они тебя учат делать то, что тебя просят...» Мариша расплакалась и проговорила сквозь слезы, ожесточаясь все более: «Да, они интеллигентные люди и они учат меня не брать чужих вещей и не рыться в чужих портфелях!» Самостоятельность ее мышления проявлялась в сочинениях по литературе, я долго хранил ее сочинение, в котором она весьма аргументированно изобличала одного из моих любимых литгероев – Базарова...
Случилось так, что я получил творческую командировку (на месяц) в Вильнюс и взял ее с собой. В Москве была пересадка, мы долго ждали наш самолет и, сидя на пушистой травке, перед березовой рощицей, размышляли о Маришином будущем, она уже закончила восьмой класс. Она призналась, что ее влечет медицина... Когда-то мой отец говаривал, что из наших родственников можно сочинить целую поликлинику... Что ж... Мы решили, что Марише следует испытать себя, приблизиться к медицине, и, когда вернулись домой, знакомые врачи поспособствовали, чтобы она прикоснулась в больнице к тому, что называется лечением... Это были ее первые шаги по направлению к поприщу, которое в дальнейшем определило ее жизнь.
Все эти годы она дружила с Мишей Миркиным, он часто бывал у нас, помогал Марише решать задачи по физике, а мне иногда приносил пару пачек дефицитных тогда сигарет с фильтром. Он был хорошо развит, много знал, его отличали ум и эрудиция во многих, иногда совершенно неожиданных областях. Когда пришло время готовиться к поступлению в институт (Мариша остановилась на медицинском), он готовил ее к экзамену по физике... Но с институтом все было сложнее.
Принимали отнюдь не всех, кто выдерживал конкурс. Тут был особый подход к казахам – и тем, кто происходил из семей разного рода начальников, и тем, кто давал внушительные взятки экзаменаторам... Особая градация действовала и по отношению к неказахам... На последнем месте, на самом краю находились евреи...
Нет, мы не давали взяток. Помимо усердной подготовки, Мариша посещала специальные занятия, по некоторым предметам у нее были репетиторы... Она сдала все экзамены на отлично.
Но как-то раз я услышал – не помню, в каком контексте и при каких обстоятельствах – излетевшее из Маришиных уст слово «дураки»... Я принял его на свой счет и на счет своих друзей. Естественно, такая оценка той жизни, которой мы жили, меня потрясла... Как?.. После всего, что она видела?.. После бесконечных сражений с комитетом по печати, с ЦК, с изрыгаемыми в газетах гадостями – аттестовать нас таким вот образом?.. Считая «умниками» всяких пошляков, приспособленцев, людей, не имеющих и понятия о честности и чести?..
Я не нашел ничего лучшего, как обрушиться на дочку... Вместо того, чтобы задуматься над этим проявлением реалий... Она, сквозь мои укоры и собственные слезы, объясняла, что слово, меня оскорбившее, я не так понял, что вас – таких, как вы с мамой, как дядя Володя Берденников, как дядя Леня Вайсберг – мало, очень мало, вы ничего не в состоянии изменить в действительной жизни... Все вы чистейшие фантазеры, идеалисты... Не помню, чем закончилось наше «объяснение», но, признав частично правоту друг друга, мы вряд ли смогли поменяться местами, принять точку зрения, рожденную не столько нами, сколько временем, точнее – разными временами, разными поколениями...
В те годы у меня возник замысел большого романа, который был бы заключительной частью трилогии, то есть продолжением и завершением романов «Кто, если не ты?..» и «Лабиринта». Мне случайно попалась в руки статья о Зигмунте Сераковском, поляке, революционере, в 1863 году, в разгар польского восстания, повешенном в Вильнюсе, тогдашнем Вильно. Помимо трагической судьбы меня привлекло в этом человеке то, что, являясь студентом петербургского университета, он за свои революционные убеждения был сдан в солдаты, сослан на Мангышлак, где до него отбывал солдатчину Тарас Шевченко... И затем, вернувшись в Петербург, имея впереди блестящую карьеру (наступила либеральная эпоха Александра II), он снова ступил на тропу, которая привела его к виселице... Его судьба, его преданность идеалу свободы представлялась мне вызовом быстро увянувшей «оттепели», ее скапутившимся, преданным убеждениям и надеждам...
Однажды, находясь в командировке с Алексеем Беляниновым, мы познакомились с гипнотизером из Ленинграда, умевшем великолепно воздействовать на аудиторию... В «Вопросах статистики» я прочитал заметку о статистике-ревизоре всего лишь районного масштаба, упорно, многим рискуя, боровшемся с теми, кто представлял фальшивые отчеты, подтасовывал цифры, обманывал и лгал, скрывая истинное положение вещей... За его фигурой мне мерещилась Аня...
И был Мангышлак, пустынный, выжженный летней жарой полуостров, с возводимым на берегу Каспия городом Шевченко и старинным Новопетровским укреплением, переименованным в Форт-Шевченко, тоже притулившемся к морю. Здесь едва ли не все сохранилось в том виде, в каком было при Тарасе Шевченко и Зигмунте Сераковском, разве только на плоскогорье от солдатских глинобитных казарм остались одни развалины...
Все эти компоненты переплелись в романе, сутью которого была попытка найти свое место в эпоху безвременья, не потерять себя... Помимо всего, для меня был важен Восток, его история, его мудрость и добросердечие. Я много лет прожил в Казахстане, прежде чем решился прикоснуться к образам казахов. Образы эти были для меня не орнаментом, не средством придания роману «местного колорита», а существеннейшими элементами композиции, необходимыми и с точки зрения общего замысла, и для развития главной линии сюжета.
Но одним из основных мотивов романа, разумеется, упрятанным в подтекст, была борьба «За вашу и нашу свободу!», провозглашенная в 1863 году и продолженная более чем через сто лет спустя польской «Солидарностью», возглавляемой Лехом Валенсой... Я по-прежнему думал о сопротивлении, по-прежнему искал тех, кто не сдался... Такие люди были там, в Польше, и у нас – те, кто ушел в диссидентство, кто составлял «Хроники»... Но были другие люди, они слушались только голоса собственной совести, если употреблять это вышедшее из употребления выражение. Таким, вероятно, был районный статистик, решившийся на отчаянный бунт, и таким был в романе Казбек Темиров, некое отражение Зигмунта Сераковского... Районный статистик, далекий от авансцены истории, он кончает жизнь не менее трагически, чем Зигмунт...
Центральная сцена романа – пустынный берег моря, вырубленная в известняковой толще старинная церковь, где молились бежавшие ИЗ Европы никониане, костер, звездная ночь в канун Рамазана – ночь Ляйлят-аль-Кадр, ночь предопределений... И миф о Сизифе в трактовке Камю – безвыходность, обреченность... Однако если Сизиф – не раб по своей натуре, он способен отыскать выход, справиться с камнем, закрепить его на вершине горы, то есть – осмыслить ситуацию И обрести достойный человека выход... К этому приходит герой романа, писатель Феликс, до того метавшийся между смыслом и бессмысленностью протеста..
Но когда роман, над которым я работал около десяти лет, вникая в историю России и Польши, в причины и следствия «загипнотизированности» общества, в исконную тягу его в Страну Беловодию – страну всеобщего счастья, справедливости и свободы, – когда роман был закончен, к нам пришли Володя Берденников с женой Валей и, едва переступив порог, с отчаянием в голосе, проговорил:
– Все! Роману твоему конец! И роману, и Польше – всему!..
Он рассказал о том, что сейчас услышал по радио: в Польше введено чрезвычайное положение, власть взял в руки генерал Ярузельский... Москва торжествует...
В тот вечер мы пили «За вашу и нашу свободу!», отчетливо сознавая, что свободы нет, нет и нет – ни там, ни – тем более – здесь...
Роману два года выламывали руки и ноги в Комитете по печати, в издательстве... Он все-таки вышел в 1982 году стотысячным тиражом... Он был самой глубокой вещью из всего, мною написанного, но то ли он пришелся не ко времени, то ли цензура добилась своего – его не поняли, резонанс от его появления был невелик...
15. Мариша выходит замуж. Пушкинская площадь.
Кунаев. Рождение Сашки.
Мариша вышла замуж в 1979 году. Свадьба состоялась в самом конце года, за три дня до прихода 1980. Мне Мариша казалась еще совсем девочкой, такой, какой была, когда мы с нею ездили в Вильнюс... И было непонятно, как мы будем жить – одни, без нее...
Вышла замуж она за Мишу Миркина, с которым семь лет назад познакомилась в горах, когда мы спускались вниз, вдоль дороги, ведущей из Медео в город. Из Марины Герт она превратилась в Марину Миркину. Молодожены стали жить в квартире, где раньше жили Анины родители, она пустовала после того, как Петр Маркович умер в 1972 году и Мария Марковна, избегая одиночества, переселилась к ним. Жили Мариша и Миша рядом, через подъезд, но мне временами казалось, что нас разделяет не только подъезд, а куда большее расстояние... «Отцы и дети» – что это значит в реальности мы с Аней ощутили на себе...
Первый Маришин ребенок, сынок Левушка, родился с нездоровым сердечком и через месяц умер. Это было ударом – и для молодых, и для нас, и для Мишиных родителей, Володи и Нэли. Перенести этот удар всем нам было нелегко...
В 1980 году мы с Аней летом поехали в Коктебель, мечтая, что в дальнейшем я смогу добиться путевок в Дом творчества для нас, четверых... В Крым добирались мы через Москву. И в Москве нам рассказали о демонстрации, которая происходила в центре города, на Пушкинской площади, ее устроили старшеклассники – на рукавах у них нашиты были свастики, колонна состояла из примерно шестисот человек, ребята шли, вскидывая правую руку, скандируя «Хайль!», не помню – следовало ли за словом «хайль» слово «Гитлер», но демонстрация эта происходила 21 апреля, в день рождения фюрера...
Все это нас оглушило. Мы не верили тому, что нам рассказывали. «Этого не могло быть, потому что не могло быть никогда!». Таков был наш главный аргумент... Но в Москве мы встретились с бывшей алмаатинкой Светланой Штейнгруд, поэтессой, и она сообщила нам, что в демонстрации участвовали ученики из той школы, где учится ее дочь, и потом к директору вызывали родителей, устраивали классные собрания, она, Света, тоже присутствовала на одном из них... И в Москве, и в Коктебеле я продолжал расспрашивать москвичей о демонстрации – да, фашистской, именно так! – но никто не придавал ей значения, мне же вспоминалось, как у нас, в Алма-Ате, говорили и даже указывали место – кафе около Дворца имени Ленина – где в дни рождения Гитлера встречались его молодые поклонники, пили в его честь и кричали «хайль», но мне в это и верилось, и не верилось...
И вот... Правда, Марк Поповский, приезжая в Алма-Ату, рассказывал удивительные и даже попросту невероятные вещи – в ЦК ВЛКСМ сочиняют и распространяют листовки и брошюрки антисемитского характера, антисемитско-фашистского, говорил он, поскольку то и другое мало отличимы... Я пытался связать воедино известные мне факты, разобраться в том, что происходит... О русофильско-шовинистическом начале, исходящем из ЦК комсомола, говорили многие... А вскоре вышел роман Василия Белова «Все еще впереди» с никак не замаскированной антисемитской тенденцией, и в Ленинграде, куда мы с Аней однажды приехали, в Румянцевском садике ораторы в открытую требовали освобождения школ от еврейского засилья...
Меня интересовала не столько социология, сколько душевное состояние тех, кто маршировал на Пушкинской площади. Что импонировало им в фашизме? В фигуре Адольфа Гитлера? После всего, что было им известно – из книг, из кино, из истории, преподаваемой в школе, из рассказов старших – родителей, родственников, знакомых, которые по собственному опыту знали, что такое – фашизм?..
Фашизм, представлялось мне, заключается в сознании собственного превосходства, в сознании – в силу этого превосходства – права распоряжаться жизнью других людей, в отсутствии ощущения, что другие люди подобны тебе, что ты можешь ставить себя на их место, а их – на свое... Сознание своего превосходства может быть основано на расовом начале, на социальной принадлежности к любому классу, на «сверхчеловеческих» свойствах собственной личности, на особости религиозного мировоззрения, единственно верного, истинного, и т.д. Что было свойственно этим ребятам и почему?..
Мне припомнилась история, случившаяся несколько лет назад в школе, где училась Мариша. Трое девятиклассников были заподозрены в убийстве парня, который нечаянным образом оказался вместе, со своим товарищем рядом со школьниками. Было около десяти вечера, сквер в центре города, возле оперного театра... Кровь, ножевые раны... Товарищ дотащил раненого до «скорой» в расположенной поблизости совминовской больнице, там его не приняли («Не наш!»), парень истек кровью и умер...
Был суд, на который пришли ученики, учителя, мы – журналисты, литераторы, я уж не говорю о родителях... Все сочувствовали обвиняемым, против них не имелось прямых доказательств, к тому же настораживало то, что «сам» Кунаев взял дело под свой контроль, поэтому скоропалительно могли кого попало схватить, обвинить, чтобы доказать свое старание и профессиональность... Ребят оправдали. А через некоторое время близкий к следствию человек сообщил мне, что на самом деле убийцы – они, эти трое... Но следствие велось бестолково, не обзавелось подлинными доказательствами – и только потому выиграла защита...
Все так, все так... Но что при этом испытывали они, убийцы?.. Что испытывали, когда в ответ на просьбу закурить набросились на парня, который им чем-то не понравился? Что испытывали, когда лишили его жизни? Что чувствовали на суде, объясняя, что они здесь ни при чем? Что чувствовали, когда героями вернулись в школу?.. И – следовательно – что такое нравственность, совесть? Это лишь выдумка, условность? И можно убивать, крушить, будь то дети, женщины, старики, можно расстреливать, загонять в концентрационные лагеря, в ГУЛАГ и, можно... Можно – все, поскольку «все позволено»?..
Вакуум... У нас, людей старшего поколения, этот вакуум заполнялся размышлениями, поисками мотивировок, оправданиями разного рода, поисками некоего рационального зерна в навозной куче... Молодежь не имела за собой жизненного опыта, в том числе и опыта по изобретению софизмов и хитроумных объяснений, она воспринимала ложь как ложь, лицемерие как лицемерие, обман как обман... и делала свои выводы. У одних в душе образовывалась пустота, у других пустота эта заполнялась ненавистной нам «материальностью» – джинсами, золотыми побрякушками, импортными вещицами... Третьи искали – и находили – уже готовые «идеи», враждебные отцам и потому вызывающе-соблазнительные...
Нет, мы не были наивны... Но где-то в подсознании – да, скорее в подсознании, чем в сознании – еще жила, копошилась какая-то надежда... И когда Галина Васильевна Черноголовина и Виктор Мироглов обратились ко мне с предложением отправиться к Кунаеву и выложить все начистоту – и о том, в каком положении находятся в республике русские литераторы, и о том, во что превратился «Простор», еще десять лет назад, при Шухове, имевший имя и авторитет среди прочих республиканских журналов, и о том, какую зловещую роль в литературной жизни играет его, Кунаева, недосягаемый помощник Владимиров... Черноголовина и Мироглов были честными, прямыми людьми, Владимиров подвергал их публичной порке, как и меня... В то время я заведовал в журнале отделом прозы. Я согласился.
Кунаев принял нас в огромном своем кабинете, со шкафами, уставленными книгами, на отдельной же тумбочке стоял большущий глобус, очень походивший на тот, которым играл Чарли Чаплин в фильме «Диктатор». Кунаев был вальяжен, приветлив, здороваясь, он протягивал руку и при этом склонялся к тому, с кем здоровался, дабы умерить свой рост... Он слушал нас, не перебивая, вежливо улыбаясь, лицо его выражало доброжелательность и поощрение. Каждый из нас произнес заранее приготовленную речь. В частности, я говорил о том, что в члены СП на 10 казахов считается закономерным принимать одного русского, т.е. пишущего на русском языке, и что республиканское издательство зачастую исходит не из качества произведений, а из того же национального принципа, и что тот же принцип применяется при начислении гонораров... Мироглов и Черноголовина приводили убийственные факты, цитировали статьи Владимирова, сводившего личные счеты со своими оппонентами... Кунаев слушал, кивал. Мы вручили ему каждый по своей книге с надлежащей надписью... Кунаев на прощание, подводя итог нашей встрече, посоветовал выступить на пленуме СП с критикой, ничего не бояться, поскольку именно критика... И т.д.
Через несколько дней состоялся пленум. Владимиров сидел на сцене, за столом президиума. К его имени теперь прибавлялся титул «ответственный работник ЦК КП Казахстана». Он был еще более недосягаем, чем прежде. Мироглова, который работал в издательстве, прогнали оттуда, не объясняя причин. Книгу Черноголовиной вычеркнули из издательского плана. Не знаю почему, но меня не тронули – быть может, отложив экзекуцию на более поздний срок... Или сыграло свою роль мое письмо Владимирову—расправа со мной оказалась бы слишком очевидной... Не знаю. Но мы стали посмешищем, и не только в собственных глазах...
Нет, любые попытки пойти на компромиссе властью были обречены... Дело заключалось не в поисках компромисса, а в том, чтобы «изменить ситуацию...»
В московском журнале «Литературное обозрение» была помещена рецензия на мой роман «Ночь предопределений». Галина Корнилова, автор этой рецензии, писала:
«...А пока все эти персонажи проводят у костра «ночь предопределений», слушая фронтовые воспоминания ассистента Гронского и суры Корана, прочитанные Айгуль, погибает Казбек Темиров. Вернувшись в город, они услышат ошеломляющую весть о том, что Казбек стал жертвой нелепого случая, задев рукой заряженное ружье рядом стоящего человека.
– Осознать и изменить ситуацию не всякому дано,– объявит за день до этого страшного события архитектор Карцев, оправдывающий этой фразой свою собственную боязнь риска. Но Феликс, для которого встреча с Темировым не прошла даром, решительно возразит:
– В том-то и штука, что «дано»! Только мы все пеняем на «условия» и– хуже того – принимаем их, принимаем!
И вот уже растерянные, опустошенные, стоят они у гроба того, кто не принимал «условий» и не боялся идти на риск. Недавно еще столь блистательно красноречивые, они как бы вдруг потускнели и онемели. Они безмолвствуют и тогда, когда звучат лицемерные скорбные речи заклятых врагов Темирова, и тогда, когда Айгуль бесстрашно и гневно бросает в лицо этих лицемеров:
– Это вы его убили!
Притихшие, раздавленные смутным чувством собственной вины перед погибшим, они скоро разъедутся каждый в свою сторону. И этот их поспешный отъезд из городка будет очень походить на бегство.
Но в самую последнюю минуту, стоя уже на трапе готового взлететь самолета, Феликс вдруг обернется назад. В одно мгновение промелькнут в его памяти и свяжутся в единый узел и выкрик Айгуль, и горькие слова шофера Кенжека, не верящего в случайность гибели «статистика», и слишком поспешные похороны...
Он спрыгнет со ступенек трапа и, подхватив тяжелый чемодан, зашагает под палящим солнцем назад– к городку, где остались неузнанными и неразоблаченными убийцы Казбека Темирова...
Так о чем же книга? Она о главном: о долге каждого человека идти своим собственным путем, об умении встать «поперек» сносящего в сторону потока. Как сделал это сто с лишним лет назад блестящий офицер русского генерального штаба Зигмунт Сераковский, возглавивший восстание литовских крестьян. Как сумел это сделать Казбек Темиров, схватившийся один на один с волчьей сворой расхитителей народного добра. Как сделал это и главный герой романа, в последний момент нашедший в себе силы «осознать и изменить ситуацию».
«Изменить ситуацию...»
Что же происходило в жизни, не в романе?..
В 1982 году, зимой, умер Брежнев.
Аня лежала в больнице. Мы с Надей Черновой из редакции отправились к нам домой, у нее отказал телевизор, и смотрели, как хоронят генсека, смотрели без особого сочувствия. Чехословакия... Польша... Отставка Шухова... Разгул национализма в республике... Не прекращающийся зажим литературы...
На экране телевизора тянулись траурные колонны с натужно-печальными лицами несущих знамена. В комнате было тепло, а на душе – зябко, противно...
Брежнев умер, но ситуация не изменилась...
Я позвонил Марише. Она сообщила, что ее укладывают в больницу: сердце... Через несколько дней в больнице – и тоже с сердечными делами – оказался и я. Парадокс: все трое мы оказались в больнице, в разных палатах, разных отделениях... Миша и его родители приходили нас проведывать, последовательно обходя наши палаты... Через некоторое время мы все вернулись домой...
Генсеком сделался Андропов. Возникли какие-то слабые надежды... Но я помнил, как Виктор Штейн однажды познакомил меня с документом из ведомства Андропова, в нем любые противники режима аттестовались или как психически ненормальные, или как дети репрессированных, исполненные мстительных чувств, или как подкупленные иностранной разведкой и т.д.
При Андропове ситуация не изменилась.
Вскоре он умер, его место занял никому прежде неведомый Черненко...
Вскоре умер и он.
По поводу череды смертей, стремительно сменявших одна другую, ходило множество анекдотов. Вот один из них:
«Вышел я из тюрьмы. Вижу – кого-то хоронят. Спрашиваю: кого?.. Говорят: генсека... Я говорю: давайте помогу... Я крепкий, здоровый... Я все Политбюро могу вынести...
Вышел я из тюрьмы. Вижу – кого-то хоронят. Спрашиваю: кого?.. Мне отвечают: генсека... Говорю: давайте помогу, я крепкий, здоровый... Я все ЦК могу вынести...
Вышел я из тюрьмы. Вижу – кого-то хоронят. Подходит ко мне человек, спрашивает: кого хоронят?.. Я молчу. Он опять: кого хоронят?.. Я молчу. Он снова: кого хоронят?.. Говорю: кого надо, того и хоронят!..
Вышел я из тюрьмы...»
Ситуация не изменилась, но какие-то проблески возникли. Виктор Мироглов, когда его «освободили» от работы в издательстве, поехал в Москву, в ЦК, с письмом, обращенным к Горбачеву, о котором ходили обнадеживающие слухи... Из Москвы прислали двух цековских инспекторов, они проверили содержавшийся в письме материал, побеседовали со многими людьми, жертвами Владимирова, и помощнику Кунаева пришлось покинуть свой пост, мало того – против него было заведено дело о неуплате партийных взносов, о присвоении какой-то мебели с югославской выставки... Рассказывали (я снова залег в больницу, на сей раз с весьма серьезной, не поддающейся излечению хронической болезнью), что бывший «властитель дум» явился на русскую секцию и чуть ли не в состоянии то ли бреда, то ли истерии каялся перед всеми обиженными...
Вскоре вышла моя книга с повестью «Лгунья», ожидавшей издания 14 лет (правда, под другим названием: «Грустная история со счастливым концом»), и под той же обложкой – автобиографическая повесть «Колокольчик в синей вышине»... Обе они появились на свет в 1984 году без особого вмешательства Комитета по печати...
Самое же главное событие этого года заключалось в том, что у Мариши и Миши родился сын, а у нас – внук Александр, Саша, Сашенька, Сашуля...
Глава десятая
КАТАСТРОФА
Только взаимопонимание, справедливость и желание помочь ближнему гарантируют человеческому сообществу постоянство, а человеку– уверенность в завтрашнем дне. Ни ум, ни изобретения, ни образование не заменят этих важнейших качеств человеческого духа.
Альберт Эйнштейн
Основным вектором политики должна быть нравственность.
Андрей Сахаров
1
Пе-ре-строй-ка...
Когда и как началась она для меня?.. И не только для меня...
2
Помню, утром 17 декабря 1986 года я заглянул в больницу, к профессору Головачеву, моему «куратору» по медицинской части, и он, чрезвычайно встревоженный, рассказал мне: ночью состоялся городской партактив, ситуация сложная, возможны беспорядки, что же до больницы, то есть распоряжение – на всякий случай готовиться к приему раненых...
Накануне было объявлено, что Кунаев отстранен от должности Первого, вместо него выбран прилетевший из Москвы Колбин, в прошлом секретарь обкома в Ульяновске, а до того – второй секретарь в Грузии... Говорили, «пересмена» произошла ночью, заседание бюро ЦК длилось пятнадцать минут. Александр Лазаревич Жовтис, с которым мы встретились 16-го вечером в театре, задумчиво произнес: «Это может плохо кончиться...» Я не понял его. Ухода Кунаева ждали, считали предрешенным, огромный его портрет, с тремя звездами Героя, висел в центре города рядом с таким же огромным портретом Брежнева, они оба для Казахстана олицетворяли эпоху застоя... Как же так? Почему – «плохо кончиться»?.. По пути из больницы в редакцию я думал об этом, сопоставляя прогноз Жовтиса, партактив, растерянность Головачева...
В редакции, находящейся в помпезном здании Союза писателей, я услышал, что с утра и здесь, в актовом зале, проходил актив. А часа в три за окнами нашей комнаты, выходящими на главный в городе Коммунистический проспект, возникло невиданное зрелище. Со стороны вокзала по проспекту двигалась колонна человек из 400-500, состоявшая из молодых людей, юношей и девушек, сплошь казахов. Впереди несли портрет Ленина и транспарант: «Каждому народу – своего вождя». Демонстранты были возбуждены, многие держали в руках палки с гвоздями на концах, у одного парня я заметил насаженные на длинную ручку вилы. Палки и вилы вскинуты были вверх, как острия , штыков...
Колонна остановилась перед Союзом писателей, слышались крики, группа юношей отделилась от основной массы и кинулась к входным дверям. Стоявшие в колонне кричали, кого-то вызывая к себе, я разобрал только «Олжас! Олжас!..» В двери ломились, колотили кулаками, но то ли двери, защелкнутые на ключ вахтером, оказались крепкими, то ли не столь уж много усилий применяли рвавшиеся в Союз, – в здание никто не проник. Я ждал, что кто-нибудь из писателей-казахов, может быть сам Олжас Сулейменов, откроет дверь, выйдет к молодежи... Никто не вышел.






