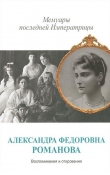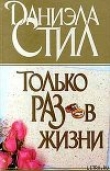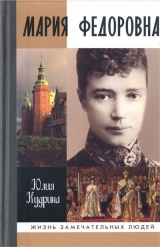
Текст книги "Мария Федоровна"
Автор книги: Юлия Кудрина
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 42 страниц)
В 1885 году императором Александром III и его братьями великими князьями Сергеем Александровичем и Павлом Александровичем в память о их матери в Гефсиманском саду в Иерусалиме был заложен храм равноапостольной Марии Магдалины – небесной покровительницы русской императрицы. В сентябре 1888 года состоялось его торжественное освящение. Храм был выполнен в новорусском стиле, типичном для царствования Александра III. Московские маковки и кокошники, украшавшие его, делали его выразительнейшим памятником Русской Палестины. Архитектором храма был Д. И. Гримм. Иконостас из белого мрамора с темной бронзой, иконы работы художника В. В. Верещагина. Каждую из четырех стен украшали огромные фрески, отражавшие основные эпизоды из жизни святой Марии Магдалины. На южной стороне – «Исцеление Магдалины Спасителем», на западной – «Магдалина у креста Господня», на северной – «Явление Магдалине воскресшего Христа», на восточной над алтарем – «Проповедь Магдалины перед императором Тиберием». Автором фресок был тогда еще молодой художник Сергей Иванов, позже – известный автор русской исторической живописи.
После смерти императрицы Марии Александровны цесаревич Александр и цесаревна Мария Федоровна покинули Царское Село и поселились в Елагинском дворце.
Новый брак императора Александра II
После погребения императрицы Марии Александровны император Александр II, влюбленный в юную княжну Е. Долгорукову, заявил о своем намерении вступить с ней в официальный брак. Александр II объяснял свое решение тем, что у него от Е. Долгоруковой есть дети, и добавлял, что никто не может поручиться, что его «не убьют даже сегодня».
Действительно, покушения на царя приняли к тому времени чуть ли не регулярный характер, и только чудо каждый раз спасало его от верной смерти. 6 июля 1880 года (через 40 дней после кончины императрицы Марии Александровны) в небольшой комнате нижнего этажа у алтаря походной церкви Большого Царскосельского дворца состоялся обряд бракосочетания императора Александра II и графини Долгоруковой. На церемонии присутствовали граф А. В. Адлерберг, начальник Главной императорской квартиры А. М. Рылеев и генерал-адъютант граф Э. Т. Баранов. После обряда венчания император попросил всех присутствовавших сохранять все происшедшее в тайне. На вопрос Адлерберга о реакции наследника Александр II ответил, что по возвращении цесаревича из Гапсалы он сам сообщит ему, но надеется, что наследник воспримет это должным образом, ибо «государь является единственным судьей своим поступкам». Александр II и княгиня Е. М. Долгорукова стали отныне законными мужем и женой. Супруга государя получила титул княгини Юрьевской.
В подписанном 6 июля 1880 года указе Правительствующему сенату Александр II признавал свое отцовство и создавал своим детям от Екатерины Михайловны законное положение.
В первые августовские дни император Александр II сообщил сыну Александру Александровичу о своей женитьбе. «13/25 августа. Обедали мы у Папа́ с братьями, – записал цесаревич в дневнике. – После обеда Папа́ сказал Минни и мне зайти к нему в его кабинет и тут, когда мы сели, он объявил нам о его свадьбе, и что он не мог дольше откладывать и по его летам и по теперешним грустным обстоятельствам и поэтому 6 июля женился на княжне Долгорукой. При этом Папа́ нам сказал, что он никому об этом не говорил из братьев и нам первым объясняет это, так как он не желает ничего скрывать от нас и потом прибавил, что эта свадьба известна одному графу Лорис-Меликову и тем, которые присутствовали на ней…
Папа́ при этом спросил нас, желаем ли мы видеть его жену и чтобы мы сказали откровенно. Тогда Папа́ позвал кн[ягиню] Долгорукову в кабинет и, представивши ее нам, был так взволнован, что почти говорить не мог. После этого он позвал своих детей: мальчика 8 лет и девочку Ольгу 7 лет и мы с ними поцеловались и познакомились. Мальчик милый и славный и разговорчивый, а девочка очень мила, но гораздо серьезнее брата. Оставшись у Папа́ более ¾ часа, мы простились и вернулись домой. Только дома немного пришли в себя после всего нами услышанного и виденного, и хотя я был почти уверен, что так и должно было кончиться, но все-таки весть была неожиданная и как-то странна!»
Дочь царя Мария Александровна, герцогиня Эдинбургская, в своем письме к отцу осудила его. «Я молю Бога, – писала она, – чтобы я и мои младшие братья, бывшие ближе всех к Мама́, сумели бы однажды простить Вас».
Другие члены царской семьи были крайне возмущены тем, что Александр Николаевич вступил в брак с княгиней Е. Долгоруковой, не соблюдая год траура по своей первой жене, императрице Марии Александровне. Тем более что в это время по всей России продолжали служить по православному обычаю традиционные панихиды об упокоении ее души.
О неприязненном отношении к новой жене императора свидетельствует и письмо великой княгини Марии Павловны, жены великого князя Владимира Александровича, гессенскому принцу: «Эта женщина, которая уже четырнадцать лет занимает столь завидное положение, была представлена нам как член семьи. С ее тремя детьми, и это так грустно, что я просто не могу найти слова, чтобы выразить мое огорчение. Она является на все семейные ужины, официальные или частные, а также присутствует на церковных службах в придворной церкви со всем двором. Мы должны принимать ее, а также делать ей визиты… И так как ее влияние растет с каждым днем, просто невозможно предсказать, куда это все приведет. И так как княгиня весьма невоспитанна, и у нее нет ни такта, ни ума, вы можете легко себе представить, как всякое наше чувство, всякая священная для нас память просто топчется ногами, не щадится ничего».
Летом 1880 года семья цесаревича по просьбе Александра II провела лето в Крыму вместе с новой семьей Александра II, княгиней Юрьевской и ее тремя детьми. Для цесаревича и цесаревны это было настоящим испытанием. Обстоятельства частной жизни императора осложняли отношение к нему наследной четы.
Из письма цесаревны Марии Федоровны матери: «Я плакала непрерывно, даже ночью. Великий князь меня бранил, но я не могла ничего с собой поделать… Мне удалось добиться свободы хотя бы по вечерам. Как только заканчивалось вечернее чаепитие и государь усаживался за игорный столик, я тотчас же уходила к себе, где могла вольно вздохнуть. Так или иначе, я переносила ежедневные унижения, пока они касались лично меня, но, как только речь зашла о моих детях, я поняла, что это выше моих сил. У меня их крали, как бы между прочим, пытаясь сблизить их с ужасными маленькими незаконнорожденными отпрысками. И тогда я поднялась, как настоящая львица, защищающая своих детенышей. Между мной и государем разыгрывались тяжелые сцены, вызванные моим отказом отдавать ему детей. Помимо тех часов, когда они, по обыкновению, приходили к дедушке поздороваться. Однажды в воскресенье перед обедней в присутствии всего общества он жестко упрекнул меня, но все же победа оказалась на моей стороне. Совместные прогулки с новой семьей прекратились, и княгиня крайне раздраженно заметила, что не понимает, почему я отношусь к ее детям, как к зачумленным».
Осенью 1880 года Александр Александрович с глубокой душевной болью писал своему брату великому князю Сергею Александровичу в Италию: «Про наше житье в Крыму лучше и не вспоминать, так оно было грустно и тяжело! Столько дорогих незабвенных воспоминаний для нас всех в этой милой и дорогой, по воспоминаниям о милой Мама́, Ливадии! Сколько было нового, шокирующего! Слава Богу для вас, что вы не проводите зиму в Петербурге; тяжело было бы вам здесь и нехорошо! Ты можешь себе представить, как мне тяжело все это писать, и больших подробностей решительно не могу дать ранее нашего свидания, а теперь кончаю с этой грустной обстановкой и больше никогда не буду возвращаться в моих письмах к этому предмету. Прибавлю только одно: против свершившегося факта идти нельзя и ничего не поможет. Нам остается одно: покориться и исполнять желания и волю Папа́, и Бог поможет нам всем справиться с новыми тяжелыми и грустными обстоятельствами, и не оставит нас Господь, как и прежде!»
В ноябре 1880 года накануне отъезда императора Александра II и его новой семьи из Крыма полиция обнаружила в районе станция Лозовая готовый заряд, заложенный под полотном железной дороги. Террористы готовили новое покушение на царя и его семью.
В ноябрьском письме сыну царь писал:
«В случае моей смерти, поручаю тебе мою жену и детей. Твое дружественное расположение к ним, проявившееся с первого же дня знакомства и бывшее для нас подлинной радостью, заставляет меня верить, что ты не покинешь их и будешь им покровителем и добрым советчиком.
При жизни моей жены наши дети должны оставаться лишь под ее опекой. Но если Всемогущий Бог призовет ее к себе до совершеннолетия детей, я желаю, чтобы из опекунов был назначен генерал Рылеев или другое лицо по его выбору и с твоего согласия.
Моя жена ничего не унаследовала от своей семьи. Таким образом, все имущество, принадлежащее ей теперь – движимое и недвижимое, приобретено ею лично, и ее родные не имеют на это имущество никаких прав. Из осторожности она завещала мне все свое состояние, и между нами было условлено, что если на мою долю выпадет несчастье ее пережить, все ее состояние будет поровну разделено между нашими детьми и передано им мною после их совершеннолетия или при выходе замуж наших дочерей.
Пока наш брак не будет объявлен, капитал, внесенный мною в Государственный Банк, принадлежит моей жене в силу документа, выданного ей мною. Это моя последняя воля, и я уверен, что ты тщательно ее выполнишь. Да благословит тебя Бог!
Не забывай меня и молись за так нежно любящего тебя Па!»
Убийство Александра II
Утро 1 марта не предвещало ничего ужасного. Александр II был с утра в хорошем расположении духа. После обеда он принял графа Лорис-Меликова, который доложил ему о проекте государственной реформы, согласно которому предполагалось создать из выборных земских представителей специальную комиссию по рассмотрению законопроектов. Император устно одобрил проект графа Лорис-Меликова. Д. А. Милютин в дневниках писал: «Император в тот день сказал: „Я дал свое согласие на это представление, хотя и не скрываю от себя, что мы идем по пути конституции“».
Александр II выехал из дворца в Михайловский манеж, затем заехал в Михайловский дворец, где посетил великую княгиню Екатерину Михайловну, а после этого карета направилась в Зимний дворец.
На набережной Екатерининского канала императора ждала засада. От взрыва брошенной в императора первой бомбы пострадали несколько казаков конвоя и прохожих. Хотя императорскую карету разнесло в щепы, сам император чудом остался невредимым и, выйдя из кареты и не заботясь о своей безопасности, стал помогать раненым. Воспользовавшись ситуацией, соучастник покушения И. И. Гриневицкий тотчас бросил под ноги императору вторую бомбу. Этот взрыв оказался для него смертельным: ноги были раздроблены, одна ступня оторвана. Но государь был в сознании и приказал ехать в Зимний дворец.
4 марта 1881 года Мария Федоровна писала своей матери:
«Какое горе и несчастье, что наш император покинул нас таким ужасным образом. Сердце разрывалось видеть его в этом жутком состоянии. Лицо, голова и верхняя часть тела были невредимы, но ноги абсолютно размозжены и вплоть до колен разорваны в клочья, так что я сначала не могла понять, что собственно я вижу – окровавленную массу и половину сапога на правой ноге и половину ступни на левой. Никогда в жизни я не видела ничего подобного. Нет, это было ужасно!
…Вид горя несчастной вдовы разрывал сердце. В один момент вся неприязнь, что мы к ней испытывали, исчезла, и осталось только величайшее участие в ее безграничном горе.
Моему миру и спокойствию пришел конец, ибо отныне я никогда больше не смогу быть спокойна за Сашу… Господь наш, услышь мою молитву, защити и сохрани Сашу! Благослови его пути, помоги ему исполнить с мудростью и успехом все его добрые намерения в отношении страны, благополучия, счастья и благословения народа!»
Будущий Николай II оставил описание этого трагического дня:
«Мой дед лежал на узкой походной постели, на которой он всегда спал. Он был покрыт военной шинелью, служившей ему халатом. Его лицо было смертельно бледным.
Оно было покрыто маленькими ранками. Его глаза были закрыты.
Мой отец подвел меня к постели. „Папа́, – сказал он, повышая голос, – Ваш лучик солнца здесь“. Я увидел дрожание ресниц, голубые глаза моего деда открылись, он старался улыбнуться. Он двинул пальцем, но не мог ни поднять рук, ни сказать то, что он хотел, но он, несомненно, узнал меня. Пропресвитер Бажанов подошел и причастил его в последний раз. Мы все опустились на колени и император тихо скончался. Так Господу Богу угодно было».
Три дня тело убитого императора оставалось в кабинете Зимнего дворца, где он скончался. Три дня беспрерывно служили панихиды, на четвертый день покойный был перенесен в большую дворцовую церковь.
«Бесчисленные огни высоких свечей. Духовенство в траурном облачении. Хоры придворных и митрополичьих певчих, – вспоминал великий князь Александр Михайлович. – Седые головы коленопреклоненных военных. Заплаканные лица великих княгинь. Озабоченный шепот придворных. И общее внимание, обращенное на двух монархов: одного, лежащего в гробу с кротким, израненным лицом, и на другого, стоящего у гроба, сильного, могучего, преодолевшего свою печаль и ничего не страшащегося».
Александр Александрович, Мария Федоровна, княгиня Юрьевская и ее дети в течение этих траурных дней стояли вместе подолгу в скорбном молчании у гроба. В один из таких дней княгиня Юрьевская, подойдя к гробу, срезала свои длинные красивые волосы и положила под руки покойного.
18 марта перед перенесением гроба в Петропавловскую крепость состоялась последняя панихида. Присутствовавший на ней К. Победоносцев написал: «Сегодня присутствовал на панихиде у катафалка. Когда служба закончилась и все покинули церковь, я увидел, как из соседней комнаты вышла вдова покойного. Она едва держалась на ногах и шла, опираясь на руку сестры. Рылеев сопровождал ее. Несчастная упала перед гробом. Лицо покойного покрыто газом, который запрещено подымать, но вдова порывистым движением сорвала вуаль и покрыла долгими поцелуями лоб и все лицо покойного. Мне было жаль бедную женщину».
На восьмой день тело торжественно перенесли в Петропавловский собор – усыпальницу семьи Романовых. Чтобы дать возможность народу проститься с прахом государя, был избран самый длинный путь к Петропавловскому собору. Траурная процессия растянулась по всему Санкт-Петербургу, по всем его главным улицам.
В завещании Александр II напутствовал сына: «Да поможет ему Бог оправдать мои надежды и довершить то, что мне не удалось сделать для улучшения благоденствия дорогого нашего Отечества. Заклинаю его не увлекаться модными теориями, печась о постоянном его развитии, основанном на любви к Богу и на законе. Он не должен забывать, что могущество России основано на единстве Государства, а потому все, что может клониться к потрясениям всего единства и к отдельному развитию различных народностей, для нее пагубно и не должно быть допускаемо. Благодарю его, в последний раз, от глубины нежно любящего его сердца, за его дружбу, за усердие, с которым он исполнял служебные свои обязанности и помогал мне в Государственных делах».
В результате террористического акта пострадали двадцать человек, из которых трое скончались на месте, среди них – казак лейб-гвардии Терского эскадрона собственного его величества конвоя Александр Маленчевых, крестьянин Николай Захаров, мальчик 14 лет из мясной лавки, получивший ранение в голову; одиннадцать человек были ранены, из них тяжело шесть человек, в их числе обер-полицмейстер А. И. Дворжицкий, у которого обнаружили 57 ран. Многие раненые умерли позже в госпиталях. Бросивший бомбу И. И. Гриневицкий, являвшийся членом «Народной воли», также получил смертельные ранения и умер в тот же день.
Россия была в настоящем шоке. Террористический акт 1 марта 1881 года был направлен не только против императора – верховного правителя России, но и против самой России и народов, населяющих ее обширное пространство.
Анна Григорьевна, жена Ф. М. Достоевского, которого в то время уже не было в живых, сделала в своих воспоминаниях следующую запись: «Известие о злодействе 1 марта, несомненно, сильно потрясло бы Федора Михайловича, боготворившего царя – освободителя крестьян». Обер-прокурор Синода К. П. Победоносцев в самый день цареубийства направил Александру Александровичу послание, в котором писал: «Бог велел нам переживать нынешний страшный день. Точно кара Божия обрушилась на несчастную Россию. Хотелось бы скрыть лицо свое, уйти под землю, чтобы не видеть, не чувствовать, не испытывать. Боже, помилуй нас.
Но для Вас этот день еще страшнее, и, думая о Вас в эти минуты, что кровав порог, через который Богу угодно было провести Вас в новую судьбу Вашу, вся душа моя трепещет за Вас страхом неизвестного грядущего на Вас и на Россию, страхом великого несказанного бремени, которое на Вас положено. Любя Вас как человека, хотелось бы как человека спасти Вас от тяготы в привольную жизнь, но нет на то силы человеческой, ибо так благоволил Бог. Его была святая воля, чтобы Вы для этой цели родились на свет и чтоб брат Ваш возлюбленный, отходя к Нему, указал Вам на земле свое место.
…Вам достается Россия смятенная, расшатанная, сбитая с толку, жаждущая, чтобы ее повели твердою рукою, чего она хочет и чего не хочет и не допустит никак…»
В обширной литературе, посвященной Александру II, встречаются резко противоположные оценки его царствования и исторической роли проведенных им реформ.
П. А. Кропоткин, бывший в свое время камер-пажом Александра II и близко общавшийся с царем, вспоминал: «Многие не понимали, как могло случиться, чтобы царь, сделавший так много для России, пал от руки революционеров. Но мне пришлось видеть первые реакционные проявления Александра II и следить за тем, как они усиливались впоследствии; случалось также, что я мог заглянуть в глубь его сложной души, увидеть в нем прирожденного самодержца, жестокость которого была только отчасти смягчена образованием, и понять этого человека, обладавшего храбростью солдата, но лишенного мужества, государственного деятеля, – человека сильных страстей, но слабой воли, – и для меня эта трагедия развивалась с фатальной последовательностью шекспировской драмы».
Поэт Некрасов выразит свое отношение к реформам коротко такими словами: «Порвалась цепь великая, порвалась и ударила, одним концом по барину, другим по мужику».
Историк С. М. Соловьев напишет в набросках «О современном состоянии России»: «Легко было завинчивать при Николае I, легко было взять противоположное направление и поспешно-судорожно развинчивать при Александре II, но тормозить экипаж при этом поспешном судорожном спуске было дело чрезвычайно трудное. Оно было бы легко при правительственной мудрости, но ее-то и не было. Преобразования проводятся успешно Петрами Великими, но беда, если за них принимаются Людовики XVI и Александры II…»
Профессор В. О. Ключевский так оценит реформы Александра II: «Одной рукой он (император Александр II. – Ю. К.)даровал реформы, возбуждал в обществе самые отважные ожидания, а другой – выдвигал и поддерживал слуг, которые их разрушали…» Александр II, по мнению историка, не стал и «самодержавным провокатором», «все его великие реформы, непростительно запоздалые, были великодушно задуманы, спешно разработаны и недобросовестно исполнены кроме разве реформы судебной и воинской…».
Действительно, в последние годы жизни Александр II часто был несамостоятелен в своих решениях. Такие его современники, как Д. А. Милютин и М. Лорис-Меликов, по-разному понимали благо России. Негативный оттенок всему придавало и то обстоятельство, что все больше и больше его главным советником по целому кругу вопросов становилась его морганатическая супруга Е. М. Юрьевская. Личный аспект в принятии конституции, изменение и узаконение нового брака для придания его супруге статуса «императрицы Екатерины» входили в планы императора.
Министр двора А. В. Адлерберг выскажется по этому поводу следующим образом: «Мученическая кончина Государя, быть может, предотвратила новые безрассудные поступки и спасла блестящее царствование от бесславного и унизительного финала».
Много, много лет спустя, вспоминая страшный день 1 марта 1881 года, императрица Мария Федоровна, находясь в положении беженки в Крыму, напишет в своем дневнике: «Поднялась рано, вспомнила страшный день двадцативосьмилетней давности, день восшествия на престол. Как это было ужасно! Все представлялось в туманном и мрачном свете. И все же по воле Господа вновь воссияло солнце. Он благословил моего любимого Сашу и всю страну и подарил нам 13 лет мира и счастья!»
Экономические последствия «великих реформ» были неутешительными. Жесточайший политический кризис, государственный долг России вырос в три раза и составил шесть миллиардов рублей. 500 миллионов было затрачено на проведение Крестьянской реформы, полтора миллиарда стоили Крымская и Русско-турецкая войны, миллиард ушел на строительство 20 тысяч верст железных дорог.
Следствием так называемых «либеральных» реформ был резкий рост преступности – в 2,7 раза больше в сравнении с царствованием императора Николая I.
С. Ю. Витте позже напишет в своих воспоминаниях: «Александр III взошел на престол, не только окровавленный мученической кровью своего отца, но и во время смуты, когда практика убийств снова приняла серьезные размеры… После тринадцатилетнего царствования он оставил Россию сильной, спокойной, верующей в себя и с весьма благоустроенными финансами. Он внушал к себе общее уважение, ибо он был царь миролюбивый и высоко честный».