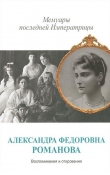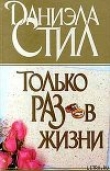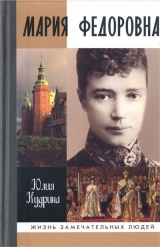
Текст книги "Мария Федоровна"
Автор книги: Юлия Кудрина
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 42 страниц)
ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР III И ИМПЕРАТРИЦА МАРИЯ ФЕДОРОВНА
Восшествие на престол
Назначенное Александром II обсуждение в Совете министров проекта конституции Лорис-Меликова было перенесено в связи с трагическими событиями на 8 марта.
За два дня до совещания, 6 марта, Победоносцев отправил царю письмо, решившее судьбу и министра внутренних дел, и его сторонников. В нем говорилось:
«Не оставляйте Лорис-Меликова, я не верю ему. Он фокусник и может еще играть в двойную игру. Если Вы отдадите себя в руки ему, он приведет Вас и Россию к погибели. Он умел только проводить либеральные проекты и вел игру внутренней интриги. Но в смысле государственном он сам не знает, чего хочет, – что я сам высказывал неоднократно. И он – не патриот русский. Берегитесь, ради Бога, Ваше величество, чтобы он не завладел Вашей волей, и не упускайте времени.
Новую политику надобно заявить немедленно и решительно. Надобно покончить разом именно теперь все разговоры о свободе печати, о своеволии сходок, о представительном собрании. Все это ложь пустых и дряблых людей, и ее надобно отбросить ради правды народной и блага народного».
Во время заседания были высказаны разные прямо противоположные точки зрения. Из выступления графа Строганова: «Мера эта вредна потому, что с принятием ее власть перейдет из рук самодержавного монарха, который для России, безусловно, необходим, в руки разных шалопаев, думающих не о пользе общей, а только о своей личной выгоде… Путь этот ведет прямо к конституции, который я не желаю ни для вас, ни для России».
То, как проходило совещание, подробно изложил в своем письме К. П. Победоносцев: «…Первым высказался против (проекта. – Ю. К.)Строганов – кратко, но энергически. Затем Валуев, Абаза, Милютин сказали напыщенные отвратительные речи о том, что вся Россия ждет этого благодеяния. Милютин при этом обмолвился о народе как о неразумной массе, Валуев вместо слова „народ“ употребил „народы“. Говорили дальше Набоков, Сабуров и прочие. Только Посьет и Маков высказались против. Но когда обратились ко мне, я не мог уже сдерживать волнения негодования. Объяснив всю фальшь учреждения, я сказал, что стыд и позор покрывают лицо, когда подумаешь, в какие минуты мы об этом рассуждаем, когда лежит еще не погребенным труп нашего Государя. А кто виновен в том? Что мы делали все это время в его царствование? Мы говорили, говорим, слушали себя и друг друга, и всякое из его учреждений превратилось у нас под руками в ложь, и дарованная им свобода стала ложью. А в последние годы – в годы взрывов и мин, что мы делали, чтобы охранять его. Мы говорили – и только. Кровь его на нас…»
Государь закончил совещание словами, что дело это слишком сложное и надобно его рассмотреть подробно в особой комиссии, а потом в Кабинете министров.
21 апреля Александр III писал Победоносцеву из Гатчины: «Сегодняшнее наше совещание сделало на меня грустное впечатление. Лорис, Милютин и Абаза положительно продолжают ту же политику и хотят так или иначе довести нас до представительного правительства, но пока я не буду убежден, что для счастья России это необходимо, конечно, этого не будет, я не допущу. Вряд ли, впрочем, я когда-нибудь убеждусь в пользе подобной меры – слишком я уверен в ее вреде. Страшно слушать умных людей, которые могут серьезно говорить о представительном начале в России, точно заученная фраза, вычитанная ими из нашей паршивой журналистики или бюрократического либерализма. Более и более убеждаюсь, что добра от этих министров ждать я не могу! Дай Бог, чтобы я ошибался! Не искренни их слова, не правдой дышат. Вы могли слышать, что Владимир, мой брат, правильно смотрит на вещи и, совершенно как я, не допускает выборного начала. Трудно и тяжело вести дело с подобными министрами, которые сами себя обманывают!»
29 апреля 1881 года был объявлен царский манифест. В нем, в частности, говорилось:
«Господу Богу угодно было в неисповедимых путях Своих поразить Россию роковым ударом и внезапно отозвать к Себе благодетеля, Государя Императора Александра II. Он пал от святотатственной руки убийц, неоднократно покушавшихся на Его драгоценную жизнь. Они посягали на сию столь драгоценную жизнь, потому что в ней видели оплот и залог величия России и благоденствия Русского народа…
Повторяя данный родителем нашим священный перед Господом Вседержителем обет посвятить по завету наших предков всю жизнь нашу попечениям о благоденствии, могуществе и славе России, Мы призываем наших верноподданных соединить их молитвы с Нашими мольбами пред Алтарем Всевышнего и повелеваем им учинить присягу в верности Нам и Наследнику Нашему, Его Императорскому Высочеству Цесаревичу Великому Князю Николаю Александровичу…»
2 (14) мая 1881 года Мария Федоровна писала своей матери королеве Луизе:
«В последние дни у Саши было много неприятностей с министрами. Лорис-Меликов подал в отставку (что вообще-то хорошо), и Саша не стал его удерживать. Однако самым неприятным было то, что и министр финансов Абаза также подал в отставку, а это уже большая потеря, так как он прекрасно распоряжается финансами и его будет трудно кем-либо заменить. Я нахожу действия этих господ в такой момент уйти в отставку подлыми и гнусными. Они всегда ставят свои личные интересы выше патриотических, что просто отвратительно!»
В письме от 8 (20) мая 1881 года она вновь продолжала эту тему:
«Сначала они кричали, что нет никакого манифеста, который содержал бы программу действий. А теперь, когда Саша предъявил новый программный документ, в котором он показывает, каким путем он хочет идти, они еще громче стали кричать, что этот документ не отвечает их намерениям. Но это только в Петербурге, но Петербург это еще не вся Россия. А внутри (по всей стране) манифест прочли с большим энтузиазмом. Так что это только очень небольшая группа, во главе которой стоит Лорис-Меликов и Абаза, которая желает чего-то большего.
Первый был недавно здесь, чтобы заявить о своей отставке. Выглядел он, однако, смущенным и сидел „поджав хвост“. Со мною он был, однако, достаточно корректен (таким, впрочем, он был в предыдущие месяцы, но все его поведение было фальшивым). Сидел он как на иголках.
Я чувствовала себя очень скованно, потому что была очень рассержена, и мне приходилось контролировать себя для того, чтобы не выглядеть неприятной. Из-за этого у меня было такое сильное сердцебиение, что я едва могла говорить. Я сказала ему, что я очень сожалею, что он в такой момент хочет уйти, тем более что Саша с первого дня его назначения поддерживал его постоянно во всем. На это он ответил: „Да, я это знаю. И я со своей стороны (тоже) просил Государя сохранить добрые воспоминания обо мне как о человеке, хотя я не мог удовлетворить его, будучи министром“. Пустые, ничего не значащие фразы! Еще он сказал, что надеется, что все с Божьей помощью наладится! Я ответила, что только это и является единственным утешением и надеждой, так как на людей в действительности трудно положиться – я имела в виду его. После этого, пожелав ему наилучшего, я распрощалась с ним».
По словам писателя А. И. Солженицына, «убийство царя-освободителя произвело полное сотрясение народного сознания на что и рассчитывали народовольцы, но что с течением десятилетий упускалось историками – кем сознательно, кем бессознательно… Убийство 1 марта 1881 г. вызвало всенародное смятение умов. Для простонародных, и особенно крестьянских масс, как бы зашатались основы жизни. Опять же, как рассчитывали народовольцы, это не могло не отозваться каким-то взрывом. И отозвалось. Но непредсказуемо: еврейскими погромами в Новороссийске и на Украине».
Действительно, через шесть недель после цареубийства погромы еврейских заведений, как пишет исследователь Ю. Гессен, «внезапно с громадной эпидемической силой охватили обширную территорию. Действительно… сказались черты стихийного характера».
В мае во время встречи с депутацией видных столичных евреев во главе с бароном Г. Гинцбургом Александр III заявил, что «в преступных беспорядках на юге России евреи служат только предлогом, что это дело рук анархистов». Аналогичные заявления последовали и от брата Александра III великого князя Владимира Александровича. Он сказал барону Г. Гинцбургу: «Беспорядки, как теперь обнаружено правительством, имеют своим источником не возбуждение исключительно против евреев, а стремление к произведению смут вообще».
И. С. Тургенев, опубликовавший во французском журнале статью, в которой дал характеристику молодому императору, писал: «Что касается нигилистов, которые предполагают, что император из страха может пойти на весьма большие уступки, даже на конституцию, то они жестоко ошибаются, совершенно не учитывая его характер и энергию. Их попытки запугать могут только остановить его на том пути к либерализму, куда ведет его природная склонность; если он сделает несколько шагов в этом направлении, это будет вовсе не потому, что они его запугивают, а несмотря на то, что они угрожают ему…»
Гатчина
После похорон Александра II императорская семья переехала в Гатчину. 29 марта (10 апреля) 1881 года Мария Федоровна в письме своей матери сообщала: «На следующий день после отъезда в Данию брата Фреди, сестры Александры, которые присутствовали на похоронах Александра II, семья отправилась в Гатчину. Сначала это было для меня просто невыносимо. Но теперь, когда мы здесь уже достаточно мило и уютно устроились, я начинаю находить Гатчину намного привлекательней, чем раньше. Здесь очень спокойно. После отъезда Фреди и Аликс Аничков стал ведь совсем пустым.
Но первый день, когда мы прибыли сюда, был ужасен. Ремонтные работы еще не были окончены, так как у рабочих не было времени привести все в порядок. Они работали во всех помещениях, было холодно и отвратительно.
Малышей мне пришлось оставить, так как маленький был простужен и его нельзя было выносить из дома. Мне стоило много сил и переживаний, чтобы покинуть любимый, уютный дом в Аничкове и отправиться в середине зимы в этот огромный, пустой и необжитой дворец. Но я старалась скрыть слезы, так как бедный Саша с таким нетерпением хотел уехать прочь из города, который был ему просто ненавистен после всего ужаса и горя, которые он там испытал».
2 (14) апреля в письме матери Мария Федоровна продолжала описывать подробности их новой жизни в Гатчине:
«Мальчиков мы никогда не пускаем гулять одних. Они всегда ходят в нашем сопровождении, и мы пытаемся оградить их от всего горестного и неприятного, чтобы они не чувствовали то давящее время, в котором мы теперь живем, так как это может пагубно отразиться на них, так как первые детские жизненные впечатления всегда очень сильны.
Ники часто с интересом спрашивает, как прошло слушание дела в суде. Обо всем этом и о том, что эти шесть подлецов должны быть повешены, мы ему рассказали. Не сказали только точный день, когда это произойдет, чтобы он не думал об этом слишком много. Но это должно произойти 3(14) апреля на Семеновской площади. Приняты усиленные меры безопасности, чтобы народ не набросился на преступников, которые в подобном случае могут быть разорваны на куски…»
29 марта после трехдневного заседания суда Особого присутствия Правительствующего сената на основании статей Уложения о наказаниях судьи вынесли приговор. Согласно ему Андрей Желябов, Софья Перовская, Николай Кибальчич, Тимофей Михайлов и Николай Рысаков были приговорены к смертной казни через повешение. Г. Гельфман, еще одной подсудимой, смертная казнь была отложена из-за беременности. Казнь состоялась 3 апреля 1881 года на Семеновском плацу.
Гатчину, расположенную в сорока километрах к юго-западу от Санкт-Петербурга, неподалеку от Царского Села, в 1783 году Екатерина II подарила своему сыну великому князю Павлу Петровичу. Император Павел I сделал дворцово-парковый ансамбль Гатчины одним из лучших образцов раннего русского классицизма. В середине XIX века дворец был перестроен по проекту архитектора Р. И. Кузьмина. Дворец состоял из двух колоссальных прямоугольных корпусов с большими внутренними дворами, соединенными вместе узким большим полукругом в несколько этажей. На крыше главного корпуса были две пятиугольные башни. Во дворце перед парадным входом находился памятник императору Павлу I.
Внутренняя отделка апартаментов была выполнена по эскизам А. Ринальди и В. Ф. Бренна. Изысканный паркет, бронзовые люстры, мебель в стиле Людовика XVI – все это производило сильное впечатление на посетителей.
Галереи Гатчинского дворца хранили богатые коллекции предметов искусства. В Китайской галерее были собраны еще со времен Екатерины II, Павла I и Александра I редкие изделия из фарфора и агата. В так называемой Чесменской галерее на стенах висели четыре большие копии с картин Геккерта, на которых было изображено сражение русских с турками в Чесменской бухте в 1768 году, окончившееся победой русских моряков. На стенах дворца были и другие картины, гобелены и гравюры, запечатлевшие подвиги солдат и моряков еще во времена царствования Петра I, императрицы Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны, Екатерины Великой. Таким образом, каждый уголок Гатчины напоминал о былом величии России под скипетром Романовых.
Хотя Гатчинский дворец был огромен (в нем насчитывалось более девятисот комнат), Александр III с семьей жил не в парадных помещениях, а в скромных небольших комнатах, в так называемых антресолях, где во времена императора Николая I жила прислуга. Александр III, будучи большого роста, предпочитал маленькие комнаты. Все роскошные помещения дворца были предоставлены для официальных приемов. Кабинет императора, помещавшийся в бельэтаже Арсенального каре дворца, представлял собой также довольно скромное помещение. Леди Черчилль, посетившая Гатчинский дворец во время своего визита в Россию в 1889 году, отмечала: «Они (семья Александра III. – Ю. К.)живут с большой простотой, в небольших комнатах, что составляет резкий контраст с величавой фигурой царя и его величественной осанкой. Манеры Его Величества так же просты, как и вкусы». Дворец был окружен парком, который разделялся на две части рекой и искусственными озерами, вырытыми еще в середине XVIII века.
После гибели императора Александра II и ряда террористических актов, направленных уже против Александра III и членов его семьи, в Гатчине были введены исключительные меры безопасности. Для несения сторожевой службы были задействованы несколько полков: полк Синих кирасир и Свободнопехотный полк – для личной охраны царя. В него входили представители всех гвардейских полков. Любопытен тот факт, что в течение многих лет командиром одного из охранных подразделений был финн Фредрик Бьёрнберг. Солдатские казармы находились здесь же, на территории полка.
Несмотря на это, император, будучи по натуре человеком смелым и хорошо понимая, что даже самые строгие полицейские меры не могут полностью гарантировать ему и его семье безопасность, продолжал открыто появляться на людях, в общественных местах, в театрах, на выставках. По воспоминаниям младшей дочери Александра III великой княгини Ольги Александровны, полковые солдаты и матросы были настоящими друзьями царских детей и всех членов царской семьи. На парковой территории дворца постоянно присутствовали также и люди другой специальной охраны – детективы в штатском, от внимания которых, естественно, не мог укрыться ни один посторонний человек.
А факты были малоутешительны. Так, уже во время погребения Александра II заговорщики готовили очередное покушение, но теперь уже на Александра III и находившегося тогда в Санкт-Петербурге наследного принца прусского. Градоначальнику Н. М. Баранову удалось арестовать девятнадцать заговорщиков.
По распоряжению начальника охраны императора генерала П. А. Черевнина охрана в Петергофе была увеличена с пятидесяти до ста человек. Узнав об этом, Александр III послал Черевнину бумагу следующего содержания:
«Несмотря на мои частые повторения, что я не желаю, чтоб, когда я выезжаю, за мною ездили мушары и проч., я опять замечаю, что приказание мое не исполняется. Я не знаю, Ваши ли это люди или Грессера (генерал-адъютант, петербургский градоначальник в 1882–1892 годах – Ю. К.),но прошу распорядиться, чтобы этого более не было, как мера совершенно лишняя и, конечно, ни к чему не ведущая. Я разрешил Грессеру, когда он находит нужным, самому иногда следовать за мною, когда известно, куда я еду, но кроме него я не разрешаю никому, потому что считаю эту меру глупою и весьма неприглядною.
Когда я еду по заведениям или госпиталям, всегда все полицейское начальство той местности является туда, и, конечно, этого достаточно. Прошу в этот раз сделать распоряжение раз и навсегда, и чтобы не приходилось мне повторять это каждый год снова; мне это надоело. Я никогда не мешаю Вам и Грессеру принимать меры, которые Вы находите нужными, но следовать за собой положительно запрещаю».
Александр III очень любил Гатчину. Как вспоминал С. Д. Шереметев, в Гатчине «он много ходил, наслаждался прогулками с семьею, словно помещик в своей усадьбе. Прогулки по окрестностям и пикники в лесу были особенно приятны и даже оживленны… Но оживление это было не светское, а особого свойства, особенно ему любезного. Оживление придавали дети, уже достигшие того возраста, когда они всего забавнее и веселее».
Оставаясь в Гатчине один или с детьми, когда Мария Федоровна вынуждена была покинуть мужа, уезжая то на Кавказ – навестить больного сына Георгия, то в Данию – с визитом к своим родителям, Александр III регулярно писал жене письма, рассказывая о своей жизни в Гатчине, о детях. Письмо от 18 апреля 1884 года: «В 11 часов поехали к обедне в милую нашу церковь. Утро было хорошее, тепло и тихо, и во время обедни соловей пел все время, так это было оригинально и мило!» Прогулки с отцом по паркам Гатчины дети обожали. Великая княгиня Ольга Александровна вспоминала: «Настоящим праздником были те дни, когда, услышав, как часы на башне дворца бьют три раза, мы получали сообщение о том, что Его Императорское Величество позволит взять нас с собой в гатчинские леса.
Мы отправлялись в Зверинец – парк, где водились олени, – только мы трое и больше никого. Мы походили на трех медведей из русской сказки: отец нес большую лопату, Михаил – поменьше, а я совсем крохотную. У каждого из нас был также топорик, фонарь и яблоко. Если дело происходило зимой, то отец учил нас, как аккуратно расчистить дорожку, как срубить засохшее дерево. Он научил нас с Михаилом, как надо разводить костер; наконец, мы пекли на костре яблоки, заливали костер и при свете фонарей находили дорогу домой. Летом отец учил нас читать следы животных. Очень часто мы приходили к какому-нибудь озеру, и Папа́ учил нас грести. Ему так хотелось, чтобы мы научились читать книгу природы так же легко, как это умел делать он сам. Те дневные прогулки были самыми дорогими для нас уроками».
В тяжелый 1881 год Мария Федоровна, естественно, не могла посетить Данию и поэтому в письмах к отцу настойчиво просила его приехать в Санкт-Петербург навестить их. Кристиан IX обещал дочери выполнить ее просьбу, но его беспокоила мысль о необходимости соответствовать российской экстравагантности. В письме дочери он писал, что в случае его с королевой визита в Санкт-Петербург он желал бы жить как можно ближе к Минни, но не во дворце, а в более изолированной обстановке.
Визит датской королевской четы состоялся поздней осенью 1881 года. Прием, оказанный им, был очень торжественным. Почетных гостей в Кронштадтском порту встречали император и императрица, а также большая свита из особ императорской фамилии, светские дамы, великие князья и княжны, придворные кавалеры.
Находясь в России, датская королевская чета, опасавшаяся разгула в России нигилизма, о котором постоянно писали западноевропейские газеты, была удовлетворена увиденным – той положительной лояльностью, с которой российские граждане относились к молодой императорской чете. Это отмечал в письме дочери датский король по возвращении в Данию: «В России мы часто были свидетелями лояльности Вашего народа по отношению к тебе и твоему прекрасному Саше. Было бы хорошо, если бы у всех русских добропорядочных людей шире бы открылись глаза и они скорее увидели бы и поняли, сколь благородна их молодая императорская чета. Тогда бы у так называемых нигилистов быстрее ушла бы почва из-под ног». Воспитанный в духе западноевропейских демократических традиций и вынужденный осуществлять свое монархическое правление в рамках системы ограниченного самодержавия и парламентаризма, Кристиан IX вместе с тем понимал, сколь опасны были в тот период в России воинственные выступления панславистов. В письмах дочери он и раньше осторожно пытался дать свои советы. 14 (26) апреля 1881 года он писал: «Я, конечно, никогда не вмешиваюсь в вопросы развития российской политической жизни и предпочитаю помалкивать, но в настоящее время считаю своим долгом высказать мнение по некоторым проблемам теперешней политической ситуации в России». При этом он добавлял: «Если ты не сочтешь нужным сообщить об этом своему дорогому Саше, ты можешь этого не делать…»
«…Ты должна знать о том, что я часто благодарю Всемогущего Господа за то, что он ниспослал нам такого ангела-дочь, ибо не только мы, твои родители, горды нашим ангелом Минни, но и, поистине, вся твоя старая, честная Родина, доказательством чего могут служить приветствия тебе от Ригсдага и от Гражданского представительства Копенгагена.
Я очень радовалась всему тому, что твой любимый Саша до сих пор предпринимал как самодержец. И то, что эти подлые убийцы были казнены, – это была совершенно необходимая и правильная мера, ибо помилование было бы истолковано как страх и слабость.
Однако теперь, когда эти негодяи наказаны, настало, как мне кажется, время, когда наш любимый Саша должен провести в жизнь некоторые политические законопроекты, которые ушедший из жизни Император собирался дать своему народу и не успел и которые, возможно, могли бы спасти его драгоценную жизнь. К тому же они уже введены во всем цивилизованном мире. И теперь, возможно, в России будут восприняты с ликованием и благодарностью, а также будут работать на уничтожение подлого нигилизма. Я не хочу рекомендовать, чтобы дорогой Саша создал законодательный орган, но учреждение совещательного органа или совета могло бы стать переходным органом к созданию первого парламентского представительства.
То, что уже делается в России так много для проведения политики контроля над финансами – это прекрасно, но мне представляется крайне необходимым введение жестокого контроля над чиновниками, чтобы те не имели возможности злоупотреблять своим положением в целях собственного обогащения. Но в случае подобных злоупотреблений все чиновники, как низшие, так и занимающие высшие посты, должны быть наказаны по закону.
Вероятно, во всей огромной России не найдется другого такого человека, как твой дорогой Саша, который так бы сильно любил свою страну и который имел бы такие благородные цели и желания видеть ее счастливой и чтобы права каждого гражданина страны были бы защищены законом. Саша, вероятно, лучше всех других знает и понимает, что нужно делать и о чем необходимо позаботиться, чтобы добиться этого. Но в большом государстве это огромная работа, поэтому Саша должен найти себе умных и надежных помощников. Со своими строгими воззрениями он, конечно, будет в состоянии найти их, особенно если он спросит совета у своей маленькой жены, которая отменно разбирается не только в лошадях, но и в людях…»
Коронация
15 мая 1883 года в Успенском соборе Московского Кремля состоялась коронация императора Александра III и императрицы Марии Федоровны, а 26 мая – торжественное освящение храма Христа Спасителя.
Церемония коронации – торжественный государственный акт, когда император благословлялся Церковью на исполнение не только государственной, но и церковной власти, – была проведена в соответствии со специальным «Церемониалом Священного Коронования их Императорских Величеств Государя императора Александра Александровича Самодержца Всероссийского и Государыни императрицы Марии Федоровны», утвержденным императором.
Рано утром 8 мая император и императрица с детьми прибыли в Москву. Согласно традиции царская чета остановилась в старом Петровском дворце, построенном по распоряжению Екатерины II в конце XVIII века архитектором М. Ф. Казаковым. Петровский дворец повидал на своем веку много исторических лиц и пережил много событий. Здесь перед въездом в Москву останавливались все русские цари.
Сохранилось письмо, в котором императрица Мария Федоровна делилась с матерью своими переживаниями тех исторических дней, когда «они с Сашей венчались на царство». Она писала:
«Вечером мы всей семьей были в церкви в течение продолжительного времени. Перед исповедью священник долго читал прекрасные молитвы. После посещения церкви я, слава Богу, почувствовала себя намного спокойнее. Мы с Вальдемаром (братом Марии Федоровны. – Ю. К.)поужинали вдвоем и были вместе примерно до 11.30 вечера. Затем, чтобы исповедовать меня, пришел Янышев. После этого мы отправились спать. Я, к счастью, смогла заснуть, но бедный Саша всю ночь не сомкнул глаз, а в 7 часов, разбуженные пушечными выстрелами, возвестившими о начале торжеств, мы поднялись.
В 9 часов утра с бьющимися сердцами и слезами на глазах покинули наши покои. Не могу тебе описать, что творилось в моем сердце! Я чувствовала себя жертвой перед закланием. Серебряное коронационное платье с длинным шлейфом, на голове – ничего и только на шее – маленькое жемчужное ожерелье, чтобы не казаться обнаженной».
Гостей, приехавших на коронацию, было много. Среди них – герцог и герцогиня Эдинбургские, князь Николай Черногорский, принц Фридрих Вильгельм, будущий император Фридрих III, Александр Баттенбергский – правитель Болгарии и многие другие. Великий князь Александр Михайлович, присутствовавший на коронации, оставил описание событий того дня: «Ровно в 10 часов утра царь вышел из внутренних покоев, сел верхом на коня и подал знак к отбытию. Он ехал один, впереди нас всех, эскадрон кавалергардов ехал впереди кортежа и возвещал его приближение народу и войскам которые стояли шпалерами вдоль всего пути следования Длинный поезд золотых карет следовал за нашей кавалькадой. В первом экипаже сидела императрица Мария Федоровна с восьмилетней великой княжной Ксенией и королевой греческой Ольгой. Остальные великие княгини, принцессы королевской крови и заслуженные статс-дамы разместились в остальных каретах кортежа.
Громкое „ура“ сопровождало нас по всему пути следования до Иверской часовни, где император сошел с коня и в сопровождении императрицы вошел в часовню, чтобы поклониться иконе Иверской Божьей Матери».
Многие в России опасались тогда, что в день коронования может случиться непредвиденное, – всем была памятна дата 1 марта 1881 года – день убийства императора Александра II. И хотя министр внутренних дел Д. А. Толстой постарался сделать все, чтобы обеспечить безопасность императора и императорской семьи на всем пути следования от Петровского дворца до Кремля, полную безопасность гарантировать, естественно, никто не мог. 16 мая П. И. Чайковский в письме баронессе фон Мекк писал: «…Так приятно было читать в газетах известия о благополучном, блестящем въезде царя в Москву. Несмотря на принятые меры, я все же иногда побаивался, что найдутся безумцы, которые не затруднятся посягнуть на жизнь его. Ведь так легко из окна дать выстрел, и можно ли было поручиться, что в эту громадную толпу зрителей не вмешается хитростью злоумышленник. Но, слава Богу, все окончилось благополучно».
Император и императрица на коленях молились в Иверской часовне перед образом Пречистой Владычицы. Далее Александр III и Мария Федоровна торжественно взошли на Красное крыльцо. Флигель-адъютант императора граф С. Д. Шереметев, находившийся в свите императорской семьи, дал яркое описание событий того торжественного дня: «…Вот начинается шествие. По два в ряд двинулись из Грановитой палаты… Долго шли камер-фурьеры, камер-юнкера, камергеры и проч[ие] чины. Красиво было видеть красную вереницу фрейлин… Гудит Иван Великий, и вся Кремлевская площадь, переполненная народом, замирает в ожидании Царя. Все взоры устремлены на Красное крыльцо. Теснее выступают сановники, вот и Государственное знамя.
Яркий луч солнца ударил на Красное крыльцо, облака быстро разошлись… В это мгновенье в дверях Грановитой палаты показался Государь. Он весь освещен был солнцем…
Что-то было невыразимое, когда при звоне всех колоколов раздались крики народа и все слилось в одно протяжное, непрерывающееся восторженное „ура“!»
Масса народа собралась на Соборной площади Кремля. Огромный помост, сооруженный от Красного крыльца до Успенского собора, амфитеатром расположенные трибуны вмещали тысячи гостей. Толпы простого народа заняли все свободное пространство в Кремле и за кремлевскими стенами.
«В тот момент, когда мы вышли на Красное крыльцо, – рассказывала Мария Федоровна своей матери, – ярко светило солнце, и мы торжественно прошли под балдахином до самого Собора…» Царский балдахин из золотой парчи, украшенный перьями, несли 16 генералов и 16 генерал-адъютантов. В дверях Успенского собора императора и императрицу встретил митрополит Иоанникий и произнес приветственную речь.
«Государь вступил в Собор, – писал граф С. Д. Шереметев, – колокола замолкли, служба началась. На площади стало тихо. Снова показались облака, закапал дождь, поднялись зонтики, и вся площадь приняла совершенно иной вид…»
«Мы вошли в древний Успенский собор, до отказу наполненный народом, – рассказывала Мария Федоровна, – и остановились в центре на возвышении перед двумя престолами. Рядом со мной встал Вальдемар. Это вызвало у меня прилив радостных чувств. Церемония началась с того, что Саша должен был прочитать вслух „Символ веры“. После этого – церемония возложения порфиры (мантии. – Ю. К.)и бриллиантовой цепи ордена Андрея Первозванного, затем читалось Евангелие, а потом Саше была преподнесена корона. Он торжественно возложил ее на голову. Корона очень ему шла.
Саше подали Скипетр и Державу, он взял их и держал в обеих руках. Вальдемар положил у его ног большую бархатную подушку, на которую я должна была опуститься на колени. Когда я преклонила колени, Саша торжественно одел мне на голову „Малую корону“. Статс-дамы стали закреплять ее у меня на голове, но булавки все время попадали мне прямо в голову, что было очень неприятно.
В следующий момент Саша торжественно надел на меня порфиру, украшенную лентой, на которой красовался орден Андрея Первозванного. Статс-дамы снова прочно закрепили все на моей одежде».
Гром орудий и трезвон колоколов возвестили о возложении венца. До слуха долетали возгласы многолетия после провозглашения полного титула. По словам Марии Федоровны, «очень волнующим был момент, когда Саша, преклонив колени, читал вслух прекрасную молитву (речь идет о молитве „Господи Боже отцев и царю царствующих“. – Ю. К.) – Его голос звучал спокойно и величественно, и в соборе было отчетливо слышно каждое произнесенное им слово. Все замерли и внимательно слушали… Все присутствовавшие были очень растроганы, многие плакали. Все было очень-очень торжественно и проникновенно волнующе».